
У нас в гостях был настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы Одинцовского района протоиерей Павел Карташёв.
Мы говорили о том, как в сказках преподносятся христианские и нравственные ценности, как их увидеть и почему сказки могут быть полезны не только детям, но и взрослым.
Все выпуски программы Светлый вечер
Послание к Евреям святого апостола Павла

Евр., 305 зач., II, 2-10.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.
Закон гражданский и закон церковный, закон общественный и закон евангельский — как они соотносятся? Может быть, они взаимоисключают друг друга, или, напротив, они друг другу тождественны и взаимозаменимы? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 2-й главы послания апостола Павла к Евреям, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Глава 2.
2 Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,
3 то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,
4 при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?
5 Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим;
6 напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его?
7 Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих,
8 все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;
9 но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.
10 Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания.
Только что прозвучавший отрывок апостол Павел адресует христианам, которые пришли в Церковь Христову из иудейской религии. Начинает он с того, что подчёркивает уникальность евангельского откровения. Согласно древним иудейским преданиям, Моисей получил закон от Бога на горе Синай в присутствии ангелов. Благодаря этому закону у людей сформировались представления о том, какие поступки разрушают общественные отношения и уводят человека от Бога. Поэтому и говорит Павел, что через ангелов было возвещено слово, которое, во-первых, указывало, что считать преступлением и непослушанием, а, во-вторых, устанавливало за эти нарушения определённую меру наказания.
И далее апостол продолжает. Если еврейский народ с огромным уважением и благоговением относился к этому закону, стремился скрупулёзно исполнять все его предписания, то насколько тщательней люди должны исполнять тот закон, который дан им Богом лично. Насколько внимательней они должны относиться к словам Иисуса Христа и стремиться их воплотить в своей жизни. Ведь то, что дал людям Спаситель, — это полнота Истины, полнота откровения. Другими словами, Господь дал людям такое знание о Боге, к которому уже ничего невозможно добавить. Ни одна из существующих религий не сможет никогда предложить ничего более высокого и совершенного. Евангелие открывает о Боге истину, которая в рамках нашей земной истории является предельной.
В чём же заключается это откровение? Этому как раз и посвящена вторая часть сегодняшнего отрывка послания апостола Павла к Евреям. Апостол говорит о том, что Творец мира стал таким же, как мы, человеком, прошёл через страдания, умер на кресте и таким образом проложил путь, пройдя по которому, каждый из нас может прийти к той славе, к которой нас предопределил Бог. Вот этот путь и описан в евангельском законе.
Рассуждения апостола Павла и те образы, которые он приводит, могут казаться нам очень схоластичными и оторванными от реальности жизни. Однако это лишь до того момента, пока мы не встаём на путь осознанного, ежедневного исполнения Евангелия. Пока мы не начинаем применять заповеди Христа об отношении к ближним в практике повседневного общения. Тогда мы начинаем остро ощущать, чем отличается наша порядочность и законопослушность перед лицом социальных норм и правил от того образа жизни, который нам предлагает Евангелие.
Откровение, которое было дано через Моисея в присутствии ангелов, подсказывало человеку, как он может быть законопослушным и порядочным перед лицом закона и общества. Подобные кодексы до сих пор существуют в виде социальных правил и норм. Мы руководствуемся ими в своей деятельности, чтобы быть рукопожатными. Но зачастую следование этим предписаниям не наполняет моё сердце, не приносит ему удовлетворения. Откровение, которое дал Христос, подсказывает, в каком направлении двигаться, чтобы исполнить своё предназначение. Чтобы стать тем, кем мне предназначено быть в замысле Создателя. Чтобы найти себя и обрести, наконец-то, мир и радость в своей душе.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Для тех, кто пролистывает описание природы
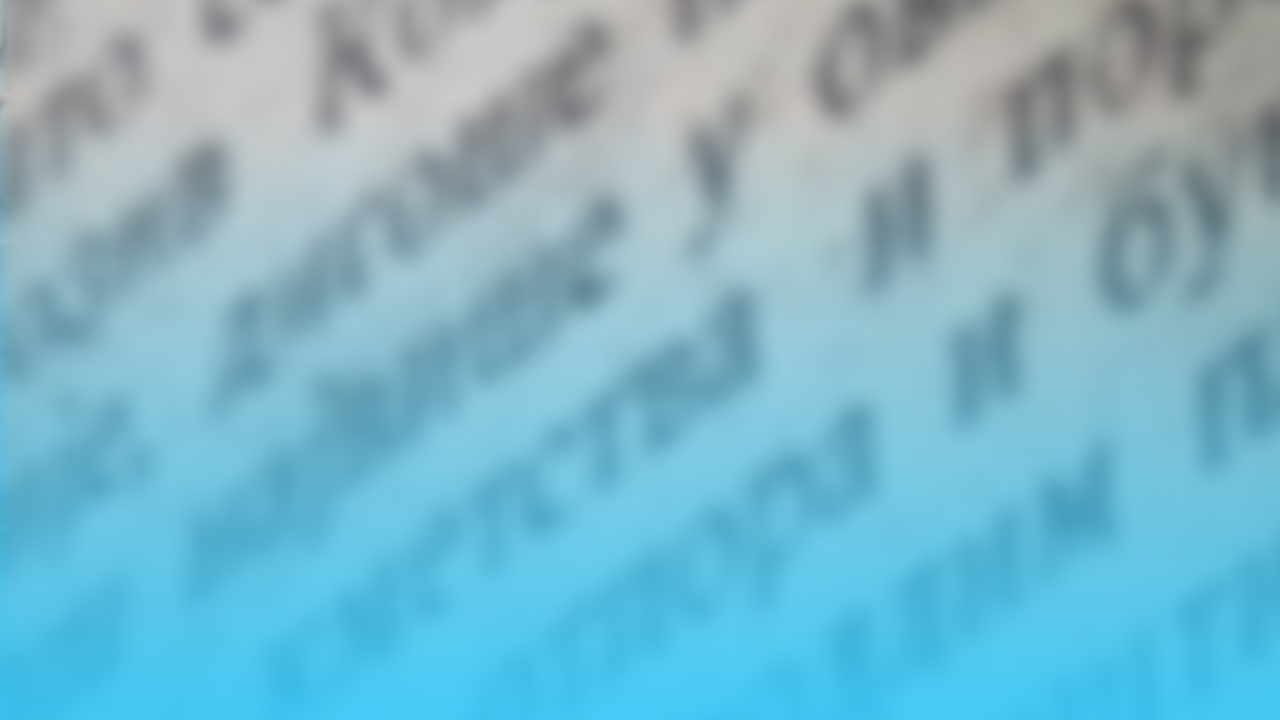
«Опять эти цветочки-мотылёчки!» Подобные слова про описания природы я слышала много раз. И не только от детей, но и от взрослых. И в самом деле, зачем нужны пейзажные зарисовки, например, в приключенческом сюжете. Или в драматическом произведении? Не важнее ли отдать всё внимание перипетиям, действиям, поступкам? Предлагаю поразмышлять о роли пейзажа в литературе.
Во-первых, стоит признать факт, что хороший писатель никогда ничего не добавляет в текст просто так, для красоты. Природа в произведении всегда играет какую-то роль.
Описание пейзажа может предварять какое-то событие. Как музыка в фильме, нарастая, может постепенно добавлять тревожности или, наоборот, придавать романтики сюжету, так и строки о природе создают нужную эмоциональную атмосферу.
Вот, например, отрывок из древнерусского произведения «Слово о полку Игореве» в переложении Николая Заболотского:
«Игорь-князь во злат стремень вступает.
В чистое он поле выезжает.
Солнце тьмою путь ему закрыло,
Ночь грозою птиц перебудила,
Свист зверей несётся, полон гнева,
Кличет Див над ним с вершины древа...»
Нам с вами понятно, что природа передает угрозу, предупреждает Игоря о возможной катастрофе.
Во-вторых, пейзажные описания помогают управлять временем. Например, после динамичного диалога героев произведения автор вдруг переходит к наблюдениям за неким погодным явлением. Таким образом, возникает пауза. Сколько прошло времени? Может быть, минута, а может быть и год.
В-третьих, с помощью описания создается объёмная картина, где задействуются почти все наши органы чувств: «воздух звенел от кузнечиков» — слух. «Горьковатый запах берёзы» — обоняние, «шершавый ствол», «колючая трава» — осязание.
Получается, что, читая пейзажную зарисовку, мы развиваем чувство красоты, наблюдательность и внимание к деталям.
Напоследок хочу вспомнить слова поэта Ивана Бунина:
Нет, не пейзаж влечёт меня,
Не краски жадный взор подметит,
А то, что в этих красках светит:
Любовь и радость бытия.
Автор: Нина Резник
Все выпуски программы: Сила слова
Давайте делать паузы в словах. Умеем ли мы молчать?
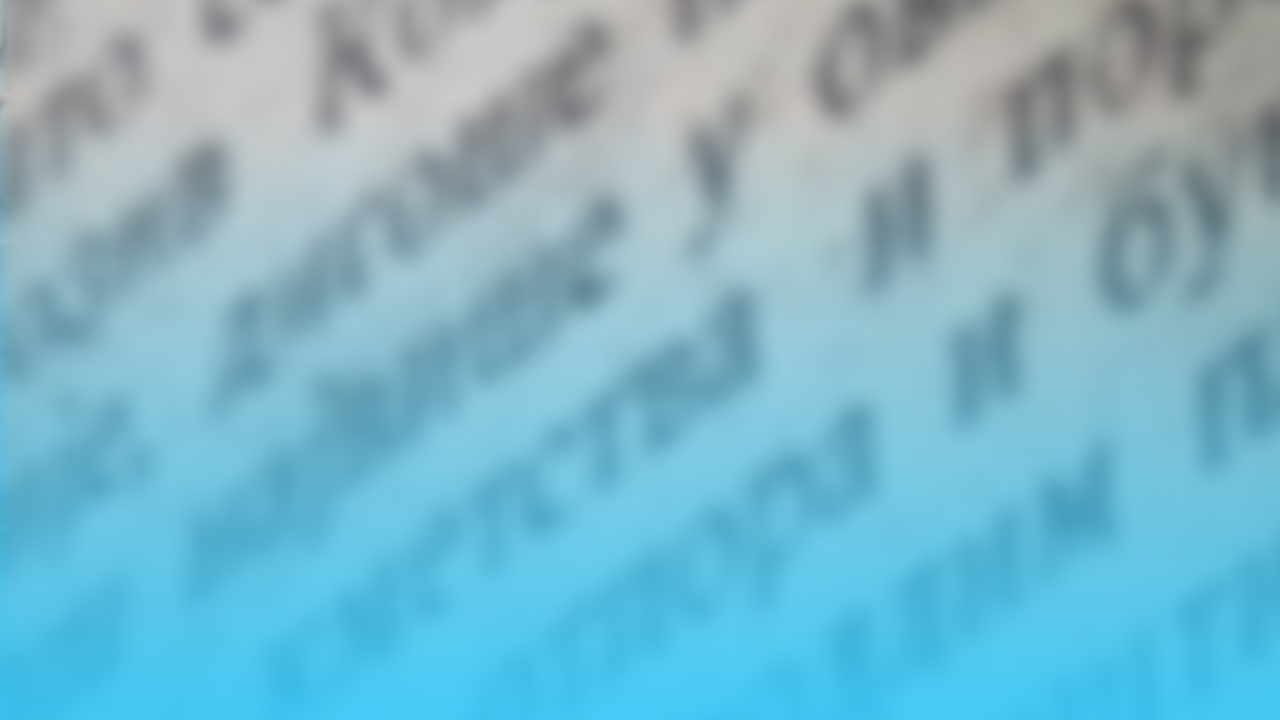
Поскольку я вокалист, то после концертов, чтобы голосовые связки отдохнули, я практикую молчание: иногда на весь день, а то и на сутки. И знаю, как это сложно. Ведь вокруг столько ситуаций требует моего вмешательства или оценки. Каждый современный человек находится в эпицентре информационного поля — начиная с обсуждения семейных вопросов и заканчивая мировыми повестками дня. И мы говорим и говорим... А иногда стоит сделать паузу, воздержаться от скоропалительных суждений, промолчать.
Почему это важно?
Во-первых, это учит нас слушать других — согласитесь, навык, весьма полезный в общении.
Во-вторых, полезно уметь сдержать себя во время горячего обсуждения. Ведь есть риск поддаться искушению и наговорить лишнего. Помолчав, вы сумеете успокоить эмоции и посмотреть на ситуацию более трезво. Как говорил Апостол Иаков: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный».
В-третьих, техника под названием «словно воды в рот набрал» прекрасно действует, если вы хотите сохранить доверенный вам секрет. Или опасаетесь высказать непрошеный совет.
В общем, красиво и ясно излагать мысли — это замечательное качество, однако уметь вовремя помолчать — тоже великий помощник в общении.
Автор: Нина Резник
Все выпуски программы: Сила слова













