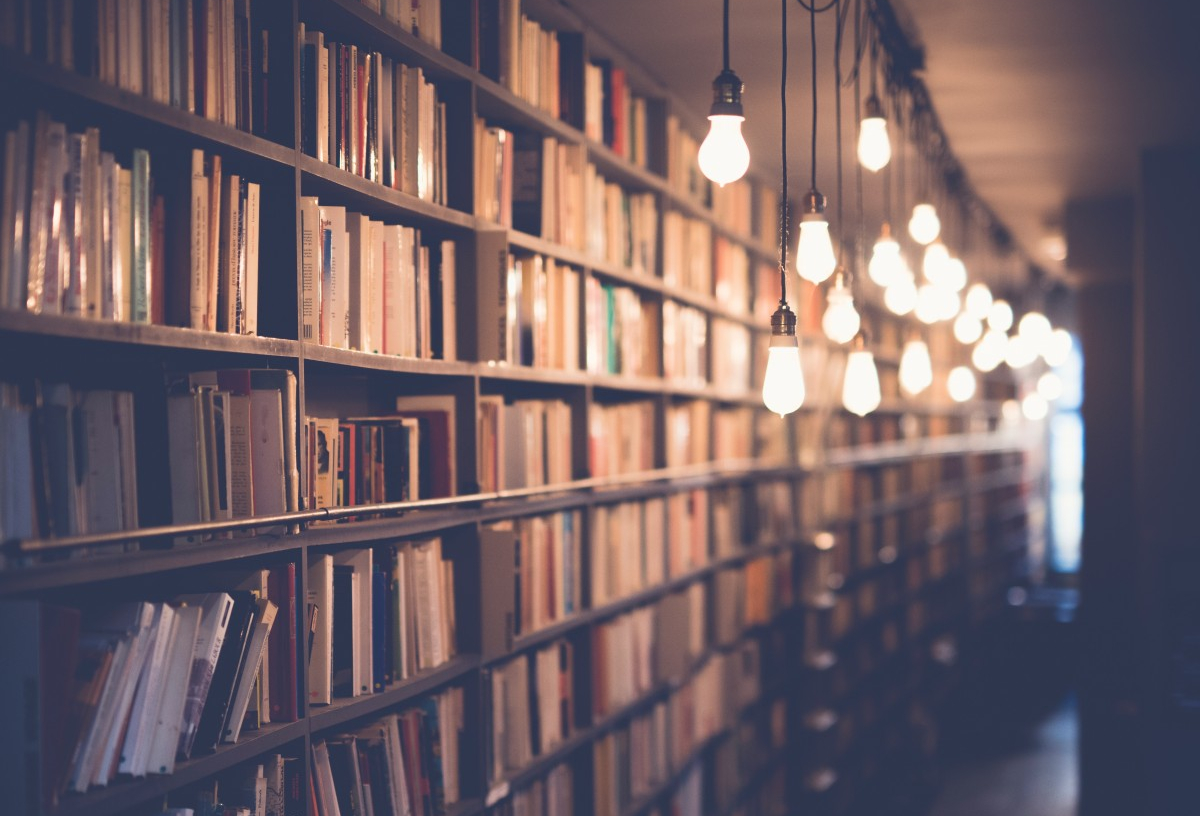
Гость программы — Дмитрий Шмонин, доктор философских наук, профессор, директор Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Ведущий: Алексей Козырев
Алексей Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о разуме и вере. У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, директор института теологии Санкт-Петербургского университета Дмитрий Викторович Шмонин. Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
Дмитрий Шмонин:
— Добрый вечер, Алексей Павлович.
Алексей Козырев:
— Институт теологии в Санкт-Петербургском университете, еще десять лет, может быть, не десять — пятнадцать, это было бы каким-то оксюмороном, бессмыслицей. Как это так? В светском университете возникает целый факультет, пусть институт, посвященный теологии. Теология это наука?
Дмитрий Шмонин:
— Теология это и наука тоже.
Алексей Козырев:
— В богословском отношении, да. Конечно, если для верующего человека это наука всех наук, царица наук. А в университете, наверное, учатся не только воцерковленные, не только верующие люди, приходят разные. Как им объяснить, что теология это такая же профессия, это такая же специальность. Или богословие все-таки мы говорим, в православном мире предпочитаем говорить богословие.
Дмитрий Шмонин:
— Я думаю, Алексей Павлович, что теология и богословие это тождественные понятия в обычном логическом смысле. Правда, традиции словоупотребления, вы правы, дают нам примеры... Скажем, в Российской традиции слово «богословие» является родным, понятным, а слово «теология» вроде как бы вторично, заимствовано. Но если вспомнить указ об основании академии наук 1724-го года, Петровский указ, где предусматривался университет и гимназия при академии наук, то там говорилось о том, что всякий университет это такое сообщество, которое юношество обучает. Я сейчас не точно вспоминаю, конечно, но эту цитату можно легко найти, в уставах академии наук она есть. Всякий университет располагает четырьмя факультетами, и один из них теологический. Но в условиях Российских, когда всё импортировалось, всё заимствовалось, и академики и студенты были привозными на первых порах в эпоху Петровской модернизации, говорить о том, чтобы теологию привозили из-за рубежа, не приходилось. Какую они привезут теологию, лютеранскую, католическую? Поэтому и было сказано, «теология токмо Синоду остается». И университете возникает, и Московский университет тоже, спустя некоторое время, возникает, как сообщество обучающих, сообщество обучаемых, но без теологии. Хотя богословие там преподается.
Алексей Козырев:
— Как история Церкви, история веры?
Дмитрий Шмонин:
— В том числе, церковная история.
Алексей Козырев:
— А философию они не боялись? Философию ведь тоже привозили, тоже не русская была, немцы читали курсы философские.
Дмитрий Шмонин:
— Да, в основном разные немцы, и в буквальном смысле и вообще иностранцы. Вольфианской философии и Декарта почему-то боялись меньше, потому что они не затрагивали мировоззренческие основы общества. Они скорее, помогали развивать науки, были к ремеслам, к художествам, к технике ближе. Декарт тот же самый. Да и немцы с их систематикой Лебненцовской, Вольфовской.
Алексей Козырев:
— Но все же теология в университете это история? История богословия, святых отцов? Или все-таки это наука, которая говорит нам что-то важное, существенное о Боге, об отношении человека к Богу, о религиозной жизни?
Дмитрий Шмонин:
— Конечно, второе. Но ведь преподавалась и догматическая основа догматического богословия вначале, плюс церковная история, плюс церковное законоведение попозже уже стало потихоньку внедряться. А в 19-м веке уже, по-моему, с середины 19-го столетия богословская кафедра переключились на основное богословие, на богословскую подводку к формированию религиозного православного мировоззрения. Кстати, богословие читалось только лицам православного, греческого вероисповедания. Видимо, остальные все, инославные, иноверцы все студенты, каковых в императорских университетах было много, от этих лекций освобождались, освобождались точно. А вот читалось ли им что-нибудь взамен? Скорей всего, нет, это были свободные часы.
Алексей Козырев:
— Как физкультура в школе. Кто имеет какие-то заболевания...
Дмитрий Шмонин:
— Медотвод.
Алексей Козырев:
— Но возникают университеты в век просвещения, 18-й век, век секуляризации, обмирщения, если мы вспомним гениальную формулу Пушкина: «И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель».
Дмитрий Шмонин:
— Да, да.
Алексей Козырев:
— То есть разум это гений, он друг парадоксов, поэтому «верую, ибо нелепо» — это один из таких парадоксов, Тертуллиановских. А бог это случай, это фатум, это что-то провиденциальное, то есть это не личный Бог, как Его мыслит христианство. Разум, который трактуется веком просвещения, это в каком-то смысле обезбоженный разум?
Дмитрий Шмонин:
— Это, на мой взгляд, несчастное мировосприятие. Если представить себе философию, которая вроде как домашний пес, который отвязался и побежал. Не хочу говорить цепной, но домашний.
Алексей Козырев:
— А у него, у пса, инстинкты, куда он побежал? Что-то найти поесть, а может быть, увидел представительницу противоположного пола, и под влиянием этих инстинктов его на всех порах куда-то понесло?
Дмитрий Шмонин:
— Да, понесло, и хозяин ему вроде как и не нужен. Не нужен человек, который гладит, и кормит, и поит, и лечит.
Алексей Козырев:
— В данный момент не нужен.
Дмитрий Шмонин:
— В данный момент, совершенно верно. И вот этот данный момент затянулся не на одно столетие. А если вспомнить, Тертуллиана вы привели в пример, если вспомнить святоотеческую традицию, если вспомнить Климента Александрийского с его замечательными «Строматами», с «Педагогом», с «Увещеванием к язычникам», что там, какая мысль? Знания о мире, их сумма, приводит человека к пониманию того, что над этим физическим миром, над этим социальным миром есть нечто, науки Божественные и человеческие, которые позволяют, как любят у нас сейчас говорить, получить дополнительные возможности. Ничего не отнимают, но человек получает новые перспективы. Взгляд не по горизонтали, но и по вертикали тоже. Если этот взгляд иметь в виду, то конечно, философия эпохи Просвещения, новая европейская философия, так или иначе, в лице своих лучших представителей, не эпигонов, не фигур второго-третьего ряда, таких, как тот же самый Декарт или Лейбниц и Вольф и многие другие.
Алексей Козырев:
— Паскаль.
Дмитрий Шмонин:
— Паскаль, безусловно.
Алексей Козырев:
— В этом году четыреста лет. «Бог Авраама Исаака и Иакова, а не Бог философов и ученых».
Дмитрий Шмонин:
— Абсолютно точно. И это возвращение к теологии у каждой персоны практически в истории философии очевидно.
Алексей Козырев:
— То есть разум это не только расчленяющий, измеряющий всё по линейке, с помощью теорем, а в каком-то смысле и преображающий человека и дающий ему доступ к Высшему?
Дмитрий Шмонин:
— Да, да. Заманчиво многим было бы обойтись без этого Высшего, которое не вполне понятно. Или пойти в сторону уж очень философских абстракций, категорий, и в этих категориях бесконечные переходы мыслительные, логически выявленные, красивые. Я имею в виду, прежде всего, немецкую мысль, немецкую классическую традицию. А на выходе, такое ощущение, что если все это отжать, то остается человек один на один со своими экзистенциальными проблемами, которые пытается в этих больших-больших текстах, отложив Евангелие, отложив Священное Предание для себя еще раз проработать. То есть заместить вот эту пустоту.
Алексей Козырев:
— Для верующего человека иногда складывается такое ощущение, что разум это что-то вторичное. Мы с вами беседуем на радиостанции, которая называется «Вера», не разум все-таки. То есть вера это то, приводит человека к Богу, что дает возможность ему обрести спасение. И разум воспринимается как некие путы, как то, что ограничивает человека, как то, что удерживает его в этом мире. Так ли это? Или все-таки разум это необходимая составляющая, дополняющая веру и неразрывно связанная с верой?
Дмитрий Шмонин:
— Конечно, связанная, конечно, дополняющая. О взаимодополнительности разума и веры надо говорить, мне кажется. Без разума веру никак не объяснить. Можно вспомнить, например, блаженного Августина, как он говорит о взаимодействии веры и разума. Вера имеет педагогическое первенство, авторитет на первом месте. Сначала мама говорит тебе, это нельзя, вот это можно, это хорошо, а это плохо. А потом через некоторое время ты взрослеешь и начинаешь понимать, что где-то в каких-то вопросах это не всегда так, это общее, а в конкретном случае надо действовать как-то иначе. Точно так же как в первом классе: подчеркните двумя чертами, отступите две клетки. Почему две, а не три, мы же не задаем таких вопросов. Если бы мы задавали с самого начала, если бы наш разум включался на полную силу, то, я думаю, что и процесс обучения был бы невозможен.
Алексей Козырев:
— А если бы мы задавали этот вопрос, было бы уже критическое мышление. То есть первоклассник, который на все задает вопросы, говорит, почему я должен две отступать, давайте, я три отступлю, или вообще не буду отступать, а буду писать во весь лист. Сегодня это приветствуется, это добродетель критического мышления. Да?
Дмитрий Шмонин:
— Да, да, если бы это критическое мышление только в таком слабом смысле. Если вспомнить диви, в смысле возможности не в первой же строчке интернета искать ответ на смысложизненный вопрос. Конечно. Но только тут вот нагловатость наша, когда мы задаем вопросы, не имея к этому основания в своем развитии, это естественно человеку растущему, взрослеющему, мужающему, в том числе и умственно. Но для этого должна быть вторая сторона, педагог, который прекрасно понимает и отвечает так, чтобы не обидеть тебя, но чтобы ты понял, где разум заканчивается и где начинается вера. По крайней мере вера учителю, наставнику, профессору.
Алексей Козырев:
— То есть разум это не то, что нам дано в полном смысле этого слова, а то, что задано, то, что должно развиваться в человеке?
Дмитрий Шмонин:
— Конечно, это своего рода пластилин. А лепишь и ты сам, и твои родители, и преподаватели и вообще вся та среда, которая вокруг нас Богом создана. Среда в широком смысле, природа, мир. И в узком смысле, например, студенческая аудитория, где как солея возвышается в храме, так и преподавательская кафедра возвышается, и где все структурировано, хотя бы на два раза по 45 минут.
Алексей Козырев:
— Некоторые преподаватели все время стремятся сойти, сесть на парту, почитать лекцию где-нибудь, стоя у подоконника. Они как бы сами оспаривают в себе это право на учительство, сливаясь с аудиторией. Я вообще кто? Я никто. Какое я имею право вас учить? Да, никакого. По-моему, это тенденция очень тревожная.
Дмитрий Шмонин:
— Хорошо, если это педагогический прием, а если мы этих преподавателей, говоря просто, недокрутили, недовоспитали, что часто сейчас, к сожалению. Да на самом деле всегда было так. Всегда находились люди, которые пытались со студентами заигрывать. Иногда это что-то и давало, какой-то эффект кратковременный.
Алексей Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор института теологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Викторович Шмонин. Мы говорим сегодня о разуме и вере, пытаемся сделать акцент на слове «разум». Что такое вера, наверное, слушающие Радио ВЕРА знают, а что такое разум, на этот вопрос не могут ответить однозначно философы. Есть разные ответы. Разум у Аристотеля, у Декарта. Разум в славянофильской традиции. Я бы хотел спросить вас: почему говорят — благоразумие? Когда говорят о добродетелях, в числе добродетелей, причем, и античных, поскольку там есть софросюне — целомудрие, то есть некая цельность разума, мудрости и христианская добродетель. Как разум связан с благом?
Дмитрий Шмонин:
— Ну что ж. Разум это всегда выражение чего-то, по возможности, во внятной, четкой, ясной форме, это слово. По большому счету то самое Слово, Которое было в начале.
Алексей Козырев:
— Логос.
Дмитрий Шмонин:
— Логос. И в том числе, логос творящий. Если мы возьмем эту мысль, эту идею, эту посылку за основу, то благо, красота, истина — это всё понятия конвертируемые, они имеют бытийственный характер. Откуда же иначе появляется в нас умение строить мысли, умение говорить. Сначала было слово и первое слово, которое говорит нам мама. Как все радуются когда... конечно, когда ребенок встает на ноги, но по-настоящему радуются, когда он поизносит первое слово. Оно тоже в начале.
Алексей Козырев:
— Наверное, оно такое простое, чтобы его было легче произнести. Если бы маму звали не мама, а энтелехия или эмпириокритицизм, то, наверное, ребенок не скоро бы смог это выговорить. А здесь такое звукоподражательное даже слово, оно дано для того, чтобы человек самое главное, самое важное в жизни, ощущение родства и чего-то близкого, родного пережил и прочувствовал, осознал. Может, сначала младенец и бессознательно даже говорит «мама», звукоподражательно, но очень рано он начинает говорить, именуя. И это первое именование, даже раньше, чем Бог, да?
Дмитрий Шмонин:
— И это первый шаг к благоразумию. Конечно.
Алексей Козырев:
— Знание истинных имен вещей.
Дмитрий Шмонин:
— Да. Интуитивное схватывание, конципио, концепцио, интуитивное схватывание, которое тут же приобретает словесные черты.
Алексей Козырев:
— Подлость не называть святостью. Зло не называть добром. То есть знать, как называются вещи, как они атрибутируются с точки зрения блага. Это разум ведь, да?
Дмитрий Шмонин:
— Вопрос только в том, где здесь критическое мышление, есть ли оно, зашито ли оно смыслово внутрь этих понятий? Мне кажется, что да. Что это изначальный высший смысл критического мышления, когда понятия сами внутри себя уже определены, а мы только к этому интуитивно жизненно приобщаемся. А потом уже начинаются все педагогические процессы, все объяснения, все определения.
Алексей Козырев:
— Может, надо в каком-то смысле эту расчистку произвести, критическое мышление должно вернуть истинные имена, истинные названия, истинные наименования поступков человеческих, увидеть себя. Понятно, что все мы не святые, но по крайней мере не выгораживать себя, не оправдывать себя, не называть свои недостойные поступки достойными, уметь прежде всего винить себя, а потом других за то, что мы делаем. Это тоже критическое мышление, тоже разумное мышление?
Дмитрий Шмонин:
— Да. И, кстати говоря, Алексей Павлович, мое глубокое убеждение среди прочего состоит в том, что критическое мышление это необходимый атрибут теологии, и тут одно без другого не работает. Высшие смыслы, в их свете, когда все начинает по-другому играть, новыми красками играть, какую-то полноту приобретать, человек это ощущает, я могу говорить о своем личном опыте, человек это ощущает гораздо лучше. Сначала я занимался испанской схоластикой, а к испанской схоластике я пришел от, не к ночи быть помянутым, Хайдеггера. Помните, в конце 80-х была эта статья про метафизику в «Вопросах философии» опубликована и, спустя несколько...
Алексей Козырев:
— Что такое метафизика?
Дмитрий Шмонин:
— Да, или «Обоснование к метафизике», не вспомню сейчас.
Алексей Козырев:
— «Метафизика» — это книга.
Дмитрий Шмонин:
— И там среди прочего был такой интересный поворот к схоластике, к католической философии и это натолкнуло меня на мысль о том, что нужно разобраться, чем же все-таки философия отличается от теологии и отличается ли она или это некое умозрение. А дальше пошло изучение метафизики, изучение того, как эта метафизика преподавалась. Иезуитская педагогика, совершенно гениальное изобретение на излете средневековья, уже после средневековья, после реформации, в эпоху контрреформации на Западе. А дальше, собственно говоря, понимание того, что, да, спациум реалиа — вещественное пространство, которое осталось, как желток, в руках философов и ученых Нового времени, искавших достоверности, ясности, отчетливости, правил для ума, его руководства и тому подобное. А потом вдруг понимание того, что над этим спациумом, над этим реальным пространством есть еще спациум эмогинариум — воображаемое пространство, как говорили иезуиты конца 16 — начала 17 века, в котором обитает Бог. И если мы понимаем это различие и понимаем, что одно без другого работает хуже, чем если они вместе, то это, мне кажется...
Алексей Козырев:
— Так же как из одного желтка нельзя высидеть цыпленка. Если мы относимся к яйцу как к пищевому продукту...
Дмитрий Шмонин:
— То да.
Алексей Козырев:
— Кому-то нравится белок, а кому-то желток, то одно дело. А если мы относимся к яйцу как к источнику жизни, то без белка и желтка в их единстве не получится нового организма.
Дмитрий Шмонин:
— Очень точно, очень точное сравнение.
Алексей Козырев:
— Поскольку разум связан с этикой, с нравственностью, с добродетелью, отсюда, мне кажется, тема разума в русской философии очень интересно поворачивается. Мы всегда искали какого-то цельного разума, нас вот тот разум, который был в европейской философии, у Канта...
Дмитрий Шмонин:
— Аналитический весь этот...
Алексей Козырев:
— ...критика чистого разума не устраивала. Нам все время казалось, что здесь какой-то подвох, что здесь нам вместо разума подсовывают что-то другое. А что другое? Вот какой субпродукт можно сделать из разума, и что мы иногда принимаем за разум? Иногда говорят, есть русская поговорка «Ум за разум зашел». Это отнюдь не похвала, это именование человека, который не мудрый, а мудреный, он что-то перемудрил, а, может, и с ума сошел. Но, в то же время, мы говорим «Ум за разум», используем эти понятия, о которых мы с вами сегодня разговариваем. Что вместо разума мы можем получить в поисках разумного отношения к жизни, разумного отношения к миру?
Дмитрий Шмонин:
— То, что ровно наоборот, то, что противоречит разуму. Вспоминается, не помню где это, у Валентина Петровича Катаева воспоминания о его взаимоотношениях с Буниным. Как-то юный Катаев увидел фотографию Бунина, красиво сделанную, в рамке, как положено. Он ее приобрел для того, чтобы получить надпись, автограф великого писателя. А до этого он вспоминал, что были какие-то сложные разговоры на самые-самые интересные темы, и при этом Бунин как-то сказал: ну что такое вот это заумное, которое ты говоришь, Валечка? Заумное — это по ту сторону ума, а что по ту сторону ума? По ту сторону ума глупость. И вот Валентин Катаев принес и сказал: Иван Алексеевич надпишите. — Что тебе надписать? — Надпишите, заумное есть глупость. — Неужели я такое сказал? — сказал Иван Алексеевич Бунин, но все-таки написал.
Алексей Козырев:
— Поэзия футуристов, Хлебников, «Бобэоби пелись губы». Есть ли это глупость? Все-таки, наверное, это какие-то поиски, это стремление преодолеть какие-то границы, найти новые формы высказывания. Но вряд ли мы будем к этому обращаться, если мы хотим в какой-то нужный, важный, критический момент нашей жизни спастись.
Дмитрий Шмонин:
— Это другая траектория.
Алексей Козырев:
— Скорей, мы прочитаем Отче наш, чем «Бобэоби пелись губы» В окопе или перед лицом какой-нибудь угрозы, болезни, опасности, мы прочитаем молитву Иисусову, скорей.
Дмитрий Шмонин:
— Кто что помнит.
Алексей Козырев:
— Кто что помнит?
Дмитрий Шмонин:
— Кто не помнит соответствующих псалмов, тот хотя бы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного» или «Помилуй мя, грешного». Кто что может. Безусловно, именно так мы и делаем.
Алексей Козырев:
— Но ведь это называется умная молитва, или, если быть точным, умна́я молитва? Молитва монаха-исихаста. Молится человек умом и сердцем, поскольку сердце есть для православного человека серединное место в человеке. Сосредоточие его внутренней жизни.
Дмитрий Шмонин:
— Поэтому, мне кажется, мы и говорим о том, что другой вектор, другое направление. Одно дело искать что-то, выжимать из этого, как из сухой тряпки, что-то априорно-синтетическое, что-то аналитическое, доходить до крайности в надежде, что там что-то еще сверхрациональное явится нам и поможет ответить на все вопросы. Нет. А русская культура, русская философия, русская литература ведет к экзистенциальной полноте, где разум органично дополняется верой. Не дополняется, а он живет в ней.
Алексей Козырев:
— Мы сегодня с профессором Дмитрием Шмониным пытаемся выявить, что же такое разум в философской традиции, богословской традиции и как разум соотносится с верой. Можно ли веровать, но не разуметь, или можно ли разуметь, но при этом пренебрегать верой? Через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Алексей Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, директор института теологии Санкт-Петербургского государственного университета, доктор философских наук, профессор Дмитрий Викторович Шмонин. Мы говорим сегодня о разуме и вере, о том, как разум мыслится перед лицом веры, и зачем Бог нам его дал. Ведь, наверное, человек отличается от животного тем, прежде всего, что у него есть разум. Так?
Дмитрий Шмонин:
— У животных тоже разума и всяких таких аналитических способностей — я сейчас говорю не как ученый в этой области — иногда приподзанять, и здравого смысла у наших, особенно тех, кто живет в наших домах, кошки, собаки, и не только они, попугаи.
Алексей Козырев:
— Тогда получается, что разум есть некая психическая, не духовная способность человека?
Дмитрий Шмонин:
— Не только духовная, не только душевная, но психосоматическая, биологическая, какая угодно.
Алексей Козырев:
— Не путаем ли мы здесь тогда разум с психикой? Психика как способность приспосабливаться к окружающей среде, действовать сообразно инстинктам, потребностям, искать пути реализации этих потребностей. Но это все-таки еще не разум.
Дмитрий Шмонин:
— Психические процессы многообразны, как мы знаем. Вопрос в том, что если обычно мы в курсе какой-нибудь общей психологии или каких-то психологических дисциплин рассматриваем разумную деятельность, логическое мышление как один из психических процессов наряду с эмоциями, чувствами, памятью, фантазией, то в этой логике мы дальше этой биологической или биосоциальной природы человека не продвинемся. А что помимо того, что в нашей душе присутствует разум в биологическом смысле, есть разум как отражение высшего, есть разум духовный, это — то, о чем мы с вами говорили раньше — открывает человеку перспективы и лучшее понимание того, зачем он здесь, в этом мире, что в этом мире не все заканчивается.
Алексей Козырев:
— У Аристотеля нус это и разум и дух, то есть мы говорим о том, что по сути высший разум — это духовная способность в человеке, да?
Дмитрий Шмонин:
— Да, идущая от Аристотеля традиция, которая уходит потом и в патристику и главным образом, конечно же, в западную схоластику, там, где анима, душа человеческая. Это разум, высшая способность, интеллектуальная способность, наряду с другими, растительной, вегетативной способностью, сенситивной (чувствами) способностью, разумной и интеллектуальной способности души это и есть то, что помогает нам открыть в себе образ Божий, стать Христофором, Теофором, обнаружить в себе то вечное начало, которое в тебе есть, образ раскрыть. С тем, чтобы потом начать строить план действий, план жизни, план спасения, образ, подобие Божие, преображение. Я считаю, что Преображение, праздник, который мы отмечаем 19 августа по новому стилю, это самый педагогический праздник, это возможность посмотреть, каким-то образом приоткрываются глаза, и ты видишь, что будет потом. Ты получаешь диплом, выпускник университета, преображение определенного рода, конечно, не в том смысле. Конечно, не в том великом смысле, который описывается в Евангельской истории, но это новые возможности, новые открытия. Если ты смотришь на это в такой перспективе, в перспективе эсхатологической, в перспективе сотериологической, с точки зрения вечности, если хотите, то тогда видно, какой мог бы быть результат. А если ты мыслишь горизонтально, ну что, больше денег, возможность профессионального роста, социализации — горизонталь. А плюс к горизонтали должна быть еще вертикаль.
Алексей Козырев:
— О преображенном разуме русской философии говорили, тот, же спор Евгения Трубецкого с Флоренским, Флоренский отец Павел считал, что человеку свойственно плутать в антиномиях, в противоречиях, поскольку так устроен его человеческий разум, он не может взять мир целиком, он может видеть этот мир только в его противоречивости. А Трубецкой считал, что человек должен уповать на преображение разума, потому что где-то в эсхатологической перспективе его разум должен обожиться и видеть мир так, как его...
Дмитрий Шмонин:
— Не гадательно сквозь тусклое стекло...
Алексей Козырев:
— Лицом к лицу, тогда познаешь так, как ты познан, как говорится у апостола Павла в посланиях к коринфянам. Познаешь так, как сейчас знает тебя Бог. Завет, упование преображения разума, что когда-то с нами это произойдет и наш разум вырвется из тенет, из пут противоречий.
Дмитрий Шмонин:
— И сразу расшиваются многие технические, практические вопросы: а стоит ли нам развиваться, если это все закончится могильной плитой, а надо ли это? Ради чего эти наши трагедии разного уровня, которые мы переживаем, экзистенциальные моменты, когда что-то происходит в жизни. Всё это приобретает иную перспективу и чувство радости, несмотря ни на что.
Алексей Козырев:
— И для Аристотеля всё закончилось могильной плитой, и для Декарта, и для Данте, и для Петрарки, и для Флоренского, но мы читаем их тексты, мы учимся красоте их мысли, и, значит, есть что-то, что мы с помощью нашего разума можем оставить в этом мире, улучшить его?
Дмитрий Шмонин:
— Безусловно.
Алексей Козырев:
— Разум и сознание — насколько эти категории, понятия философские тождественны. Можем ли мы говорить, что сознание, самосознание это проявление разумной способности в человеке.
Дмитрий Шмонин:
— Вроде бы несложный вопрос, если мыслить словарными статьями, если вспоминать то, что говорится о сознании, разуме, рассудке, интеллекте в философских и всяких прочих наших энциклопедиях. Но я при этом, знаете, о чем думаю, Алексей Павлович? Логическая операция определения — это самая сложная операция. Представить себе полное описание того, что ты хочешь описать, это как раз только с точки зрения Бога может быть. А мы по существу гадаем и сравниваем интуиции, вы свою с моей, наши слушатели, быть может, конструируют одновременно что-то свое, если слушают внимательно то, о чем мы говорим. Здесь определения имеют мало смысла. Важно, чтобы мы постоянно ощущали, что то, что мы недопонимаем, вложится, досыплют эти специи в нашу кастрюлю. Тот, кто надо, тот досыплет. Главное, чтобы в принципе огонь горел, и кулинарный... Что-то меня потянуло в ассоциации.
Алексей Козырев:
— Огонь это хорошо, но чтобы не мы варились в этой кастрюле. Как, помните, у Карсавина Льва Платоновича в «Поэме о смерти» кухарка: вот омары на плите кипят.
Дмитрий Шмонин:
— Не помню.
Алексей Козырев:
— Это мы кипим в этих омарах. И Карсавин отсюда интуицию всеединства свою. Все-таки со-знание это удивительное качество, это не просто знание о мире, об окружающем, о Боге даже, может быть, знания, если мы говорим о теологии как о науке. Но ведь это и постоянное понимание того, что это мы знаем, что это знание и себя. Не просто знание о Боге, но я знаю о Боге. Не просто знание о мире, но я знаю о мире. Я со-знаю, я присутствую в этом знании. Наверное, это тоже удивительное чудо разумной способности человека. Потому что после сознания начинается со-весть, то есть знание о вести, о Благой Вести и о том, что эта весть не просто прозвучала как песня по радио, а прозвучала для меня, для того, чтобы я эту весть...
Дмитрий Шмонин:
— Для меня и для других.
Алексей Козырев:
— И для других. Главное, чтобы не только для других, потому что, как Флоренский сказал, немецкая философия это пьянство для себя, проповедующее насильственную трезвость для других.
Дмитрий Шмонин:
— Замечательно. Мне кажется, это ключевой момент — я и мы, я и другие, единство. Отсюда не только совесть, но отсюда и сотрудничество, созидание и все прочие наши деятельностные порывы, деятельностные мотивы и вообще вся наша работа, со-работничество. Если мы что-то конструируем для себя и что-то открываем для себя, мы должны понимать, что мы это открыли в той части, в той мере, в которой нам это дано было открыть. И если мы это сделали хорошо, качественно, верно, с точки зрения науки в том числе, то тогда мы готовы к коммуникации с другими людьми лучше, чем если мы что-то напридумывали, тот самый сон разума, который породил чудовищ.
Алексей Козырев:
— Монстров.
Дмитрий Шмонин:
— Да.
Алексей Козырев:
— Разума сон рождает чудовищ. Это Гольдерон, по-моему, сказал?
Дмитрий Шмонин:
— Это было у Гойи на одном из офортов альбома.
Алексей Козырев:
— Когда сознание отключается, рождаются чудовища. Да?
Дмитрий Шмонин:
— Да.
Алексей Козырев:
— То есть когда разум засыпает, и на арену выходят другие свойства человеческой натуры, или все-таки это сон разума? Разум спит, и он все-таки действует, грезит и видит в своих грезах этих чудовищ?
Дмитрий Шмонин:
— Сложно сказать, потому что мы же с вами уже вспомнили, что он не однороден, и что бывают просто сны, а есть...
Алексей Козырев:
— Вещие сны.
Дмитрий Шмонин:
— Да, а есть вещие сны, информация зашитая в такую форму, которая нам утром понадобится. Наверняка вы испытывали, я точно и многократно испытывал.
Алексей Козырев:
— Вещие сны, знамения какие-то, события вроде как случайные, но которые мы прочитываем как указания на то, что что-то надо изменить.
Дмитрий Шмонин:
— Просто ведет. Просыпаешься и понимаешь, что нужно делать, вечером не знал, утром знаешь.
Алексей Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Дмитрий Викторович Шмонин, директор института теологии Санкт-Петербургского государственного университета. Мы говорим о разуме и вере. Разум и вера близнецы-братья?
Дмитрий Шмонин:
— Или кто-то более уценен?
Алексей Козырев:
— Да. Или все-таки антагонисты, которые вечный спор ведут между собой.
Дмитрий Шмонин:
— Интересно посмотреть это на университетской истории, с чего мы начали разговор — теология в университете, неважно в каком, в Парижском, Московском, Саратовском или в Петербургском. Это воспринимается, действительно, как нечто инородное поначалу, особенно сейчас, в 21-м веке. Одно дело средневековье, это были феодальные отношения. А сейчас, как может быть? Не традиция, которая как-то трансформировалась в эпоху нового времени, в просвещение, в 20 веке, в секулярные времена. Теологические факультеты как-то влачат и как развиваются, а что-то совершенно новое в наших условиях. Нет ли здесь этого конфликта или взаимодействия между разумом и верой? Я думаю, что есть. Сейчас как раз на наших глазах разворачивается этот процесс, понимание, что конфликта быть не должно, его не может быть. Если он в чьих-то головах, то это поверхностное представление. А должно быть сотрудничество, должно быть взаимное дополнение. Правда, объяснить это коллегам не всегда бывает просто. Я имею в виду коллегам по цеху, не говоря уже о студентах. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас это очень хороший вариант понять на нашей университетской истории, на включении теологии в систему образования, возвращение ее туда с новыми задачами, с новыми целями.
Алексей Козырев:
— Диссертации по теологии защищают? Вы председатель экспертного Совета ВАК, то есть высшей инстанции министерства государства, которая дает ученые степени по теологии. Много ли аспирантов, молодых ученых, которые приносят кандидатские, может, потом и докторские диссертации? Или все-таки пока это еще не очень популярно?
Дмитрий Шмонин:
— О популярности говорить не приходится, потому что хлеб это нелегкий, осознать, что ты вкладываешься в теологию, в богословие.
Алексей Козырев:
— Прикладного значения мало?
Дмитрий Шмонин:
— Да. Народно-хозяйственные задачи не решаются таким образом.
Алексей Козырев:
— Там есть такая тема у диссертации: «Актуальность исследования».
Дмитрий Шмонин:
— Да.
Алексей Козырев:
— Как можно прописать актуальность теологического исследования там, где времени нет, а где царствует вечность?
Дмитрий Шмонин:
— Вопрос что называется не в бровь, а в глаз. Но есть и ответ, ответ формальный. Кандидатские диссертации это решение частных задач, а таких частных задач много во всех науках, в том числе и в тех, которые сейчас объединяются отраслью теология. Их же теперь специальности-то три: теоретическая, историческая, практическая. Конечно, большинство диссертаций, сейчас их уже больше тридцати за последние годы, если брать кандидатские, защитились у нас в стране. Немного. Но и Советов сейчас всего три, а был до недавнего времени один. Конечно, преобладают темы церковно-исторические, пока я наблюдаю за этим.
Алексей Козырев:
— Православные? Потому что там кроме этих трех специальностей есть еще теология исламская, иудейская, и сейчас, насколько я знаю, буддийская.
Дмитрий Шмонин:
— Нет, пока еще нет, Алексей Павлович.
Алексей Козырев:
— Но к этому идет.
Дмитрий Шмонин:
— Идет. Пленум ВАК такое решение принял, потому что было обращение, несмотря на то, что для научного сообщества, для многих коллег, в том числе философов и религиоведов, это было открытием, что существует буддийская теология. Но тут как — есть запрос.
Алексей Козырев:
— Есть традиционная религия, есть практика этой религии.
Дмитрий Шмонин:
— Да, и есть доктрины.
Алексей Козырев:
— Очень хорошо, что все-таки это вошло в конфессиональное русло, что нет теологии вообще, а представители конфессии, православия могут защищать работы по православной теологии.
Дмитрий Шмонин:
— Конечно, теологии межконфессиональной, внеконфессиональной, надконфессиональной быть не может по определению. Но это не повод для разделения, конечно. Это повод для правильных акцентов, для понимания. Докторских, конечно, меньше сейчас. И по исламской теологии всего пока была одна защита. Но кроме защиты по ВАКовским правилам, есть сейчас у нас целый ряд ВУЗов. Раньше было два университета, Московский и Петербургский, которым по закону предоставлялось право присуждать собственные ученые степени. Потом этот список расширился, и сейчас больше сотни ВУЗов и научных организаций, которые теоретически имеют право. Не все этим правом пользуются, но, например, в СПБГУ, где я работаю, прошло уже несколько защит, причем, единственная в нашей стране пока защита по исламской теологии, докторская работа. Сейчас еще докторская по протестантской теологии первая подана.
Алексей Козырев:
— Я так понимаю, что ВАК эти работы не утверждает?
Дмитрий Шмонин:
— Нет, не требуется утверждения ВАКом этих работ, но, тем не менее, регулятор есть регулятор, он один. Так же, как и Московский университет, мы действуем по тем же самым правилам, просто технологии другие. Очень надеюсь, что со временем вся эта система войдет в нормальное русло, перестанет удивлять кого бы то ни было. И главное, о чем мы с вами говорим, чтобы теология воспринималась как не что-то экзотическое, а как дисциплина или отрасль в семье гуманитарных и социальных наук, которая выполняет определенные, своего рода зонтичные функции. Всегда теология была в топе, и когда она воспринималась как высший род философского знания. Вспомним классификацию, те же самые переосмысленные Аристотелевские классификации наук от Боэция до Гуго Сен-Виксторского или до Фрэнсиса Бэкона, везде теология оказывалась высшей частью теоретической философии, вместе с математикой и прочими дисциплинами. Поэтому я и говорю о взаимодополнительности и о дружественном взаимопонимании.
Алексей Козырев:
— У нас часто воспринимают диалог веры и разума как диалог Церкви и университета или Церкви и академии. Это не совсем так. Одно дело институты, а другое дело способности. И вера в человеке это не только вера конфессиональная. Если мы вспомним великолепное определение апостола Павла: «Уповаемых извещения, вещей обличение невидимых». Это же говорит о том, что вера есть и в науке. Когда мы какую-то гипотезу выдвигаем, у нас интуиция работает, и мы чувствуем, что это может быть, это еще не открыто, но может быть открыто. Это ведь тоже определение веры, когда мы делаем шаг за грань, шаг из мира познанного в мир непознанный, в непостижимое. Здесь же тоже работает вера?
Дмитрий Шмонин:
— Конечно. Замечательный, например, ученый Людвиг Фадеев, не так давно ушедший от нас в мир иной. Когда его назначили главным редактором журнала «Природа», популярный, очень интересный журнал в свое время был, он решил выразить свое отношение к науке в редакционной статье, и написал, что он может говорить — что мне очень понравилось — только за свою часть науки, только за физико-математические науки. Потому что инженерные науки это уже другое, гуманитарные, там другая методология. И я, говорит, для себя выработал такой своего рода символ веры, в который включаю и опору на ранее достигнутые знания и на теоретические и практические результаты, которые мои коллеги получили, и интуицию, и все-все-все. Плюс к тому же, написал Фадеев, это вещие сны и всякого рода озарения, которые обязательно присутствуют в жизни ученого, потому что наука это не только усилия, равномерные, затраченные усилия, но еще и творчество. Конечно, вера — более широкое понятие, чем религиозная вера. Теология как дисциплина говорит не только о религиозной вере, она говорит обо всем, точно так же как и философия, точно так же как и культурология, точно так же как по большому счету и политология, и социология, и история. Любая наука говорит не только о своем внутреннем, важном, специальном, но она обо всем со своей точки зрения.
Алексей Козырев:
— То есть это картина мира какая-то, которая у человека, мыслящего теологически... все-таки многие феномены этот мир пытается по-своему для себя объяснить.
Дмитрий Шмонин:
— Конечно, и пафос здесь невелик, а просто зачем закрывать от себя возможности? Почему в нашей мозаике должны быть пробелы? Зачем нам заколоченное окно, если можно смотреть сквозь стекло на окружающий мир? Зачем нам идти по тоннелю, когда можно выйти, преодолеть тоннельное мышление и посмотреть, как разверзлась бездна, звезд полна?
Алексей Козырев:
— У нас в русской культуре последнее время мода на юродивых. Кто такой юродивый? Юродивый — это особый тип святости, очень редкий, который совлекает с себя разум, то есть отказывается от разума, от логического мышления. Как вы считаете, этот тип юродства должен быть свойственен верующему человеку или все-таки надо остерегаться?
Дмитрий Шмонин:
— Мне кажется, не надо ни остерегаться, ни стремиться. Это настолько редкий, если говорить об истинном юродстве, феномен, что даже если мы не понимаем, кто перед нами сейчас, мы поймем это потом. Я очень осторожно к этому отношусь, потому что вообще осторожно отношусь к тому, что не до конца способен еще, может быть, или в принципе оценить. Но я с доверием отношусь к тем, кто этот опыт переживал, кто этот опыт описывает.
Алексей Козырев:
— Завершим на том, что есть такая икона православная, мы о ней вспоминали за пределами этой передачи, «Прибавление ума». Часто в начале учебного года совершаются молебны в университетских храмах или в приходских храмах, куда приходят школьники со своими мамами и папами и молятся перед этой иконой. То есть просят, чтобы Господь наградил человека умом, чтобы Он прибавил разума. Мне кажется, что эта икона — так же как и икона Софии Премудрости Божией «И ищущим ума рече: придите ко Мне», как в притчах, взывает с высоким проповеданием на Чашу, Премудрость Божия призывает к Своей Чаше — говорит нам о том, что в Церкви отношение к разуму, к уму очень положительное, не стоит подвергаться неофитскому часто соблазну, что поверил, значит, всё, наука для тебя не авторитет, ты только в Промысле Божием, ни о чем не думай, доверься духовнику, подчини свою волю старцу. Все-таки, наверное, это не по-православному?
Дмитрий Шмонин:
— Конечно. Тесными вратами надо входит в храм и понимать, что если ты надеешься на прибавление ума, на приращение знаний, то это может быть только, если ты веруешь. Если ты веруешь в Бога, если ты веришь в своих учителей, и в то, что образование даст тебе возможность преобразиться.
Алексей Козырев:
— И это говорит нам директор института теологии Санкт-Петербургского университета Дмитрий Викторович Шмонин. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Я желаю всяческих успехов вашим аспирантам, студентам и вашему институту, который еще молод, но который пробивает дорогу теологическому образованию в нашей самой авторитетной, самой высшей школе.
Дмитрий Шмонин:
— Благодарю вас, Алексей Павлович. Благодарю вас, дорогие радиослушатели. Спасибо.
Алексей Козырев:
— До новых встреч в эфире.
Все выпуски программы Философские ночи
Четыре часа. Яна Зотова

Яна Зотова
Четыре часа — это много или мало? Зависит от обстоятельств конкретной ситуации скажете вы, и будете правы. Если занят чем-то увлекательным — не заметишь, как пролетит время, а если провести их в ожидании — то каждая минута тянется бесконечно долго. Это известно. Но недавно я приобрела уникальный опыт, когда время как будто замирает, и ты не чувствуешь, как оно течет. Ты никуда не спешишь, все земные дела остаются где-то на периферии, за кадром, и нет смысла переживать или волноваться, что у тебя дальше будет.
Такое удивительное ощущение пришло ко мне во время долгой, по нашим городским меркам, вечерней службы в Соловецком монастыре. Мы ездим на Соловки уже несколько лет каждое лето с группой Семейных Клубов Трезвости. Первые три раза я больше времени уделяла экскурсиям, всё было очень интересно и необычно. Мы побывали почти на всех островах Соловецкого архипелага, куда можно добраться на кораблях, слушали рассказы экскурсоводов, стараясь запомнить уникальную информацию про то, что на одном острове — тайга, а на соседнем — тундра, 2 прилива и 2 отлива в день, о том что простые деревья здесь либо низкие, по колено высотой, либо имеют много стволов, что помогает им выдержать сильные ветра северного Белого моря, и еще много-много интересного про природу и про историю этого места.
Несколько женщин из нашей группы вечерами ходили на службы в монастырь, а меня тогда немного пугало, что монастырские службы длинные, и я ходила только на воскресную литургию утром. А вот в четвертый наш приезд на Соловецкую землю я все-таки решилась и пошла на всенощную. Вернее, мы пошли. Нас было человек 8, и все потом делились ощущениями, насколько удивительно легко оказалось на этой службе стоять. Словно, сила монастырской молитвы держит тебя в положении стоя, и ты не чувствуешь силы притяжения.
На всякий случай я выбрала себе место поближе к лавочке, чтобы иметь возможность присесть, когда устану, но мне совершенно не хотелось садиться, я с радостью стояла, слушая хор монахов, стараясь не отвлекаться от смыслов песнопений. Мои мирские проблемы, которые обычно крутятся в мыслях, перестали занимать ум. Осталось спокойствие и радость от того, что я здесь, и мне не о чем волноваться, ведь всем руководит Господь.
Четыре часа прошли не долго, и не коротко, а как будто в совершенно другом измерении. Казалось, можно простоять еще столько же, совсем не испытывая усталости.
Если нашу земную жизнь рассматривать как пребывание в зале ожидания рая, где каждый сам выбирает, как ему провести это время, то монастырские службы дают ощущение, что ты уже при дверях. И как хорошо, что можно побывать на таких серьезных Богослужениях, прикоснуться к этому святому, настоящему. Почувствовать силу и величие монашеского подвига. И надеяться, что по молитвам монахов Господь будет милостив и к нам.
Автор: Яна Зотова
Все выпуски программы Частное мнение
Узок путь. Анна Тумаркина

Анна Тумаркина
В Евангелии от Матфея говорится, что в Царствие Небесное невозможно войти без усилия. «Тесны врата и узок путь» — вот что мы знаем о дороге, ведущей ко спасению. Было время, когда я неправильно понимала этот стих из Евангелия. Казалось, что надо самостоятельно воздвигать себе препятствия: всё, ну буквально всё в жизни усложнять. Ладно бы просто по-неофитски усердно поститья до истощения, молиться, читая по несколько акафистов в день, регулярно посещать многочасовые монастырские службы. Хотелось усложнить не только духовную жизнь. Мне думалось, что и обычный труд должен выполняться на грани возможностей. Что нужно браться за самую трудную работу. Решать самые тяжелые задачи. Нести непосильный груз. Что ж, в моей профессии, в преподавательской деятельности, таких возможностей достаточно. И я взялась совершать подвиги!
Вот, к примеру, ученица шестого класса, 11 лет. Низкая успеваемость. Причина — задержка умственного развития. Вот — подросток. 16 лет, прогулявший почти всю среднюю школу, которому очень нужно сдать экзамены в колледж, потому что в ВУЗ он поступить уже вряд ли сможет. Вот — взрослый студент, которому без знания иностранного языка повышение не дождаться и подготовиться к тесту нужно в кратчайшие сроки. «Что ж, вперед!» — сказала я себе и взялась работать с этими учениками.
Ночами не сплю, читаю статьи по специальной педагогике. Ищу методики для работы с так называемыми «особенными» детьми. Тут же применяю все это к девочке-шестикласснице. Она смотрит на меня удивленно, хоть ей и приятно получать столько внимания и чуткости сразу. А я, вдохновленная собственным энтузиазмом, читаю в ее больших серых глазах то, что словесно выразить ребенок не сможет: «Анна Аркадьевна, ну, я все же не так безнадежна, как вы обо мне думаете».
Шестнадцатилетнего парня гоняю по экзаменационным материалам. Полтора часа интенсивной работы. Он рад и не рад: оценки стали лучше, сон и пищеварение ухудшились. Но ведь старается, грызет гранит науки.
А взрослый студент и вовсе перепугался, как мальчишка-второгодник. Домашнего задания от меня у него стало больше, чем отчетов по работе. Сам уже не знает, за что его сократят: за незнание языка или за несданные отчеты, которые просто не успел сделать.
Окончилось все... нет, не плохо, скорее, нелепо. Девочка-шестиклассница захотела заниматься танцами и на английский язык у неё не осталось времени. Подросток влюбился и снова начал прогуливать школу, а с ней и мои занятия. А взрослый студент со всей семьей уехал за границу: там его знаний английского языка оказалось достаточно.
Я расстроилась. Ведь честно избрала путь потяжелее. Искренне хотела работать на преодоление. Не сразу, но поняла, что делала не так.
По большому счету, хотелось не просто преодолевать трудности. Не только избегать легких путей. Хотелось чувствовать себя... да-да, героем. Великим. Ведь в сказках именно герои преодолевают препятствия, верно? Героя ожидает слава. Вот только... какой из меня герой?
«Кто возвысит себя сам, унижен будет» — сказано в Священном Писании. Забыла об этом, а напрасно. Господь милостив, Он показал, что чрезмерные усилия неуместны, если их корень — самолюбование и гордыня. Много шума из ничего. Когда нужно, Господь Сам направляет на тернистый путь. Важно такой путь принять, а не громоздить самим себе препятствия. Молиться о даровании спасительного пути, о готовности им следовать. Именно этому смирению учусь по сей день.
Автор: Анна Тумаркина
Все выпуски программы Частное мнение
Три красных яблока. Ольга Цой

Испекла я как-то раз яблочный пирог и угостила им своих друзей. Они похвалили угощение и в шутку сказали: «Не иначе, Евфросину Палестинскому молилась!».
Стала я разузнавать, что это за святой такой и причём тут мой пирог. И прочитала, что преподобный Евфросин Палестинский считается покровителем поваров, потому что сам нёс послушание повара в монастыре.
Этот греческий святой жил в девятом веке в Палестине. Как свидетельствует житие, он «претерпевал большие неприятности, поношения, поругания и частые досаждения», но при этом «терпение его было изумительно». Он непрестанно постился и молился. По преданию, святость преподобного Евфросина была открыта некому иерею, который во сне возжелал увидеть Рай. И в том Раю он встретил повара из своего монастыря, брата Евфросина. Повар передал в дар тому иерею три яблока из райского сада. Отче пробудился от сна и обнаружил эти яблоки в своей келье.
Я была так вдохновлена этой доброй и красивой историей, что нашла икону преподобного. На ней святой Евфросин повар держит в руках ветвь с тремя красными яблоками. Но больше всего в житии этого святого меня поразило его безграничное и благодушное терпение. Он никогда не обижался и не раздражался, не опровергал несправедливые обвинения. Просто спокойно делал своё дело — готовил еду. И тогда я подумала — а сколько раз я вышла из себя, пока пекла тот самый понравившийся всем яблочный пирог? Когда случайно рассыпала муку, чуть не порезалась, пока чистила яблоки, когда отругала снующих по кухне детей... Казалось бы, повседневные мелочи, но ведь эти мелочи, как камушки, засоряют душу. И сколько таких «камушков» насобираешь за неделю, месяц, год...
Теперь я стараюсь помнить о примере преподобного Евфросина, о его благоуханных трёх райских яблоках, и не забываю молиться ему. Но не о том молиться, чтобы очередной пирог получился вкусным, а о даровании мне терпения и смирения на всякий день и час.
Преподобный отче Евфросине, моли Бога о нас!
Автор: Ольга Цой
Все выпуски программы Частное мнение














