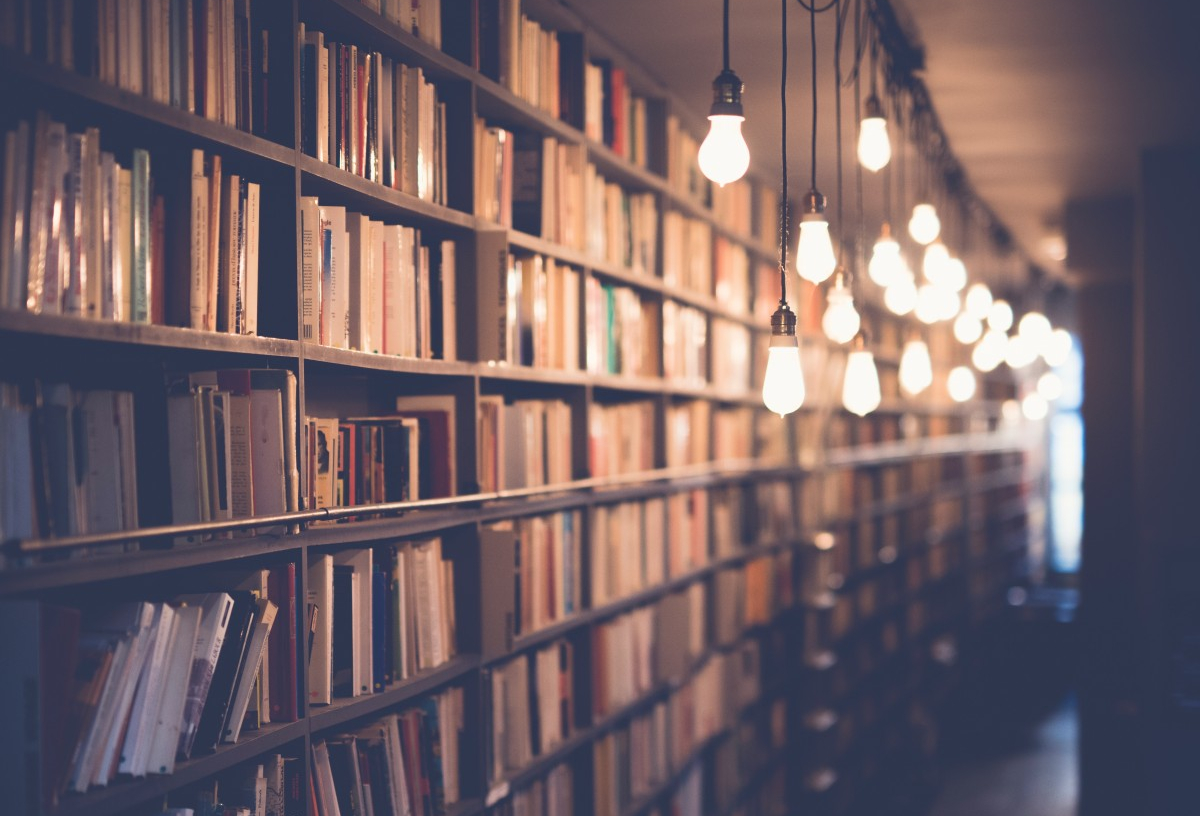
Гость программы — Илья Ермолкин, аспирант Философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (кафедра истории русской философии), один из авторов Радио ВЕРА, руководитель добровольческого отряда.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами её ведущий, Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии волонтерства и добровольчества. У нас в гостях аспирант философского факультета МГУ кафедры истории русской философии, один из авторов радиостанции ВЕРА, руководитель добровольческого отряда Илья Олегович Ермолкин. Здравствуйте, Илья!
И. Ермолкин
— Добрый вечер, Алексей Павлович!
А. Козырев
— Я благодарю вас, что вы пришли поговорить о философии, имеете на это право, поскольку пришли на философский факультет, хотя первое ваше образование журналистское, да?
И. Ермолкин
— Именно так, да.
А. Козырев
— Что же вас привело к занятиям философией? Почему философия? Как вы мыслите себе философию? Как башню из слоновой кости, как какую-то стройную теорию, которая позволит вам упорядочить ваши действия, ваши мысли, или как-то ещё?
И. Ермолкин
— Тут два вопроса: что привело, и кто привёл? Что привело — это, наверное, вопрос тоже философский, потому что с детства мне всегда было интересно понять суть многих вещей, суть того, что вокруг меня происходит. И благодаря тому, что я воспитывался и рос в православной семье, мы общались с разными священниками, богословами, которые отвечали на многие вопросы мироздания, для меня всегда было интересно, как объясняется эта история, как объясняется этот факт, и не только с точки зрения религии. Для меня лично философия — это наука о мироздании. Если математика — царица наук, то для меня философия — это мать всех наук абсолютно, потому что есть философия всего — и математики, и физики, уже есть философия искусственного интеллекта, то есть философией объясняется абсолютно всё. А кто меня привёл — это наш профессор с кафедры истории русской философии Василий Николаевич Пономарёв. Когда я четвёртый курс бакалавриата заканчивал на факультете журналистики, он вёл у нас семинары по истории философии. Мне нравилось, как он преподавал, нравилось готовить домашние задания, доклады, и в один момент он мне предложил: «А не хочешь ли пойти к нам?» А так как я на военной кафедре параллельно учился, то в магистратуру на философский перевестись не мог, мне надо было закончить журфак. В принципе, я и хотел это сделать.
А. Козырев
— То есть ваш православный опыт семейный не помешал тому, что вы обратились к философии?
И. Ермолкин
— Наоборот, только помог.
А. Козырев
— Привёл к философии, которая дополняет ваше религиозное мировоззрение, ваш религиозный опыт, вашу церковную жизнь какими-то более глубинными, более фундаментальными, скажем так, вопрошаниями?
И. Ермолкин
— Да, конечно, потому что я всегда у любого философа ищу какую-то духовную подоплёку. Возьмём того же Владимира Ильича Ленина, который и публицист, и философ, но при этом является абсолютно антирелигиозным человеком. Хотя он с религией всю жизнь боролся, но там тоже абсолютно духовная подоплёка, это именно ненависть, которой он подпитывал себя, она в том, чтобы уничтожить всё, что связано со Христом, с православием, и именно через эту духовную основу как раз и интересно изучать: а как он мыслил, и не только он, но и многие его сподвижники.
А. Козырев
— Кстати, по Закону Божьему у него в Симбирской гимназии была четвёрка, он был очень успешный ученик, изучал иностранные языки, но, видимо, что-то не пошло.
И. Ермолкин
— Он с золотой медалью закончил Царскую гимназию, как и Керенский, они же вместе заканчивали, насколько я помню.
А. Козырев
— То, что вы говорите, мне напоминает подход отца Василия Зеньковского в «Истории русской философии», который тоже рассматривает и представителей радикального направления русской мысли, ища какие-то религиозные мотивы и у Белинского, и у Чернышевского, и у Герцена, и у Добролюбова. Все эти деятели прописаны в «Истории русской философии» Зеньковского, он смотрит на их отношения со Христом, с Церковью, отношения иногда очень противоречивые, иногда радикально отрицающие, но ведь и в атеизме есть очень мощная религиозная подпитка.
И. Ермолкин
— А потому что они с ней борются. Как можно не иметь духовную подпитку, если ты с этим борешься? Это же логично.
А. Козырев
— Мы сегодня собирались поговорить с вами о том, чему вы посвящаете значительную часть вашего свободного времени. Каждый по-своему организует досуг: кто-то ходит в театры, кто-то играет в азартные игры, кто-то спортом занимается, а вы занимаетесь волонтерской деятельностью, и, насколько я знаю, занимаетесь ею не только у себя дома, в Москве, но выезжаете на новые территории и туда, где сейчас идут боевые действия. Что вас привело к этому, почему вдруг вы почувствовали в себе такой зов?
И. Ермолкин
— Этот зов у меня был с детства, желание помогать и служить Отечеству у меня было ещё с малых лет. Меня воспитывали на советских мультфильмах, советских фильмах, в основном, военно-патриотических. Один из любимых фильмов в детстве, когда мне лет 11 или 12 было, а может, и раньше — фильм «Александр Невский» Эйзенштейна.
А. Козырев
— С музыкой Прокофьева, да?
И. Ермолкин
— Да. Чуть позже и фильм про Александра Суворова. У меня всё время стремление было как-то помочь, причём не просто помогать: что-то собрать, какие-то письма отправить — для меня это было не то. Я хотел именно поехать на передовую, вступить в ряды какого-нибудь подразделения и плечом к плечу с сослуживцами защищать нашу Родину. Но во всём есть Божий Промысл и у каждого своя задача, своё предназначение, потому что от некоторых гораздо больше пользы на поле боя, а в моём случае оказалось гораздо больше пользы в помощи подразделениям, обеспечивая их всем необходимым. Моя мечта исполнилась в 2023 году, когда я закончил военные сборы и получил военную специальность: «информационно-психологическое обеспечение военной деятельности», а по факту то, чем я занимаюсь, отчасти является именно этим. Мне поступило предложение от священника и руководителя одной из гуманитарных групп вступить в их коллектив и поехать в Запорожскую область в добровольческое подразделение 20-го БАРСа (Боевой армейский резерв страны), чтобы я выступил перед бойцами со своим творчеством, потому что я пишу стихи, в том числе военно-патриотические, это вообще основа моего творчества.
А. Козырев
— Читаете их или поёте?
И. Ермолкин
— Нет, не пою пока, но недавно, освоив искусственный интеллект, начал заливать свои стихи в одну из программ, она пишет музыку и вокал и очень часто попадает в точку. Я приехал в августе 2023 года в Запорожскую область и выступал перед бойцами, это нашло отклик у них и в глазах, и в сердце. Ко мне многие подходили, в том числе один боевой медик, у него был позывной «Псих», и сказал, что, хоть он и атеист, но душу и сердце зацепило. В следующие разы, когда я приезжал (а всё это стало для меня происходить на регулярной основе), у него уже шеврон «Спас Нерукотворный» на правом плече, и он вместе с нами ходил на молебен.
А. Козырев
— Принял крещение?
И. Ермолкин
— Да, как оказалось. Потом он сам рассказывал мне, что у него дочка, тогда ей было лет девять, и она ему пишет: «Папа, мы с мамой ходим в воскресную школу в храме, я вместе с другими девчонками вяжу перевязки, готовлю всевозможные наборы для наших бойцов, тоже буду помогать фронту». Маленькая девочка, девять лет, и это его тоже сподвигло.
А. Козырев
— Говорят, что на войне атеистов не бывает.
И. Ермолкин
— Именно так.
А. Козырев
— Вот такая судьба этого человека, «Психа», имя которого мы с вами не знаем, это условия войны, кто-то их и не сообщает специально. Но его история очень показательная, и мне о таких историях много рассказывал священник Михаил Васильев, Герой России, который погиб, выполняя свой пасторский долг. Он постоянно ездил в горячие точки, и не только на Украине, но и в Сирии, в Чечне, прошел, по-моему, 12 горячих точек, был кавалером ордена Мужества. Он мне рассказывал много таких историй, когда на передовой буквально крестил бойцов. Вы это своими глазами увидели, почувствовали и, возможно, как-то в этом поучаствовали, потому что ваши стихи могли быть той последней капелькой, которая сердце человека обратила к вере, да?
И. Ермолкин
— Да, именно так, потому что стихи у меня не только военно-патриотические, но ещё и православная, духовная основа в них есть.
А. Козырев
— А священник, который вас туда привёл, он московский? Приходской священник?
И. Ермолкин
— Он был раньше подмосковным, а сейчас это ТиНАО, считается по факту частью Москвы, это Новая Москва.
А. Козырев
— Это, видимо, не единичный случай, когда наши пастыри занимаются добровольческой деятельностью?
И. Ермолкин
— И слава Богу. Кстати, в нашей русской философии есть ярчайший пример, я даже этого не знал, это небезызвестный философ Павел Александрович Флоренский. Будучи священником, в 1914 году он стал, по-моему, доктором богословия, насколько я помню.
А. Козырев
— Магистром богословия, он преподавал в Московской духовной академии, был профессором.
И. Ермолкин
— Да, и он в годы Первой мировой войны на санитарном поезде поехал на фронт и по факту выполнял две роли: и как походный священник, и был параллельно санитаром. Это, кстати, и образ Луки (Войно-Ясенецкого), который был и священником, и гениальным хирургом. Духовнику Павла Флоренского, епископу Антонию (Флоренсову), не нравилась эта его деятельность, и второй раз он его не благословил, как и не благословил на монашество, кстати. Тем не менее, отец Павел не просто служил Богу и людям на фронте, он ещё и писал свои заметки, они так и назывались «В санитарном поезде Черниговского дворянства. Заметки и впечатления», в 1915 году они были изданы. Но его духовник считал, что от него больше пользы на кафедре, чтобы он преподавал и просвещал людей в гражданской жизни. Хотя Павел Александрович очень много сделал для наших ребят, для бойцов. Для меня наши русские философы являются неким условным идеалом (условным — потому что идеален только Бог), к которому необходимо стремиться, когда ты развиваешься в какой-то среде, в какой-то области. И для наших батюшек образ Павла Флоренского — ярчайший пример, безусловно.
А. Козырев
— Он не канонизирован как священномученик, но, по сути, его смерть в 1937 году была исповедничеством. Он провёл четыре года в лагере и в 1937 году был умерщвлён, когда его с Соловков перевозили куда-то там в Ленинград. Вот как вам кажется, Илья, добровольчество и волонтёрство — это одно и то же? Мы иногда говорим: «волонтёры», «волонтёрское движение», и мне кажется, есть даже какие-то определённые регламентирующие документы, которые принимает власть, я не очень силён в этой юридической базе. А иногда говорим «добровольцы». В чём разница этих слов, и какое из них более нагружено религиозным смыслом?
И. Ермолкин
— Во-первых, слово «доброволец» именно русское, то есть по доброй воле человек пренебрегает своим свободным временем, которое он мог бы потратить на что-то развлекательное, на что-то такое расслабляющее. А наши волонтёры, добровольцы не просто жертвуют своим временем — они наполнены вдохновением, они отправляются на фронт и помогают нашим ребятам, поддерживают их не только в том, чтобы собрать груз, привезти, отвезти, передать, а именно побыть с ними какое-то время. Кто-то выступает, кто-то, как батюшки, читает им проповеди, приводят к вере многих. Мне лично слово «доброволец» больше подходит, во-первых, оно русское, но, с другой стороны, когда ты находишься на фронте, с этими словами нужно быть аккуратнее. Со мной была история, когда мы пересекали границу, выезжали из Донецкой Народной Республики и, когда мы проходили таможню...
А. Козырев
— Выезжали на большую землю, да?
И. Ермолкин
— Да. И на таможне стоял столик, за которым сидел боец и какие-то списки заполнял. У нас многие в военной форме же туда ездят, а я был ужасно уставшим, и нас так строго спрашивают: «Вы кто?». И, хотя я самый младший в группе, за священника, за всех, беру и громко говорю: «Мы добровольцы!» И на меня все начали шикать: «Ты что говоришь?» А «добровольцы» — это же участники добровольческих военных подразделений, как раз мы в один из них ездили.
А. Козырев
— Как, собственно говоря, и волонтёры — поначалу это были бойцы, комбатанты, которые не получали деньги за своё участие в войне, получали славу, может быть, получали добычу. Первое значение этого слова, по-моему, еще с ХVII века, оно давно в русском языке, хотя оно и не русское — «волонтёр» — это были люди, которые именно воюют, а не которые оказывают гуманитарную помощь, поэтому здесь такая омонимия своего рода.
И. Ермолкин
— И нас попросили подойти к этому столу, должны были внести в какие-то списки: «Предоставьте ваше удостоверение», и тут я понял, что сказал что-то не то. Конечно, начали объясняться, что мы не добровольцы, мы волонтёры. Поэтому в зоне проведения боевых действий надо быть аккуратнее с такими словами и использовать слово «волонтёр» или слово «гуманитарщик», то есть либо так, либо так.
А. Козырев
— Я не случайно задал вам этот вопрос, потому что для нас в мирной, спокойной обстановке это синонимы, это слова, которые взаимозаменяют друг друга, но, когда ты попадаешь в другую реальность, где слово весит гораздо больше, тут есть серьёзное различение между этими понятиями. А почему вообще нужно делать добрые дела? Вот Лютер, один из главных реформаторов XVI века, произнёс: «Sola Fide» — «только вера». Ну, добрые дела ведь так мелочны, незначительны по сравнению с первородным грехом, они нас не спасут, спасает только вера. Понятно, что это протестантизм и мы должны что-то ответить, поскольку принадлежим к другой деноминации, которая исторически более укоренена в предании, в истории Церкви. Что могут дать нам добрые дела: комфорт, покой, утешение, моральное оправдание, что и мы тоже не в стороне, или что-то большее?
И. Ермолкин
— Для меня лично то, что мы не в стороне, особо важно понимать, потому что все мои прадеды, у меня один прадед — священномученик, от которого осталась только фамилия — Сельский, он в своё время укрывал наших советских солдат, за что его замучили фашисты, выдёргивая по волоску из его бороды.
А. Козырев
— Это где было?
И. Ермолкин
— Это как раз на территории РСФСР было, когда они уже зашли.
А. Козырев
— В оккупации, да?
И. Ермолкин
— Да, именно так. Он не ушёл со своего сельского прихода, своих не сдал, хотя советская власть его притесняла, но именно свою Родину, потому что для него Родина — это его народ, которому он служит, он его не предал. Другой мой прадед — Георгий Сергеевич Синюков, он принимал участие в войне на Ленинградском фронте. Так получилось, что его ранили, и в санитарном поезде от истощения, это был самый голодный фронт, он погиб — по крайней мере, врачи констатировали смерть. Его вместе с другими бойцами выложили рядом с железной дорогой, засыпали снегом, и в какой-то момент он очнулся. Тут случилось чудо — рядом проходил обходчик, который его откопал, он, слава Богу, ещё лежал сверху, дотащил до ближайшего госпиталя и к нему приставили персональную медсестру, которая из пипетки каждые 15 минут его кормила, иначе было выходить его нельзя, и она ему сказала: «Жить тебе до ста лет». Он прожил ровно сто лет, и умер на 101-м году жизни в 2000 году. И когда у меня такие предки, у меня было осознание: а как я могу оставаться в стороне? Я не могу находиться здесь и просто в тылу помогать, я должен ехать на передовую и помогать бойцам, чем могу.
А. Козырев
— То есть важно было увидеть в лицо тех людей, которым ты помогаешь?
И. Ермолкин
— Именно так.
А. Козырев
— Не просто перечислить деньги, потому что это тоже ведь форма помощи, когда собирают пожертвования, что-то покупают, кому-то перечисляют в гуманитарные фонды. Я думаю, что есть очень добросовестные фонды, которые эти деньги доносят до тех, кому это необходимо, но тут надо увидеть в лицо тех, кому ты осуществляешь помощь.
И. Ермолкин
— Адресная помощь, конечно. Для меня это действительно свои люди, и мне там с духовной точки зрения хорошо, потому что, независимо от того, какой веры эти люди, я чувствую единение, единение душ. Там многие вещи, которые в обычной гражданской жизни у нас связаны с дискомфортом, нивелируются, потому что, во-первых, осознание того, что ты жив и слава Богу, а во-вторых, то, что ты жив и рядом с тобой боевые товарищи, которые всегда подставят плечо, защитят, прикроют и тебя не бросят, потому что принцип «своих не бросаем» у нас уже на подкорке сознания.
П. Козырев
— То есть шкала ценностей там другая, да?
И. Ермолкин
— Абсолютно другая. Вот почему часто поднимается проблема реабилитации, адаптации — потому что люди, возвращаясь в обычную гражданскую жизнь, сталкиваются лоб в лоб с такими уже привычными для нас вещами, как лицемерие. В своё время Аркадий Райкин сказал, что «хамство видоизменилось — раньше говорили: «Пошёл вон», сейчас говорят: «Зайдите завтра», и они сталкиваются с этим.
А. Козырев
— Потрясающе, вы помните ещё Райкина? То есть вы не помните, вы, наверное, это где-то услышали, вы не могли его видеть на сцене.
И. Ермолкин
— Я просто напоминаю, что меня воспитывали на советских мультфильмах, советских фильмах и на советской культуре. И вот бойцы сталкиваются с конкретными, привычными для нас человеческими мелкими проявлениями греха.
А. Козырев
— Ну, конечно, если здесь обсуждают, куда поехать отдыхать, в Черногорию или в Турцию и в какой банк вложить деньги, чтобы получить больший процент, вот чем живут люди в мирное время. И тут приезжают люди, которые вчера ещё стояли на тоненькой границе между жизнью и смертью, которые держали за плечо своего товарища, и они сталкиваются с этими «безумно сложными» проблемами, которые мы тут решаем и думаем, как их решить, для них это, должно быть, просто потрясение.
И. Ермолкин
— Да, при том, что они свои вопросы решают очень быстро. Другой вопрос, что иногда радикально, но тем не менее они их решают быстро. Когда на кону человеческая жизнь, здоровье, существование подразделения, а то и судьба страны, они не могут медлить, невозможно так поступать. Они приезжают сюда и сталкиваются с вопросами бюрократии, как у нас Маяковский писал: «Я волком бы выгрыз бюрократизм», они этого не приемлют, и в этом большая проблема. Некоторые с этим могут смириться и стараются решать вопросы по мере возможности, а некоторые не могут смириться, приезжают и смириться не могут.
А. Козырев
— А иногда слышат еще и обидные слова: «Мы вас туда не посылали» или еще что-нибудь в таком духе.
И. Ермолкин
— К сожалению, да.
А. Козырев
— Настроение в обществе бывает разное. То, что было свято для русского человека — поддержать воина, поддержать ребенка, поддержать даже зэка, когда по этапу шли, и русский человек краюху хлеба отдавал, сейчас это как-то размывается и теряется. «Моя хата с краю, ничего не знаю».
И. Ермолкин
— Недавно я читал статью в «Википедии» про нашего русского религиозного мыслителя Николая Федорова, с удивлением узнал, что память о нем только сейчас потихонечку начинает возрождаться, и я увидел, что недавно была учреждена медаль имени Николая Федорова, в том числе и за библиотекарское дело. На лицевой стороне его портрет, а на обратной стороне выгравирована его цитата: «Жить надо не для себя и не для других, а со всеми и для всех». Меня это поразило. Вот это как раз идея всеединства, идея соборности, которую и Хомяков развивал, а термин ввёл наш тоже философ Самарин, и я узнал, что аналогов в мире этому термину нет.
А. Козырев
— Ну, термин-то ввёл ещё Никео-Константинопольский Символ Веры, кафоликос, Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь, то есть Церковь Соборная, один из признаков Церкви — соборность, не русского человека, не славянина, а христианина как такового. Христианин не может жить без того, чтобы собороваться с братьями по вере. Если это по-другому, если это соборование превращается в крестовый поход или ещё во что-то, значит, это не то христианство, ложное, искажённое христианство. Поэтому в основе нашей веры понятие соборности. Славянофилы были просто хорошими верующими людьми церковными, которые услышали это в церковном предании и попытались донести это до общества. А я, знаете, подумал: вот у замечательного русского писателя Михаила Пришвина есть огромный дневник, 19 томов, всю жизнь он вёл этот дневник, и в 1922 году у него есть одна очень пронзительная запись про помощь. Я как-то в Крыму, ещё до 2014 года, на волонтёрском съезде об этом тексте рассказывал, где Пришвин говорит: «Иду делами добрыми». Вот как бы вы прокомментировали эти слова: «иду делами добрыми»?
И. Ермолкин
— Для меня это определение смысла жизни. Как Николай Фёдоров и сказал, что ты живёшь не только для себя, но, находясь в обществе, ты живёшь жизнью этого общества, и для жизни этого общества ты отдаёшь всего себя — для того, чтобы оно существовало. А идти добрыми делами — это проживать свой жизненный путь, отдавая часть своей души для окружающих тебя людей, для семьи, для друзей, для страны.
А. Козырев
— И приобретая тем самым что-то бесценное, потому что, если ты не отдаёшь, то ты и не приобретаешь.
И. Ермолкин
— Ты приобретаешь Божью благодать.
А. Козырев
— «Душа, аще не умрет, не оживет», то есть отдавая, ты становишься чем-то. Не в том плане, что я раз в день должен совершить доброе дело или раз в неделю, а я как бы возрастаю, это мой личностный рост, который происходит посредством того, что я стремлюсь делать что-то доброе и хорошее. Важно ещё различить, что доброе, а что недоброе, потому что для этого нужен внутренний камертон. Что может быть таким внутренним камертоном?
И. Ермолкин
— Два года назад на проповеди Андрея Ткачёва я услышал от него замечательную фразу, что, если ты не знаешь, как поступить — посмотри в Евангелие. Если это Богом благословляется, то есть, если в Евангелии об этом сказано, понятное дело, что прямым текстом там не будет написано про добровольчество или что-то ещё, но именно смысл будет заложен в этом, то поступай именно так. Если этого там нет, то не нужно идти против Божьего слова, вот и всё. То есть наш жизненный путь диктует нам Сам Господь Бог, Он нам помогает как раз таки не запутаться в том, что есть добро, а что есть зло.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий, Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость — аспирант кафедры истории русской философии философского факультета МГУ, руководитель одного из добровольческих отрядов Илья Олегович Ермолкин. Мы говорим сегодня о философии волонтерства и добровольчества. Как Илья показал, в определенной ситуации это могут быть весьма различные понятия. Еще понятие «гуманитарщик» вы добавили — тот, кто с гуманитарной миссией едет в те регионы, где идут боевые действия и оказывает поддержку деньгами, какими-то продуктами, поддержку духовную, читая стихи, исполняя песни. Есть и наши музыканты, актеры, певцы, кто едет туда, наверное, не только для того, чтобы зарабатывать какие-то социальные очки и звания заслуженных артистов и народных, но и для того, чтобы чувствовать свой жизненный долг исполненным. Я думаю, иногда это совпадает, и ничего плохого в том, что человек поднимает свой социальный статус у себя на родине, делая что-то позитивное, положительное — сегодня, может быть, в волонтерстве, завтра в науке, послезавтра в политике. Я считаю, что это совершенно нормально, потому что еще Платон говорил о том, что политика не есть какая-то автономная сфера деятельности. Политиками становятся философы, люди, получившие хорошее образование и знающие, как устроен мир. У вас есть, кстати, мечта, амбиция стать политиком?
И. Ермолкин
— Это одна из причин, по которой я как раз поступал на философский факультет. Конечно, прямо политиком-политиком, может быть, и не буду, но советником президента — почему бы и нет? Я сейчас не шучу, говорю на полном серьезе.
А. Козырев
— Советник президента — это очень хорошо, но для этого нужно преуспеть в какой-то области, например, в культуре, в журналистике, в IT-технологиях быть лучшим в своей сфере, чтобы умело давать советы, и такие примеры, безусловно, в нашей истории есть. Но я хотел бы затронуть еще вот какую тему: мы с вами занимаемся историей русской философии, это наша профессиональная область. Все-таки для русской философии патриотизм — это случайное явление или это какой-то фундаментальный каркас, на котором русская философия держится? Почему я задаю этот вопрос: было время, в 90-е годы, «нулевые», когда к патриотизму интеллигенция относилась весьма пренебрежительно, если не сказать хуже. Воспроизводились какие-то неумные цитаты западные о патриотах, о патриотизме. Вообще сам по себе патриотизм может ли стать темой философии и быть промыслен философски?
И. Ермолкин
-У одного из наших историков русской философии Николая Лосского в его труде «История русской философии» сказано, что философия Ивана Ильина, нашего философа, так и называется — «православный патриотизм», вот прямо чётко написано, именно так. Ивану Ильину принадлежит замечательное высказывание, что «жить надо ради того, за что можно умереть», а как раз таки у нас многие идут и умирают именно за Родину. Это не значит, что они пошли вот сейчас, вскинув винтовку на плечо, и через пять минут от шального осколка или пули погибли — нет. Жить и умереть за Родину — это, в том числе, фраза для тех людей, которые просто живут и трудятся на благо Отечества с рождения и до самой своей смерти. Один из моих прадедов Василий Михайлович Синяков был главным геологом в советское время, добывал нефть для фронта, к сожалению, погибший на промысле из-за несчастного случая. Это был человек, который, невзирая на людей, которые ему мешали, в том числе и Лаврентий Павлович Берия, который его не любил за то, что тот не преклонялся перед ним, и шесть раз его вносил в расстрельные списки, а Сталин его вычёркивал постоянно красным карандашом. В результате Берию вызвал к себе и сказал, что своих лауреатов он не расстреливает, потому что Василий Михайлович был трижды или четырежды лауреатом Сталинской премии за открытие нефтяных и газовых месторождений. Он был не военным человеком от слова совсем, и с этой областью никак не был связан, но в годы Великой Отечественной войны он помогал фронту поставлять нефтепродукты для того, чтобы работала техника вся необходимая, танки, самолёты и промышленность военная тоже работала. Этот человек сделал не меньше, чем маршалы или простые солдаты, то есть он был наравне со всеми. Это я говорю к тому, что служить Родине и отдавать за неё свою жизнь можно абсолютно по-разному. Патриотизм — это именно отдавать самого себя на благо своему Отечеству и своему народу, и в этом не то что ничего плохого нет — это и есть смысл жизни. К слову, когда наша страна, к сожалению, потерпела поражение после Русско-японской войны, наша интеллигенция слала японскому императору восторженные телеграммы и поздравления. Это как вообще? В голове это просто не укладывается, как может наш русский человек, вроде как цвет нации, в открытую высказываться против своего государства и поздравлять нашего врага?
А. Козырев
— Но и в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны ненависть к большевизму в эмиграции столь сильно зашкаливала, что ряд русских деятелей культуры считали, что Гитлер должен освободить Россию от большевизма, они приветствовали агрессию, приветствовали нападение на СССР. Среди этих имён были весьма значительные имена русских писателей: Мережковский, Шмелёв. Но надо сказать, что такой мейнстрим русской философии, наверное, связан с тем, что люди вовремя поняли, что есть идеология, есть отношение к революции, к атеизму советскому, а есть Родина, которую нельзя выплеснуть с водой, как иногда выплёскивают младенца. Вот и Бердяев, и отец Сергий Булгаков занимали очень пророссийскую позицию во время войны и писали об этом. Я лично нашёл в архиве Булгакова странички его дневника военного, опубликовал его записи 41-го, 42-го, 43-го года, где видно, что его сердце было вместе с Россией, и он всячески желал победы Русской армии, как бы она ни называлась — Красная армия, Советская армия, но она стояла за Россию.
И. Ермолкин
— Наши враги нас русскими называли.
А. Козырев
— Да, может быть, проблема в том, что мы не то что слишком патриоты, а наоборот, стесняемся быть русскими, как вам кажется?
И. Ермолкин
— Недавно Никита Сергеевич Михалков об этом на выступлении в Госдуме и сказал, что русскому человеку присуща некая стеснительность, как-то исторически в нас это заложено. Другой вопрос: как это объясняется? Казалось бы, нам не за что стесняться, не за что извиняться, а скорее наоборот. Я считаю, что это одно из проявлений смирения, вне зависимости от того, сколько ты добрых дел сделал. Сразу вспоминаю высказывание Амвросия Оптинского, который говорил: «Делай, что должен и будь, что будет», а Серафим Саровский как бы ему вторя, говорил: «Знай себя и будет с тебя». То есть мы выполняем каждый свой долг, свои обязанности, начиная от помощи маме и папе с детства, и заканчивая уже во взрослом возрасте исполнением своих обязанностей на работе и служения Родине, служения своему Отечеству. Ты можешь какую-то копеечку нищему на дороге дать, а можешь, как волонтёр, собирать средства, закупать необходимый груз и ездить непосредственно на передовую или передавать его через фонды тем, кто в этом нуждается, в том числе и мирному населению.
А. Козырев
— Я имею в виду ещё и другое, что вот это стеснение быть русскими выражается и в каких-то формах нашего поведения, начиная от одежды и праздников, когда мы обязательно на английском языке должны какую-нибудь песню спеть, чтобы народ закричал: «Вау!» Сейчас немножко это меняется, смотрите, вдруг становятся популярными исполнители, которые поют русские песни у молодёжи, и даже возвращаются какие-то певцы, которые, казалось бы, уже пенсионеры, но вдруг они становятся суперпопулярными и собирают стадионы. Но вот я недавно был в замечательном русском городе Тарусе, который был центром княжества одно время, Тарусское княжество было, и мне пришла в голову мысль, я прошёл по улицам Карла Либкнехта, Розы Люксембург. Вот Москва в начале «нулевых» очень быстро поменяла свою топонимику, вернула старые московские названия — Пречистенка, Остоженка, эти названия часто связаны с названиями храмов. Пречистенка — дорога к Пречистой Божьей Матери, к Новодевичьему монастырю. А глубинка русская по-прежнему продолжает жить в этих тенетах Карла Маркса, Розы Люксембург, Клары Цеткин. Почему? Я не могу ответить для себя на этот вопрос. Если мы патриоты, если мы русские, почему мы должны как мантру повторять эти имена немецкой социал-демократии, имена людей, некоторые из которых проповедовали свободные отношения половые, там «стакан воды». Вроде мы отмечаем День семьи и верности, вот недавно у нас был праздник, и в то же время мы поклоняемся этим идолам немецкой социал-демократии. Почему нам не хватает внутренней честности изменить название городов, станций метро? Вот станция «Войковская»: сколько в своё время писали писем, чтобы поменять это название в честь убийцы царской семьи фактически — воз и ныне там. Может быть, вы, как молодой человек, ответите на этот вопрос?
И. Ермолкин
— Как молодой человек я вряд ли смогу ответить, потому что мне часто свойственно радикально решать некоторые вопросы и проблемы, но здесь я благодарен своим родителям, которые, я думаю, благодаря тому, что я родился у них поздно, мыслят не эмоциями, а за счёт холодного рассудка и трезвого ума, они мне не раз говорили, что необходимо время, чтобы это прошло. Другой вопрос: сколько? Но, к сожалению, выкинуть из нашей памяти то, что это было, даже какие-то постыдные истории, постыдные вещи, к сожалению, в умах многих людей, кто жил в то время, эти имена, не хочется употреблять слово «святые», но являются неким примером, каким-то идеалом.
А. Козырев
— Привычка. «Привычка свыше нам дана», как говорил Пушкин. Я помню, какой шёл огромный шум: «Как можно Ленинград обратно переименовать в Петербург, Петербург — это древность, это уже давно прошло!» Но переименовали, и ничего, и мы ездим с вами в Петербург, и называем этот город кто Питером, кто Петербургом, кто Северной Венецией, и мир ведь не сошёл с рельс, да? История продолжается. И в чем-то, возможно, это название сегодня более укоренено в массовом сознании общества. Очень важно связанное историей блокады имя «Ленинград», которого у города никто не отнимает. Но вернёмся к теме нашей программы. В истории русской философии, которой мы с вами занимаемся, такая организация как YMCA (ИМКА) — Христианский союз молодых людей, которая возникла в Соединённых Штатах в середине XIX века и была волонтёрской, добровольческой организацией, сыграла очень важную роль. Когда русские беженцы, русские эмигранты оказались в Берлине, в Праге, в Париже, ИМКА оказала серьёзную помощь. Помогла в организации издательства, которое публиковало тексты русских философов, тех же Булгакова, Бердяева, Франка, Лосского, оказала помощь в организации богословского образования — Свято-Сергиевский Богословский институт в Париже, и в церковной жизни, в создании новых приходов. Эта протестантская по своему происхождению организация, но здесь есть не только конфессиональные, вы об этом хорошо сказали, но и общечеловеческие какие-то вещи, когда помочь нужно не только своему единоверцу, но человеку как таковому. Почему мы стремимся помогать людям, которые другие по вере, другие по национальной своей принадлежности?
И. Ермолкин
— Мне кажется, что это некая духовная генетика, потому что русский народ с давних пор воспитывался на евангельских принципах, и мы очень хорошо помним, как в Евангелии было сказано о том, что легко любить человека, который любит тебя в ответ, легко прощать долг тому, кто его тебе вернул. И тут, мне кажется, такая же идея, что легко любить своего единоверца, человека, который мыслит точно так же, как и ты. А когда мы помогаем абсолютно другим людям, вот вы привели в пример ИМКУ, где люди вроде тоже христиане, но при этом со своим мировоззрением, со своими устоями, некоторые, возможно, агрессивно не принимающие ортодоксальную Церковь и католическую, у них абсолютно разные взгляды на жизнь. Но так или иначе, все же являются потомками Адама и Евы, то есть все мы — дети, братья и сёстры во Христе, и как можно отказать, если трезво рассуждать, человеку такому же, как и ты? Ну да, у тебя своё мировоззрение, у тебя какие-то свои взгляды на эту жизнь, но ты же не перестаёшь быть братом во Христе, ты по факту точно такой же человек, тебя отличает просто какая-то твоя внутренняя составляющая.
А. Козырев
— Образ Божий несешь в себе.
И. Ермолкин
— Да, а основа — ты такой же сын Божий, ты — Его создание, и это осознание должно сподвигать не отворачиваться от человека, который, возможно, даже тебе неприятен.
А. Козырев
— Вообще одна из величайших загадок, тайн христианства (может быть, мы с вами недостаточно богословски компетентны, чтобы на этот вопрос отвечать) это фраза Христа — «Любите врагов ваших».
И. Ермолкин
— У нашего поэта Ветрова есть замечательное стихотворение, где есть такие строчки: «Русский воин грозен в битве, но завещано ему: он ни в хлебе, ни в молитве не откажет никому». Это как раз к той теме, которую вы подняли. В своё время и Кутузов, глядя на убегающих французов, сказал: «А теперь мы можем их и пожалеть». Хотя это не просто люди, которые пришли на нашу Родину, это те, кто устраивал в наших православных монастырях и храмах стойла для лошадей прямо в алтаре, это люди, которые вроде как тоже христиане, казалось бы, и у них тоже есть храмы. То есть они, в отличие от протестантов, не утратили Причастия.
А. Козырев
— Но мы не будем забывать, что Наполеон был человеком неверующим, более того, это достаточно кощунственный человек, коронация которого была кощунством в Нотр-Даме. Папу специально привёз и без Причастия возложил на себя корону. И это последствия Французской революции, то есть люди, которые пришли на Русь, были детьми Французской революции, которых учили так же над своими святынями издеваться и надругаться. Поэтому ничего удивительного, что они устраивали стойла в алтарях, они и у себя-то в алтарях бог весть что устраивали. Здесь больше, конечно, впечатляют слова Кутузова: «мы можем их и пожалеть». Жалость — это христианское чувство вообще?
И. Ермолкин
— Да, это даже логически объясняется: у нас был такой древнерусский инструмент — жалейка. А на древнерусском языке жалеть — это то же самое, что любить. А любовь — это то чувство, которое свойственно Богу, которое Он заложил в человека. Потому что Бог и есть любовь.
А. Козырев
— Владимир Соловьев говорил, что «государство — это организованная жалость». То есть жалость — это такое фундаментальное свойство человеческой природы, жалость, сострадание к другому человеку. Только эту жалость нужно сделать активной, деятельной, не просто жалеть и плакать, опустить руки безнадёжно, по головке погладить, но это жаление должно быть служением. Здесь хочется задать вопрос: а вот служение, само понятие служения — это философия раба или это философия аристократа? Кто служит?
И. Ермолкин
— Раб не служит, он безвольно подчиняется. Как мы ещё помним из учебников по истории со школы, что раб — это тот низший класс общества, который не имеет прав, а исключительно обязанности. Я бы даже сказал, не обязанности, а какое-то своё плачевное низкое предназначение. Ты ничего не можешь сделать, у тебя есть хозяин, даже не просто господин, а хозяин, господин больше для аристократов подходит, потому что служение — служение Богу, а господин — однокоренной со словом Господь, и аристократы служат за веру, царя и Отечество, как наш русский лозунг. А раб — это человек, если в современном понимании брать, то это может быть обычный обыватель. В нашем понимании современном раб — это среднестатистический обыватель.
А. Козырев
— Который ищет, кому себя подороже продать.
И. Ермолкин
— Либо так, либо, я по-другому хочу сказать, что это не обыватель среднестатистический, а, может быть, даже элита так называемого современного общества, которым кажется, что они свободны. А на самом деле, я не раз об этом сам с собой рассуждал, что многие люди давным-давно перепутали понятие «свобода» и «свобододелание». «Свобододелание» вроде как однокоренное со словом «свобода», но на самом деле по смыслу — это рабство. А что это за рабство? А когда человек делает то, что ему вздумается, он это делает не по собственной воле, не по собственному желанию, ведь ещё Тертуллиан говорил: «Всякая человеческая душа есть христианка», христианин не может делать то, что ему вздумается, а человек становится рабом собственных грехов и страстей.
А. Козырев
— Это то, что называется на философском языке произвол или «liberum arbitrae indiferencia», если говорить на латинском языке, то есть «безразличная свобода», «безразличная» в том плане, что она никак не связана с категориями добра, ответственности, служения, то есть что хочу, то и делаю. Так что сознание того, что есть подлинная свобода, тоже связано с нашими великими философами. Вот Бердяев писал глубокую работу о свободе — «Философия свободы», и нам, наверное, нужно поучиться у наших православных мыслителей, когда мы хотим ответить себе на вопрос: что такое свобода, а не у таких основоположников западного либерализма, как Карл Поппер, например. Возможно, здесь мы глубже поймём свободу. Завершая нашу программу, может быть, у вас есть какие-то пожелания к своему поколению, к людям, таким же, как вы? Как можно войти из текучего мещанского обывательского состояния в состояние позитивного делания, добровольчества, которым вы занимаетесь, что для этого нужно сделать?
И. Ермолкин
— Для этого нужно с самого детства, как я это вижу со своей стороны, и на протяжении всей своей жизни учить себя и приучаться к ответственности. Кстати, это очень хорошо проявляется в многодетных семьях, когда уже старшие братья и сёстры ухаживают и помогают маме с папой присматривать за своими младшими братьями и сёстрами, за младшими детьми. И в более старшем возрасте у них уже есть не просто ответственность за что-то, а за кого-то. Потому что волонтёр и гуманитарщик, безусловно, служат Родине, но они отвечают в буквальном смысле слова за жизни бойцов. И посоветовать, как я уже сказал, можно, именно приучая себя к ответственности. Очень часто у нас любят бросаться фразой Суворова, которую он сказал при переходе через Альпы: «Мы русские, с нами Бог!» Я долго задумывался над этой фразой, ведь это не какой-то карт-бланш, что раз с нами Бог, то нам можно всё или мы можем вообще ничего не делать, а зачем? Как в песне поётся: «На небе Бог, а на земле Россия». Всё, мы ходим под Богом, Он нам и так всё сделает, потому что мы русские, и всё, у нас как бы полная свобода действий, а на самом деле ведь нет. И я сделал лозунгом фразу своего движения «Б.Р.А.Т»: «С нами Бог, а за нами Россия», то есть мы, имея помощь Божию, должны использовать её для защиты нашего Отечества, как девиз ВДВ: «Никто, кроме нас!» А кто, кроме русского человека, сможет защитить Россию? Да никто.
А. Козырев
— Ну что же, я благодарен вам за то, что эти лозунги стали для нас с вами частью нашей жизни, и что вы пережили это как свою религиозную судьбу. Это осознанный выбор человека, который с детства живёт в вере, в Православной Церкви и который понимает, что, если что-то мы делаем по благословению, глубоко понимая корни и смысл, то Бог действительно будет пребывать с нами, а если мы безответственно поступаем, то, наверное, Бог может и отступить от нас. Здесь не оберег и не какая-то магическая сила, мантра, талисман, который с нами. Бог — это Личность, и мы тоже — личности. Мы совершаем личностный выбор, мы вступаем с Богом в диалог и, наверное, это лежит в основе философии добровольчества и волонтёрства, о которой мы сегодня поговорили с нашим гостем, молодым учёным, аспирантом философского факультета МГУ Ильёй Ермолкиным. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Радио ВЕРА.
И. Ермолкин
— До свидания! Спасибо огромное.
Все выпуски программы Философские ночи
22 января. Об истории и значении осады Троице-Сергиевой Лавры польскими войсками

Сегодня 22 января. В этот день в 1610 году закончилась осада Троице-Сергиевой Лавры польскими войсками.
Об истории и значении этого события — доцент Московской духовной академии архимандрит Симеон Томачинский.
Все выпуски программы Актуальная тема
22 января. О жизни и служении Павла Флоренского

Сегодня 22 января. В этот день в 1882 году родился русский религиозный философ Павел Флоренский.
О его жизни и служении — настоятель Храма Рождества Пресвятой Богородицы села Песчанка в Старооскольском районе Белгородской области протоиерей Максим Горожанкин.
Все выпуски программы Актуальная тема
22 января. О феномене старчества на примере Преподобного Ионы Киевского, чудотворца

Сегодня 22 января. О феномене старчества на примере Преподобного Ионы Киевского, чудотворца, в день его памяти — руководитель просветительских проектов издательского Совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово-Гагарино в Рязанской области — священник Захарий Савельев.
Все выпуски программы Актуальная тема













