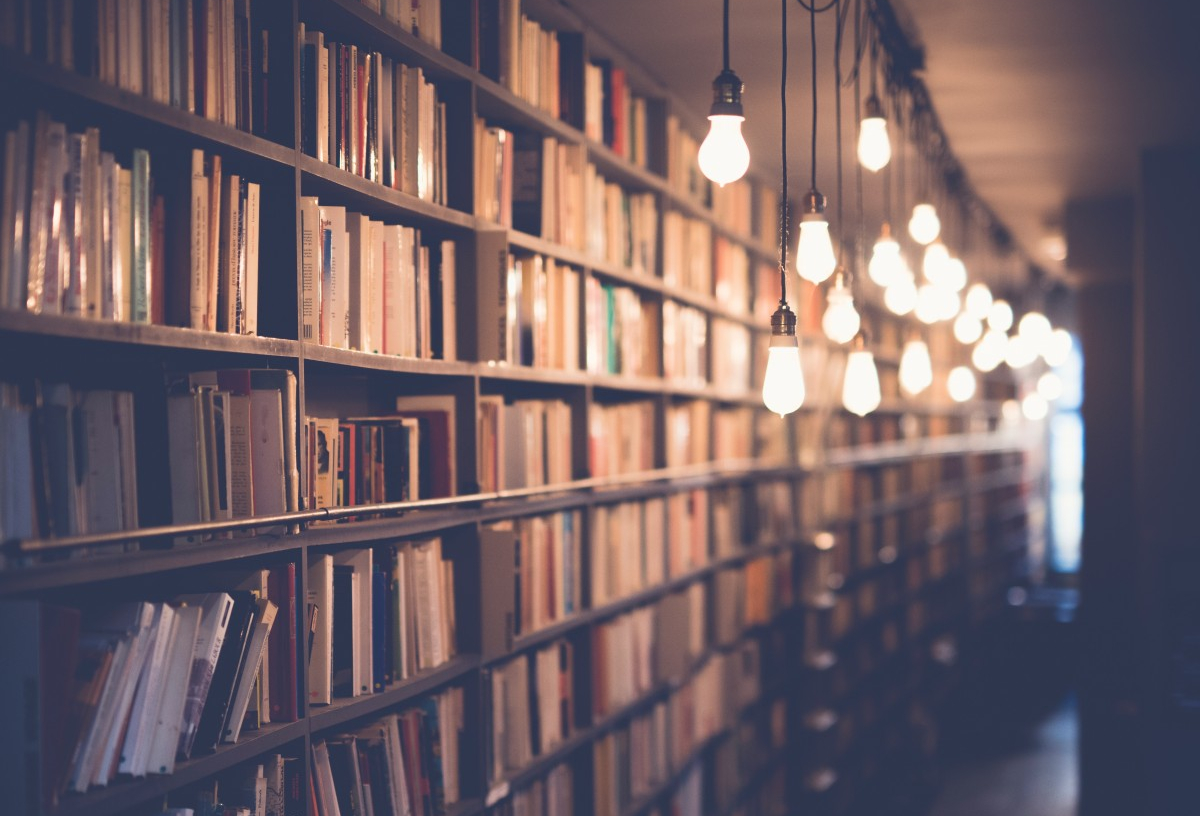
Гость программы — Николай Кавкин, философ, студент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, помощник депутата Государственной думы Российской Федерации.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий — Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Родине и вере. У нас в гостях студент философского факультета, молодой философ, помощник депутата Государственной думы — Николай Александрович Кавкин. Здравствуйте, Николай!
Н. Кавкин
— Здравствуйте, Алексей Павлович! Большое спасибо за приглашение. Добрый вечер всем радиослушателям.
А. Козырев
— Нам интересно, что думает молодое поколение, поэтому я приглашаю в студию не только академиков и наших маститых философов, но и тех, кому предстоит принимать штурвал, и не только философский, но вообще-то наше общество, наша власть нуждается в философах. Я думаю, вы это прекрасно понимаете, потому что, будучи студентом, вы уже работаете в Государственной думе Российской Федерации, видите, как решаются многие вопросы, в том числе связанные с конфессиональными, с религиозными проблемами, которые стоят перед нашим обществом. Для вас это способ карьеры, если честно, или желание как-то изменить нашу страну, жизнь в стране?
Н. Кавкин
— Алексей Павлович, я не могу сказать, что это способ карьеры, потому что я для себя карьерных целей никогда не ставил. Так уж повезло мне родиться в достаточно обеспеченной семье, поэтому какой-то нужды я в жизни никогда не испытывал, и при трудоустройстве в Государственную думу не то чтобы я шёл по чьим-то головам как упорный макиавеллист — нет, меня позвали, пригласили.
А. Козырев
— Но прежде вы пришли на философский факультет, это уже объясняет, что для вас вопросы понимания первичны.
Н. Кавкин
— Да, и самый главный для меня вопрос — понять, проанализировать, осмыслить и что-то новое принести в систему, в которой я живу.
А. Козырев
— А вот с Церковью вас познакомили родители, или вы сами пришли?
Н. Кавкин
— С Церковью меня познакомила семья, причём я бы назвал свою семью не глубоко религиозной, но религиозной. У меня большая семья — четыре сестры, родители, бабушка, у старшей сестры уже свои дети, то есть нас много, человек двенадцать в доме собирается. И из-за того, что нас много, нам нужно собираться постоянно. И отец в детстве ввёл традицию, что каждое воскресенье мы все приезжаем домой — а мы живём в разных местах, уже сепарирована семья друг от друга, — но каждое воскресенье в восемь вечера мы приезжаем в родительский дом, и вслух кто-то один читает главу Нового Завета. Это такой час времени, когда мы можем провести время вместе, как-то задуматься.
А. Козырев
— Это делается перед ужином, перед трапезой?
Н. Кавкин
— Это ни к чему не привязано, вот просто в восемь часов вечера каждое воскресенье.
А. Козырев
— Ну потом вы ужинаете, наверное, я надеюсь?
Н. Кавкин
— Мы можем и потом, можем и перед чтением, но главное, что для нас Новый Завет получился точкой объединения, точкой сборки, когда есть сложность уже того, что все выросли, разъехались.
А. Козырев
— А есть какие-то любимые главы, любимые места в Новом Завете, в Евангелии или в посланиях Апостольских? Конечно, это вопрос на засыпку, что называется, но может, что-то врезалось в память, что иногда, как метроном, в сердце повторяет какие-то слова или какие-то притчи?
Н. Кавкин
— Для меня и для моей работы, наверное, самая важная история — это само Воскресение, то, как оно описано. Я постараюсь объяснить. Так как я связан с политикой, а политика — это дело, где ценности очень часто размываются, смываются, их увидеть и понять тяжело, поэтому я всегда внутренне обращаюсь к Воскресению Христа, и понимаю, что, если Он воскрес, то есть жизнь вечная, а значит, есть что-то большее, чем моя жизнь насущная, которая здесь.
А. Козырев
— Повседневная, будничная.
Н. Кавкин
— Да. Это мне помогает разглядеть истину, которая может крыться, причём кроется она, как оказывается, всегда на самых явных и видных местах, и не заблудиться.
А. Козырев
— Это, наверное, не только ваш опыт, это опыт и предшествующих поколений русских философов: Сергея Николаевича Булгакова, который был депутатом Государственной думы, Ивана Александровича Ильина, который тоже активно участвовал в политической жизни общества, Василия Васильевича Зеньковского, историка русской философии, он пять месяцев был министром Временного правительства у гетмана Скоропадского, Антона Владимировича Карташова, он был пять месяцев министром Временного правительства Керенского. То есть мы видим, что те фигуры, с которыми мы встречаемся в наших курсах по истории русской мысли, путь в политику — удачно, неудачно, но всё-таки совершали. Значит, есть какое-то стремление попытаться облагородить политическое теми ценностями, которые приносит нам Христос и приносит Библия, да?
Н. Кавкин
— Конечно, это одна из главных составляющих, я считаю, особенно русской политики и русской философии. Это стержень, благодаря которому можно не скатиться во мрак и не заблудиться. Если мы вспомним историю 90-х годов, когда всё смешалось, люди, кони, только воцерковлённые и религиозные политики отстаивали ценности, актуальные на сегодняшний день. После начала специальной военной операции эти ценности возвращаются как раз. А христианская мысль очень глубоко пропитывает русское политическое поле, без неё, я так понимаю, идти-то некуда.
А. Козырев
— А у вас есть любимые философы? Вы пришли на философский факультет, уже получили диплом первый, диплом бакалавра, то есть первый этап пройдён.
Н. Кавкин
— Если говорить про русских философов, то для себя особое место выделяю Ивану Ильину из-за очень глубокой нравственной идеи государства и общества. Его концепции правосознания и духовности взывают человека к нравственности, при этом он очень умело объединяет Родину и веру, потому что для него Родина и государство — это духовная связь, духовное воплощение Родины, оформленное публичным правом, причём право это зиждится и основывается на вере, глубокой вере.
А. Козырев
— У него есть такой термин — «волевая идея, то есть это не одна какая-то воля, не воля вождя или какого-то фюрера, а это воля нации к самосохранению, к самосозиданию, к строительству, и государство — это произведение вот этой воли, воли нации, народа, осознавшего себя как политическая нация.
Н. Кавкин
— Конечно, да. А самое главное — живой организм, не написанный шаблонно. Я покритикую чуть-чуть идею либеральной демократии, потому что она мне кажется очень фанерной и прописанной. Вот мы прописали, как заявляется, общечеловеческие законы того, как нам устроить общежитие, общественную жизнь, но это, получается, мёртворождённый проект. Организм, где кто-то пришёл, насадил какие-то законы, относятся они к этому народу, к этому обществу, к этим людям конкретным, не относятся — никто проверять и думать не стал, главное, что удобно. Но Ильин в начало, в базу кладёт идею самой жизни, что государство проистекает из жизни, из общества, из людей, которые его составляют. Нельзя просто взять и людей из этого государства вынуть, какие-то законы им написать и всем, кому только можно, их насаждать — вот именно что насаждать.
А. Козырев
— До Ильина ещё был замечательный мыслитель Константин Леонтьев, который писал о государственной форме в работе «Византизм и славянство», и говорил, что каждая нация сама для себя должна выработать эту государственную форму. Это то, что не передаётся из одной исторической эпохи в другую или от одного народа к другому народу, а именно вырабатывается тем народом, которой органически развивается в истории. Вот здесь, может быть, стоит и покритиковать в чём-то эту идею органического развития, но в целом, идея верная. Трудно взять и пересадить что-то, сложившееся в другом ареале, где другая вера, другие отношения человека с Богом, другая структура личности. Вот возьмём с вами Китай — всё-таки это другая структура личности, мы не можем им подражать, хотя мы можем их уважать и ценить их культуру, но сами китайцами мы никогда не станем.
Н. Кавкин
— Конечно, вот для меня удивительно, как сочетается у китайцев смешение конфуцианской философии и даосской, как оно вплетается, соединяется, хотя это совершенно разные вещи.
А. Козырев
— Ну да, в этом плане всё-таки Ильин — глубокий мыслитель, я даже скажу, что очень хорошо, что вы, как сейчас молодёжь выражается, «топите» за Ильина, потому что была попытка его сбросить с парохода современности. У нас всё время «сбрасывают» — то Пушкина, то ещё кого-то — «сбрасывают с парохода», это вызвано, как мне кажется, какими-то радикальными группировками, которые не очень понимают суть вопроса, но слышат какой-то звон вирусный, который в интернете идёт. То, что вы цените Ильина, как действительно глубокого мыслителя, это очень здорово, вот не поддаётесь на этот радикализм. Вот мы вспомнили с вами Константина Леонтьева, а в его времена греко-болгарская распря была, и болгары, которые освободились от Османского ига, провозгласили себя автокефальной поместной Церковью. Это поставило их в неканоническое положение, в котором они пребывали более пятидесяти лет, то, что называется словом «филетизм», то есть когда в вере первую и главенствующую роль играет племенная политика. Вот как вы считаете, в нашей истории — кто мы? Мы прежде всего русские или мы православные?
Н. Кавкин
— Очень интересный вопрос вы поставили. Я бы сказал, что для меня очень сложно отделить русских от православных, настолько глубоко переплетаются два этих понятия, два этих самопонимания даже. Православная идея и русская идея —это идея бессмертия, она закладывает глубоко идею личного бессмертия, воскресения души и тела. В русском народе глубоко живёт идея бессмертия народа, невзирая на все потрясения социальные, политические, военные, которые могли бы уже очень много раз уничтожить народ, а он всё равно выживает.
А. Козырев
— Знаете, я помню ещё советское время, когда мы ходили на День Победы к Могиле Неизвестного Солдата, и вот этот слоган: «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», то есть даже в советской семантике, где Богу места не оставалось, потому что был официальный атеизм, всё равно идея бессмертия пребывала, от неё невозможно было просто так освободиться, что жизнь не кончается только физической смертью.
Н. Кавкин
— Да, и поэтому, возвращаясь к вопросу: русский или православный — это слишком родные друг для друга понятия, чтобы между ними выбирать.
А. Козырев
— Можно согласиться, потому что, если мы возьмём наших мыслителей более поздней эпохи, вот Александр Зиновьев, например, он себя всегда считал атеистом, но посмотрите на название его книги — «Иду на Голгофу». То есть всё равно религиозный вектор присутствует в его текстах, а это выражается какой-то предельной совестливостью, какой-то предельной остротой понимания своей ответственности за то, что ты делаешь здесь и сейчас не только для себя, но для всего мира. То есть ментальность, дух русский всё равно остаётся.
Н. Кавкин
— Конечно, да. Тут сложно поспорить, я бы и не хотел с этим спорить. Я бы даже сказал, что религиозная мысль о том, что есть нечто большее, чем мы сами, настолько глубоко в народе пропитана и отражается, что подтверждается везде и всеми примерами, которые только есть.
А. Козырев
— А, собственно говоря, Родина требует ли от человека какой-то веры? Родина — это ведь не какое-то политическое понятие, не страна с такой-то площадью, с такими-то границами. Вот я недавно оказался на озере Рица в Абхазии, и экскурсовод рассказывал, что в 50-е годы столкнулись две военные машины, и одна машина с солдатами полетела в пропасть. И последнее, что успел выкрикнуть человек, который вот сейчас погибнет, через несколько секунд, потому что альтернативы нет — «Прощай, Родина!» То есть мысль о Родине не сводится к каким-то географическим детерминантам. Родина может быть и на парижском Сергиевском подворье для человека, который там родился, как Николай Михайлович Осоргин, и всю жизнь простоял на клиросе в православном храме. Вот Родина требует веры? Мы верим в Родину?
Н. Кавкин
— Я отвечу на этот вопрос цитатой Ивана Александровича Ильина, на память её воспроизведу, что «жить и верить стоит только в то, за что хочется бороться, за что можно бороться и умереть». И я думаю, что Родина является ценностью, в которую мы верим. Ильин веру определял, как самую высшую ценность, ради которой можно жить, ради которой можно умереть, за которую можно бороться и, самое главное, умереть, потому что смерть, по Ивану Ильину, есть высший акт ценности.
А. Козырев
— Утверждения ценности.
Н. Кавкин
— Утверждения ценности, да. Родина является для людей, для нас, для меня в том числе — одной из главных ценностей, ради которой стоит жить, ради которой стоит созидать. Ведь убери Родину и тогда непонятно будет, зачем это. Для меня Родина — это люди, которые меня окружают, я стараюсь относиться по-христиански к людям вокруг, то есть «возлюби ближнего своего». Мне на память приходит фрагмент из романа «Братья Карамазовы», где старец Зосима вспоминает и цитирует врача, который к нему приходил исповедоваться, и рассказывает, что врач в исповеди признался, что не любит ближних, но чем сильнее он не любит ближних, тем сильнее он начинает любить народ вообще. И этот врач про себя признаётся, что и самый лучший человек, которого бы с ним посадили, через день начал бы его бесить ужасно, и он бы его возненавидел, потому что один громко ходит, второй громко ест, третий просто существует. Я это веду к тому, что для меня Родина — это ближние, окружающие меня люди, те, с кем я родился, с кем я вырос, кто меня окружает в данный момент, в данном месте.
А. Козырев
— А вот сейчас такое непростое время, и некоторые семьи большие, дружные, но люди уезжают из-за каких-то, может быть, абстрактных предпосылок, покидают свою Родину. Как быть в этой ситуации? Как быть в ситуации гражданской войны, когда братья оказались по разные стороны баррикад? Я надеюсь, что у вас в семье этого нет, как собирались, так и собираетесь?
Н. Кавкин
— Нет, конечно. У нас очень патриотичная семья, более того, я из семьи военных, для нас покинуть Родину сродни предательству семьи, потому что Родина — это большая проекция семьи.
А. Козырев
— Я согласен с вами. Если затронуть тему предательства, а любое предательство восходит к предательству Иуды, то предать Родину, наверное, так же страшно, как предать человека, который в тебя верит, который тебе доверяет, который мечтает с тобой провести всю жизнь. У Козьмы Пруткова, помните, была поговорка: «Если жена вам изменила, то радуйтесь, что не Отечество». Я думаю, что тут радоваться особенно нечему, потому что измена, она всегда измена, предательство, оно всегда предательство, оно всегда вызвано какими-то обстоятельствами, тридцатью сребрениками, которые человек хочет получить или заработать более тёплое местечко, или построить более высокий дом, чем у него есть, это всегда человеческое. Но всё-таки, кроме людей, есть ли что-то, что входит ещё в понятие «Родина»? Люди могут иногда подвести, люди могут разочаровать.
Н. Кавкин
— Безусловно, люди могут и подвести, и разочаровать, они на то и люди, в чём я лично ничего страшного не вижу, потому что Бог создал их такими и любить их надо и приходится такими, какие они есть. Мы для них и живём, лично я стараюсь для них жить, потому что, если ты живёшь для окружающих, ты для всех людей будешь жить и всех людей будешь любить. Другой вопрос, когда ты любишь только всех, а тех, кто тебя окружает, ты ненавидишь, тут уже сложнее.
А. Козырев
— Есть такая проблема. Некоторые детские писатели ненавидят детей. Они пишут для детей, но своих детей они не очень замечают. Руссо, например, отдал своих детей в приют, это известная история. Он писал о воспитании, но своих детей воспитывать не хотел.
Н. Кавкин
— Я читал его работы по педагогике и тоже удивлялся очень сильно, как хорошо он описывает, как надо воспитывать детей и при этом сам не попробовал со своими детьми этой методики. Возвращаясь к вопросу о том, что еще может составлять Родину, я считаю, что во многом это, конечно, духовные ценности, история, которую несет народ. Территория, безусловно, важна, это края, места, территория — это часть истории, как я считаю, и часть ценностей, как отеческий дом. И есть обязанность отеческий дом сохранять, поддерживать, желательно в нескольких поколениях, как можно дольше, также и с территорией, она нам была дана с рождения, я считаю, послана Богом. И одна из ценностей — ее сохранить, приукрасить, доработать, довести. История, ценности, люди, территория — вот я бы так для себя описал понятие Родины.
А. Козырев
— Территория может стать Святой Русью, как, по-моему, сказал Томас Манн: «У России есть одна особенность — она граничит с Богом», а Чаранде добавил: «Но она граничит еще и с нами, к сожалению». Поэтому проблема территории тоже совершенно философская, об этом поговорим в продолжении нашей программы.
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий — Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость — студент философского факультета МГУ, помощник депутата Государственной думы Российской Федерации Николай Александрович Кавкин. Мы говорим сегодня о Родине и вере, о том, как сочетается в сознании русских философов и в нашем сознании, наших современников, нашего молодого поколения понятие Родины и веры. На ордене Андрея Первозванного, высшем ордене Российской Империи, было написано «За веру и верность», то есть это принципы, которые были главными для гражданина, для русского человека. Там не уточняется — верность кому, веру во что, но все понимают, что речь идет прежде всего о вере в Бога и верности Его заповедям, а потом о верности своему Отечеству. Может быть, символично, что мы Родину иногда называем Отечеством, то есть Родина — это мать, и здесь тот памятник, который стоит на Мамаевом кургане в Волгограде. Но Отечество предполагает отца, что это земля отцов, это родина отцов, поэтому не случайно в русской философии тема воскрешения отцов у Фёдорова, отцовства, идеи русского космизма, то есть само отношение к отцу, который является неким образом, далеко не всегда он таковым является, но всё-таки в идеале он должен быть образом Отца Небесного.
Н. Кавкин
— Конечно. Хотя у нас есть большая проблема в стране с демографическими ямами, у нас действительно очень много, к сожалению, матерей-одиночек. Наверное, это с Великой Отечественной войны идёт, потому что война очень много мужчин забрала, 27 миллионов погибших и подавляющее число из них мужчин, поэтому большая проблема с нехваткой мужчин и отцов есть. При этом образ отца в русской культуре сакрализирован и граничит, наверное, с образом Бога, я бы так сказал. Следующий после образа отца идёт как раз образ и понимание Бога, через отца-то и происходит в основном приобщение к религиозной мысли в русской культуре, в том числе и образ священника.
А. Козырев
— Но за воспитание, как правило, в дворянских семьях отвечала мать, то есть по матери выбирали веру, мать приобщала детей к Таинствам, но то, что вы говорите об образе священника, это действительно так. К счастью, женского священства у нас пока не намечается, я не знаю, как вы относитесь к этой идее, но, по-моему, она всё-таки не наша, не православная.
Н. Кавкин
— Я её не разделяю, потому что не сторонник ломать традиции, я сторонник сохранения и укрепления традиций. Я не вижу такой уж серьёзной проблемы в том, что у нас женщины не священники и запроса общественного тоже нет, что у нас стоит тысяча женщин, которые хотят быть священниками.
А. Козырев
— У них есть другие шансы — они могут стать руководителями хора, регентами, иконописцами, в конце концов, у нас огромное количество выпускается из семинарий будущих батюшек, которые мечтают себе найти достойную жену. Стать матушкой — тоже очень ответственная задача для молодой девушки, для этого не обязательно выполнять какие-то литургические функции, можно Богу добром послужить, будучи матушкой. Но вот вы отметили идею важности отцовства для русской культуры и каких-то, может быть, лакун, которые существуют сегодня в нашей культуре, связанных с недостаточностью социальной роли отца. Вот как у вас в семье было положено, когда дети заболевают, кто берёт больничный, мама?
Н. Кавкин
— Конечно, да. У нас семья большая, многодетная, она устроена по такой, я бы сказал, патриархально-русской модели. Что интересно, в истории нашего народа и государства, в истории Родины сложилась традиция соборности и коллективности принятия решений, если мы начинаем с христианских общин, где решения в основном принимались коллегиальным образом на совете старейшин. И внутри семьи так же, потому что у нас, хоть и патриархальная традиция управления семьями, но при этом женщины занимают одну из ключевых ролей при принятии стратегических решений.
А. Козырев
— Как говорится, муж — голова, а жена — шея, да?
Н. Кавкин
— Да, и у нас тоже так было, что больничный, конечно, брала мать, но мог и отец.
А. Козырев
— Если семья живет в гармонии, я думаю, не столь важно, кто берет больничный, кто ухаживает за больными детьми. Но, когда есть у нас многодетные отцы, а дети от разных женщин, четыре-пять детей, то есть такой донжуанизм, а вроде и не упрекнёшь человека. Это тоже какая-то лакуна, вот что-то человеку мешает создать крепкую семью, потому что ребёнок в семье — это не эпифеномен и не случайное событие, это цель, в каком-то смысле, то есть семья создаётся для чего? Для того, чтобы иметь детей, для того, чтобы Бог детей дал. Дети — это не просто цветы жизни, но и венец брака, то есть бездетная семья — это либо попущение Божие, бывает такая беда, люди не могут сами родить, берут детей из приюта, из детского дома, либо это какая-то безответственность человека, просто непонимание того, что по природе своей представляет семья.
Н. Кавкин
— Да, причём меня очень пугает, что у нас сейчас идёт очень активная пропаганда бездетных семей.
А. Козырев
— Сейчас уже, наверное, не идёт благодаря законодательству.
Н. Кавкин
— Да, там принят закон, поправка, и я тоже участвовал в процессе разработки этой поправки в закон, также и на заседаниях, где обсуждалась именно операционная составляющая работы по этой поправке. Но ведь она же возникла не на пустом месте. Мы, когда её разрабатывали, принимали, инициировали в том числе, прекрасно себе отдавали отчёт в том, что у нас в обществе есть такой паттерн ролевой. И он, как я для себя отметил, в массовой культуре закреплён в произведении российских сериалов, где, во-первых, слабая модель семьи, а во-вторых, пара бездетная, где непонятно, если честно, зачем они поженились и существуют в рамках модели семьи. А поправка принята только недавно, закон изменился, а вот обществу и культуре ещё нужно какое-то время, сдвиг ценностный.
А. Козырев
— Вы правильно говорите. Вот был такой философ Алексей Фёдорович Лосев, автор «Диалектики мифа». Он как-то в запале риторическом сказал, что вся мировая литература ничто перед Октоихом, потому что она вся говорит о том, как он её любил, а она его не любила, она ушла к другому, а он ей изменил. И действительно, когда мы смотрим сериалы, то они, в общем-то, об этом, вот почему там бабки такие малограмотные, они очень хорошо запоминают, схватывают и потом друг другу пересказывают — потому что это устроено по принципу бытовых сплетен, кухонных разговоров, кто с кем, куда ушёл. Десятилетиями это всё лилось на наши головы, ваше поколение росло в этой телевизионной реальности. Я надеюсь, что у вас в семье были другие приоритеты.
Н. Кавкин
— Ну, мне-то повезло в этом плане, я из многодетной семьи, у нас всегда было очень много детей, в том числе родственников, и до сих пор так остаётся, что очень много детей, я их всегда видел.
А. Козырев
— А чем дети занимались? Какой-то был домашний театр или другие занятия?
Н. Кавкин
— По-разному, но всегда очень много спорта, у нас все спортивные, я вот футболом долго занимался, сёстры — волейболом, танцами, потом учёба, изучение языков, литература. Родители много читают у нас, поэтому это передалось всем, весь дом уставлен книгами.
А. Козырев
— Вот этот образ отца или матери с книгой запал с детства?
Н. Кавкин
— Это даже на уровне традиций семейных, что у нас одна из главных традиций — совместное чтение. Может быть, радиослушателям тоже будет полезно у себя дома традицию ввести, когда по очереди каждый читает вслух.
А. Козырев
— А что читают — классику, духовную литературу?
Н. Кавкин
— Тут отец и мать демократично себя ведут: кто что захочет прочитать, то и будет. Я, допустим, в это воскресенье читал фрагменты из книги об Августе Октавиане, не так давно вышла большая монография российского историка из Санкт-Петербурга Князькина, очень глубокая подробная монография. На самом деле, это никому не интересно из семьи, но мне очень интересно, хотелось вслух почитать и пролить свет на такую громаду историческую как император Август, который где-то в тени Гая Юлия Цезаря находился, хотя, как практикующий политик, когда изучаю его действия, я понимаю, что он фигура-то во многом большая.
А. Козырев
— Мы говорим сегодня о Родине и вере и, мне кажется, очень важно, что мы этот разговор ведем, не только занимаясь слаломом между цитатами, это иногда это любимое занятие философ, вот он нагромоздит себе цитат, а между ними такие горные лыжи. Как говорил один мой профессор Арсений Николаевич Чанышев, «авторская мысль — это кратчайшее расстояние между цитатами». А мы говорим об этом, исходя из личного опыта, домашнего опыта, опыта чтения. Действительно, что может быть более запоминающимся, чем чтение сказок в детстве, когда мама сидит, ты, может быть, болеешь (а может, не болеешь, но делаешь вид, что болеешь), а она тебе читает сказки Афанасьева — да и неважно какие, потому что ты засыпаешь под её голос. Но вот этот образ как память о маме, которая читает, запоминается. Если мы возьмем с вами нашу литургическую практику богослужения, это тоже чтение: чтение Апостола, чтение Евангелия, чтение каких-то ветхозаветных паремий в Великую Субботу, то есть в значительной степени богослужение состоит из чтения. Трапеза в монастыре — обязательное чтение, Четьи-Минеи, какое-нибудь житие святого — вот садятся за трапезу, и специально выделенный монах или послушник читает. Поэтому, наверное, нет лучшего способа собирания семьи, как собирание за чтением. Вопрос, что читать, может быть решен соборно, а можно посоветоваться с духовником, с каким-то более опытным человеком. А кроме чтения, какие-то совместные поездки, может быть, паломничество, у вас такое практиковалось?
Н. Кавкин
— Поездки — да, а вот паломничество — нет, потому что религиозный опыт у нас в культуре, кстати, и в российской культуре тоже, глубоко очень личный, поэтому такого паломничества у нас совместного не практиковалось, каждый по-своему понимает. Я не знаю, насколько это плохо или хорошо, не расцениваю в таких категориях моральных, вот как-то так.
А. Козырев
— Ну, а когда вы куда-то приезжаете в России, вам хочется пойти в храм, в монастырь? Посмотреть какие-то святыни этого города?
Н. Кавкин
— Конечно, потому что храм — главная историческая и культурная кладезь города. Можно прийти в храм и, в принципе, всё понять о том, как этот город жил, развивался, строился. Есть города исторические, вот Кострома мне по храмовой культуре очень глубоко зашла. Я удивился, во-первых, очень глубинной воцерковлённости и религиозности людей и, главное, сохранению храмов. Я не очень много разъезжаю по регионам, но, когда разъезжаю по разным деревням, вижу разрушенные храмы; их много достаточно.
А. Козырев
— Чтобы восстановить храм, нужно иметь большой приход.
Н. Кавкин
— Конечно, да.
А. Козырев
— Я был поражён, когда по Вологодчине путешествовал, это был 2010 год, вот большое село, где население сейчас значительно упало по сравнению с ХVIII веком. И вот большой храм восстановить нельзя, но люди построили небольшую часовенку, они там собираются, молятся, потому что это им по силам, по средствам. А большой храм — до будущей Великой России, когда встанет с колен, наконец-то, наша провинция, наша деревня, может быть, такое когда-то и настанет. Вот мы говорим сегодня с вами об очень важной задаче поддержки деторождения, решения демографической проблемы. Говорят, что нас должно было быть 600 миллионов уже.
Н. Кавкин
— Если бы не эти мировые войны, по расчётам Менделеева, он, что малоизвестно, был ещё и демографом, причём очень талантливым, я читал его демографические исследования. Если бы Российская империя в 1917 году не пережила катастрофическое потрясение, с 1941 по 1945 годы, в 1991 году тоже страшное потрясение, когда за ночь четыре миллиона человек оказались за границей, русских людей.
А. Козырев
— Да, после подписания соглашений в Беловежской пуще.
Н. Кавкин
— Беловежские соглашения, да, где-то там на границе с Польшей, в лесах. Вспомнил как факт, что для написания договора Беловежских соглашений в соседней деревне искали хоть одну рабочую машинистку с машинкой.
А. Козырев
— В истории, к сожалению, происходит иногда стечение каких-то трагических случайностей, но эти случайности всегда связаны с волей людей, то есть они не бывают сами по себе. Здесь человек выполняет ту функцию кирпича, который взял и упал на историю. Вот я говорил о том, что демография — это же ещё не всё, надо что-то придумать, чтобы поддержать, чтобы поднять русскую деревню, тех людей, кто готов сегодня ехать создавать фермы, создавать аграрные комплексы, пусть и небольшие.
Н. Кавкин
— Это очень интересная тема. Я глубоко занимаюсь вопросом индивидуального жилищного строительства и, как философ, хотел бы сейчас раскрыть вопрос русской деревни. В современную эпоху такого, как я его называю, цифровизационного угара, где людей во многом насильно затаскивают в города и создаются в деревнях искусственные дефициты рабочих мест, хотя рабочие места на агроферме обеспечить проблем нет. Построить одну агроферму, которая будет прибыльной, может стоить не больше ста миллионов рублей, при этом воздвигнуть «человейник», уже где-то на самых окраинах Москвы, может доходить до нескольких миллиардов рублей. Сколько ферм можно на эти деньги построить, которые начнут приносить доход и прибыль государству, вокруг этих ферм образуются и дома, которые дешево стоят достаточно. То есть там и дома, и жизнь, и работа.
А. Козырев
— Что нужно делать для этого? Вы, как философ, можете сказать? Редко кто из философов занимается практической политикой.
Н. Кавкин
— Во-первых, нужна политическая воля и понимание того, что нужно перестать разращивать города. У нас с огромными агломерациями будущего демографического нет, потому что в городах не могут люди создать большую многодетную семью. У нас сам термин многодетности — это три человека.
А. Козырев
— Ну, конечно. В трехкомнатной квартире сложно вырасти девять детей. Вот в большом крестьянском доме или сельском доме можно, а в квартире трехкомнатной невозможно практически.
Н. Кавкин
— Возвращаясь к термину многодетности. Сам термин «многодетный»: три ребенка — это просто прирост населения, просто плюс один, два — это как бы стагнация, один — это убыль населения. Это говорит уже о культуре и это именно городская многодетность. В городе три ребенка это много, и, скорее всего, это очень состоятельные люди, если могут себе четырехкомнатную квартиру в Москве позволить. Это прямо огромные деньги на сегодняшний день. Для исправления этой ситуации, в первую очередь, политическая воля и, конечно, снижение уровня цифровизации. Просто какой-то кошмарный перевод на цифровизацию, во многом бессмысленный, когда у нас начинают цифровизовать абсолютно все.
А. Козырев
— Прежде всего образование, когда нормой образования становится онлайн, Современная Европа предполагает, что человек может раз в неделю ездить в свой университет, потому что остальные лекции он слушает из дома.
Н. Кавкин
— Просто убийство образования какое-то. Образование есть передача опыта, а опыт не только в том, что я говорю, опыт во многом.
А. Козырев
— А мне вот хочется еще задать такой вопрос ближе к концу нашего эфира: а у вас есть единомышленники? Я понял, что у вас есть семья, у вас есть сестры, есть родители. А вот среди вашего поколения, среди людей вашего возраста, вам сейчас сколько?
Н. Кавкин
— Мне сейчас 21 год.
А. Козырев
— Вот есть ребята, которые думают так же, как вы, для которых Родина и вера являются ценностями не на словах, а на деле?
Н. Кавкин
— Конечно, да. У меня очень много друзей, знакомых, они сейчас участвуют в специальной военной операции как солдаты. Когда началась специальная военная операция, они сразу ушли добровольцами на фронт, таких очень много. И уже мы росли, если в срезе поколений рассуждать, поколение 2000-х годов, в эпоху, близкую к патриотическому повороту, и на нас это сказалось. Вот на тех, кто младше меня, я уже это вижу, это сказалось еще сильнее. Если я свое поколение к состоянию колеблющихся отношу, какая-то часть очень патриотичная, какая-то, наоборот, ближе к либеральной культуре относится, потому что по ним проехалось, но все равно это далеко не повально. У нас патриотичное поколение, я считаю, а те, кто идет еще младше, совсем будут патриотичными.
А. Козырев
— Почему? Это государственная политика так формирует или это просто воздух?
Н. Кавкин
— Я бы так ответил на этот вопрос: государственная политика может только направить. Родить, создать, воспитать, сформировать она не может, она может только направить. В первую очередь человек в семье воспитывается. После 2014 года пошел уже народный переворот во многом.
А. Козырев
— Поворот сознания.
Н. Кавкин
— Да, поворот сознания, когда глубинные духовные силы патриотичные, которые в людях жили, разрешили просто озвучивать. Насколько я понимаю и вижу, даже когда начинаешь изучать период 2000-х годов, именно срез массовой культуры, понимаешь, что просто давили все патриотичные круги. Сейчас-то им не в той мере, в которой должно, дают развернуться. У нас не так давно только создан первый в России патриотический театр в Москве, руководителем которого стал Захар Прилепин, глубоко патриотичный человек, которого не особо охотно печатают.
А. Козырев
— Даже я не очень знаю, что это за театр.
Н. Кавкин
— А он только первый создан, и он ходил, добивался его несколько лет, и только на второй год специальной военной операции удалось его пробить. Сейчас дали возможность говорить об этом открыто, о любви к Родине стало не стыдно говорить.
А. Козырев
— Ну да, в 90-е годы нас всех уверяли, что патриотизм — это прибежище для негодяев. Подытожив, можно сказать, у Тертуллиана была такая фраза: «Душа по природе — христианка». Можно также, наверное, сказать, что душа по природе — патриот, она хочет жить у себя дома. Патриотизм — это жить у себя дома. Это умение навести порядок, умение обращаться со своей землёй, со своей собственностью, дружить, любить. А всё остальное к этому приложится. Так что очень интересное наблюдение вы сформулировали, что естественную стихию человеческой души нужно реализовать. Я благодарен вам, Николай. Надеюсь, это не последний наш разговор в эфире программы «Философские ночи». Теперь вам нужно магистратуру закончить, написать диссертацию и тогда уже, может быть, и в философском образовании какие-то приоритеты поменяются. Я ещё раз напомню нашим радиослушателям: у нас в гостях сегодня был Николай Александрович Кавкин, студент философского факультета МГУ. До новых встреч в эфире Светлого Радио ВЕРА в программе «Философские ночи».
Н. Кавкин
— До свидания. Спасибо большое, Алексей Павлович.
Все выпуски программы Философские ночи
28 января. О пророчествах пророка Давида о Христе в Псалтири

О пророчествах пророка Давида о Христе в Псалтири — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 января. О благоразумии и бодрствовании в молитвах

О благоразумии и бодрствовании в молитвах — настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 января. О личности и мировоззрении Василия Ключевского

Сегодня 28 января. В этот день в 1841 году родился историк Василий Ключевский.
О его личности и мировоззрении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема













