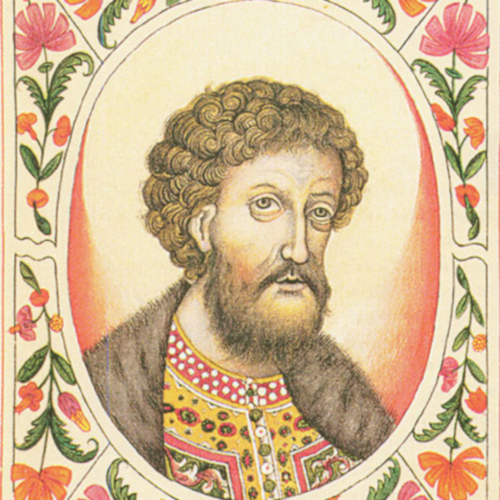
Князь Ярослав Всеволодович
Гость программы: доктор исторических наук Сергей Алексеев.
Разговор шел о Великом князе Ярославе Всеволодовиче — о его личности и роли в истории Руси.
Ведущий: Дмитрий Володихин
Д. Володихин
— Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я — Дмитрий Володихин. И мы сегодня обсуждаем судьбу одного из крупных исторических персонажей Руси, который казался в тринадцатом веке одним из столпов власти — человеком, от которого зависят судьбы всей Северной Руси, и в какой-то степени это было действительно так. Но народная память, да и в общем труд летописцев, так и не выдвинул его на первый план. И этот человек, несмотря на всю свою энергичность, на свою деятельную натуру, не сравнялся в своей известности ни с Юрием Долгоруким, ни с Андреем Боголюбским, ни с Всеволодом Большое Гнездо, ни даже с собственным сыном — Александром Невским. Итак, это великий князь владимирский Ярослав Всеволодович. Так сказал, что чуть было не добавил: здравствуйте, Ярослав Всеволодович! Но сегодня мы будем здороваться с другим человеком — у нас в гостях доктор исторических наук, глава Историко-просветительского общества Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте!
С. Алексеев
— Здравствуйте.
Д. Володихин
— Первый мой вопрос, традиционный в тех случаях, когда мы говорим о какой-либо исторической личности — а Ярослав Всеволодович действительно очень крупная историческая личность: не могли бы вы набросать что-то вроде визитной карточки? То, что должен вспоминать наш радиослушатель, когда речь заходит о Ярославе Всеволодовиче в разговоре или в книге — вот что самое характерное в его жизни, в его деятельности, в его характере?
С. Алексеев
— Как вы справедливо сказали, Ярослав Всеволодович в памяти народной, в том, что должен вспоминать наш радиослушатель, сильно уступает и своему отцу Всеволоду Большое Гнездо, и Александру Невскому. Первое, что, очевидно, следует помнить, это то, что Ярослав Всеволодович был сыном одного великого во всех отношениях князя владимирского и отцом другого.
Д. Володихин
— Роль передаточного звена — это не совсем то, очевидно, о чём он мечтал, желая заполучить славу.
С. Алексеев
— Это действительно так. Ярослав Всеволодович — это князь периода, который вообще помнится в нашей исторической памяти довольно смутно, условно говоря, периода между эпохой «Слова о полку Игореве» — князей, упомянутых в «Слове», в общем помнят, включая Всеволода Большое Гнездо, — и периодом монгольского нашествия. Это первый владимирский князь после разорения Северо-Восточной Руси монголами, это первый владимирский князь, признавший зависимость от Золотой Орды. В то же время, это один из тех русских князей, который во время своего прерывистого, очень тяжёлого для себя княжения в Новгороде, помимо того, что боролся с новгородским боярством, чем была заполнена, собственно, большая часть его новгородского княжения, ещё и встал на пути немецкой крестоносной агрессии в Прибалтике и первых литовских вторжений в русские земли.
Д. Володихин
— Резюмирую: это князь-воин, который после того, как на Русь обрушилось ордынское нашествие, нашествие Батыя, попытался Русь сохранить в крайне сложных условиях. Так это, правильно я трактую ваши слова?
С. Алексеев
— Очевидно, да. Мы мало знаем вообще о Ярославе Всеволодовиче как о человеке — это нужно отметить. Но то, что он был, безусловно, должен, и сознавал этот долг, сохранить то, что осталось — это так, любой ценой, иногда весьма тяжёлой.
Д. Володихин
— Что ж, тогда попробуем выйти на фигуру Ярослава Всеволодовича, что называется, от корней. Он — сын Всеволода Большое Гнездо, сын не первый, и это наложило на его судьбу и на характер его княжения на разных престолах княжеских чрезвычайно сильный отпечаток.
С. Алексеев
— Безусловно. И его молодость, конечно, прошла под знаком служения делу своего великого отца — князя, который сознательно претендовал на то, чтобы быть первым на Руси, и в то же время прилагавшего не мало усилий к тому, чтобы там, где это не прямо противоречило интересам Владимирской земли, на Руси, в пределах сферы его влияния, царил мир.
Д. Володихин
— То есть, иными словами, это был своего рода предтеча московских царей, самодержец почти что по византийскому образцу, человек великий, но уж слишком обильный на потомство.
С. Алексеев
— Да, детей у него было много. Это, в соответствии с обычаями того времени, роковым образом сказалось на единстве Владимирской Руси после его смерти. А при жизни он должен был наделять молодых князей, своих сыновей, землями.
Д. Володихин
— Что досталось Ярославу Всеволодовичу?
С. Алексеев
— Первым княжением Ярослава Всеволодовича был Переяславль-Южный — отчиный и дединый южнорусский удел северо-восточных князей, который был их оплотом ещё со времён Юрия Долгорукого.
Д. Володихин
— То есть, если я правильно понимаю, это город на территории нынешней Украины. Когда-то он считался чрезвычайно богатым, одним из самых честных, как тогда говорили, столов на Руси, чуть ли не третий по чести. А ныне это, кажется, Переяслав-Хмельницкий, если не ошибаюсь?
С. Алексеев
— Да, верно. В те времена это был второй по значению княжеский стол, как тогда говорили в «русьской земле», в узком смысле слова, то есть в киевской земле, по большому счёту. И сидели там практически всегда Мономашичи, то есть потомки Владимира Мономаха. А особенно упорно на Переславль претендовали и старались по возможности там закрепиться именно потомки Юрия Долгорукого.
Д. Володихин
— Второй? Не третий? А Чернигов?
С. Алексеев
— Чернигов был за пределами киевской земли — это было самостоятельное государство.
Д. Володихин
— Третий в Южной Руси и второй в киевской земле.
С. Алексеев
— Да.
Д. Володихин
— Понятно. Это очень высокий престол. Но я так понимаю, что в какой-то момент одного из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо отправили в это чрезвычайно богатое, но в то же время чрезвычайно беспокойное место.
С. Алексеев
— Верно, он участвовал в войнах с половцами, он участвовал в княжеских распрях, которые постоянно шли вокруг Киева. В итоге его княжение там закончилось, когда разгорелась борьба вокруг Галицкого княжеского стола, в которой он поучаствовал неудачно.
Д. Володихин
— Ввязался в проблему не своего уровня, скажем так.
С. Алексеев
— Он, конечно, действовал в интересах отца, он действовал в интересах своего клана, но, по большому счёту, он запутался в распрях южнорусских князей, причём с участием поляков, венгров, и в итоге Переяславль он вынужден был покинуть.
Д. Володихин
— Собственно, Северная Русь при Андрее Боголюбском, Михаиле Торческом и Всеволоде Большое Гнездо не так много испытала на себе распрей. Юг же ими кипел — он был, как клубок змей, которые постоянно кусают друг друга. Вероятно, с непривычки Ярослав Всеволодович не осилил столько загадок политических, столько неожиданных вариантов, которые открывались в политике Южной Руси. Сколько ему было лет тогда?
С. Алексеев
— Он был совсем юным человеком — ему было около 15 лет, 15-16 лет.
Д. Володихин
— Ну да, конечно. И когда, в какие годы?
С. Алексеев
— Собственно Галицкая распря началась после смерти Романа Галицкого в 1205 году, когда ему вообще было ещё 14 лет. Ну и он уже покинул Южную Русь в 17 лет.
Д. Володихин
— Понятно. Ну что же, если говорить о его первой неудаче, то, в конце концов, ведь это драгоценный опыт. В последствии он его использовал, но, может быть, худо то, что он слишком сильно окунулся в, скажем так, южнорусскую политическую обстановку — она была очень немирной, и в какой-то момент ему начало представляться, что это норма.
С. Алексеев
— Возможно. Ему пришлось позднее поучаствовать в ещё одной крайне неприятной политической ситуации. Всеволод Большое Гнездо постоянно пытался подчинить беспокойных соседей Владимирской Руси — рязанских князей. И в конце концов в какой-то момент решил посадить в Рязани своего сына. Посадил Ярослава, Ярослав прибыл в Рязань — опять же, ещё очень юный человек. Собственно, что следует помнить: когда Всеволод Большое Гнездо умер в 1212 году, Ярославу было всего 21 год, то есть все его деяния при жизни отца — это деяния очень молодого человека.
Д. Володихин
— Ну, по тем временам — уже зрелого, а по нынешним, да, очень молодого.
С. Алексеев
— По тем временам — уже совершеннолетнего. Совершеннолетие и зрелость... а зрелость приходит с определённым жизненным опытом, в том числе и политическим.
Д. Володихин
— Да, я понимаю.
С. Алексеев
— Так вот, Ярослав прибыл в Рязань и фактически угодил в ловушку: его дружину рязанцы взяли под арест, а его самого вынудили выступить против отца.
Д. Володихин
— Печальная история.
С. Алексеев
— Ярослав сразу перешёл в лагерь отца, как только тот появился в окрестностях Рязани.
Д. Володихин
— Хватило ума.
С. Алексеев
— Всеволод наказал рязанцев, но от мысли посадить Ярослава в Рязани всё-таки отказался.
Д. Володихин
— Ну что ж, вот на этом фоне распрей, которые всё-таки достигли и Северной Руси, — ничего хорошего: мир здесь был для всех желанен и приятен, — всё-таки хочется напомнить, что Север — место, благословенное для Руси, если сравнивать с постоянными войнами юга. И поэтому сейчас прозвучит мелодия, сообщающая настроение покоя Древней Руси. По сравнению с будущими двумя веками, это действительно время покоя, время процветания. Итак, отрывок из замечательного произведения Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».
(Звучит музыка.)
Д. Володихин
— Дорогие радиослушатели, после этой мелодии мне приятно напомнить вам, что это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час», с вами в студии я — Дмитрий Володихин. И мы беседуем с замечательным гостем, известным историком, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым о судьбе одного из поистине масштабных героев Средневековой Руси — о великом князе владимирском Ярославе Всеволодовиче. Итак, мы видим то, что два первых опыта княжения — сначала на юге Руси, в Переяславле, затем в Рязани — окончились для Ярослава Всеволодовича печально, но это же всё-таки любимый сын, один из любимых сыновей Всеволода Большое Гнездо, и он не останется без княжеского удела. Вот кто по старшинству над ним?
С. Алексеев
— Надо отметить, что усобица внутри дома северо-восточных князей была делом столь непривычным, что о ней с удивлением, конечно, с безрадостным удивлением, пишут летописцы с обеих сторон: и владимирский, и новгородский. Особенно поэтично пишет новгородский летописец, который возмущается тем, что брат идёт на брата, что отец, в данном случае тесть, идёт на сына, то есть на зятя. Кончилось всё это кровавой битвой на Липеце в 1216 году, в которой победу одержали Константин и Мстислав. Юрий и Ярослав потерпели поражение, и Юрий был вынужден уступить Константину Владимир.
Д. Володихин
— Давайте мы на этом остановимся поподробнее. Я уже говорил как-то, что для Северной Руси, для Северо-Восточной Руси, тяжёлая кровавая распря, столь обычная для Русского Юга, можно сказать норма жизни: не подрались, не поубивали кучу народу — вроде как и недовольны жизнью — вот до чего доходило. Но вот эту жизнь хорошо знал Мстислав, эту жизнь, в общем, попробовал на себе Ярослав, а старшие-то братья, которые фактически оказались вождями коалиции, не очень понимали, чем может это закончиться и не очень понимали, какая катастрофа их ждёт. Новгородский летописец говорит, что на поле боя легло более девяти тысяч ратников — мы не знаем, правда это или преувеличение, но в любом случае современники ужаснулись катастрофической битве-сече, в рамках которой Русский Север окрасился кровью. И это кровопускание устроили родные, единокровные братья. Ну как так? Мне кажется, что в тот момент люди не очень понимали произошедшего. И сами-то братья, видимо, не вполне были готовы к такому ужасающему исходу.
С. Алексеев
— Должно быть, так. Нельзя сказать, что Константин и Юрий не участвовали в усобицах — конечно, они участвовали в войнах своего отца в том числе и на Руси. Но война между родными братьями — кстати, не только для Русского Севера — это всё-таки исключение. Как правило, всё-таки воевали между собой князья кланами.
Д. Володихин
— Назовём честно: это нравственное уродство, в том числе и по тем временам.
С. Алексеев
— Конечно, иначе не было и такой реакции.
Д. Володихин
— Ну что ж, завершилось тем, что Юрий теряет Владимир, а Ярослав, его верный союзник... Ведь по большому счёту распря-то началась с Новгорода, с Ярослава. Он теряет Переяславль?
С. Алексеев
— Переяславль остаётся за ним.
Д. Володихин
— Его очень, можно сказать, милостиво простили.
С. Алексеев
— А вот Новгород он теряет на некоторое время.
Д. Володихин
— Надолго.
С. Алексеев
— Ну, не очень надолго: на несколько лет. Собственно, в 20-х годах он дважды оказывается на новгородском княжении. Эпизоды эти были очень разными, и отношения его с новгородцами не ладились, по крайней мере до 30-х годов, когда он в последний раз оказывается на новгородском княжении. Была, например, ситуация, когда он прибыл в Новгород, направился с новгородцами сначала в поход на Литву, погонял Литву, потом отправляется с новгородцами в поход против немцев в Прибалтику, где вспыхнуло восстание эстов — предков нынешних эстонцев — и они звали русскую помощь. Помочь — особо не помогли, новгородцы не потеряли ни одного человека, чем гордились, разумеется, но вернулись с добром.
Д. Володихин
— С добычей, да.
С. Алексеев
— Ярославу, видимо, не понравилось, как новгородцы вели себя в обоих походах, может быть, ему показалось, что они больше заботились о сохранении собственных жизней, чем о славе своего князя и об успехе самого предприятия, и он покидает Новгород, несмотря на их просьбы — они просили его остаться.
Д. Володихин
— Но в истории осталась за этим человеком слава как минимум победителя немцев в битве на реке Эмайыге. Насколько я понимаю, это уже следующий его поход?
С. Алексеев
— Это не просто следующий его поход — это через поход. Он ещё раз оказывается в Новгороде в 1226-28 годах. В этот период он ходит в Финляндию морем, отражает набеги финнов на новгородские земли, совершает очень важные исторические события, и важные для судеб Православия: производит крещение, причём добровольное крещение, карелов — тогда данников Новгорода.
Д. Володихин
— То есть остановимся на этом моменте: до сих пор мы видели в основном неудачные войны, которые вёл Ярослав Всеволодович. Теперь мы видим, что он набрался опыта и ведёт войны удачно, кроме того, ещё совершает судьбоносные для государства поступки: крестит целые народы, во всяком случае огромные общины. И здесь мы остановимся и скажем, что в этом человеке всё-таки его буйная, воинственная жилка сочеталась с свойствами и качествами действительно крупного государственного деятеля.
С. Алексеев
— Несомненно. И лично благочестивого человека: он строит храмы в Новгороде — церковь Рождества; он крестит карел; он борется с пережитками язычества, может быть не всегда разумно. Летописец, например, очень мягко, но, скорее, осуждает его за веру в то, что волхвы могут навести на него порчу. Он верил в это и даже двух волхвов сжёг. Летописец по этому поводу замечает: «А Бог весть — наводили порчу или не наводили». Но в принципе, то, что это был человек с искренним христианским чувством тогдашнего русского мирянина, человека образованного, но, естественно, умеренно образованного — он, прежде всего, воин...
Д. Володихин
— И не последний управленец.
С. Алексеев
— И то, что при всём этом он был и, действительно, неплохой администратор, и глубоко верующий христианин — это не вызывает никаких сомнений.
Д. Володихин
— Ну что ж, доброе сочетание. Мы чуть-чуть отложим обсуждение знаменитой битвы на реке Эмайыге — самого славного, может быть, эпизода в жизни Ярослава Всеволодовича, — потому что пришло время напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час», с вами в студии я — Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем судьбу и подвиги великого князя Ярослава Всеволодовича, но буквально на минуту прервёмся, чтобы вскоре продолжить нашу беседу в эфире.
Д. Володихин
— Дорогие радиослушатели, это светлое радио — радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я — Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, глава Историко-просветительского общества и замечательный специалист по истории Русского средневековья Сергей Викторович Алексеев. И мы обсуждаем судьбу и деяния одного из крупнейших государственных деятелей тринадцатого века — великого князя Ярослава Всеволодовича. Что ж, вот в данный момент, мне кажется настало удобное место, чтобы хорошо, долго, основательно поговорить о его самом знаменитом деянии: победе над немецкими рыцарями.
С. Алексеев
— 20-30-е годы — это время, когда прибалтийские земли завоёвываются немецким орденом меченосцев. Практически вся территория современных Эстонии и Латвии, за исключением небольших земель в районе Чудского озера, которые ещё оставались под влиянием Руси, в этот период переходят в руки немецких рыцарей. Периодически эсты, латгалы и другие племена, которые исторически платили дань Руси, весьма осторожно и мирным путём проповедовавшей среди них Христианство, а сейчас сталкивающиеся с насильственным обращением в Католизицзм, периодически они восстают, периодически они обращаются к Руси за помощью. С другой стороны, немцы не хотят останавливаться на покорении племён языческих, они хотят обращать, покорять схизматиков, то есть нас с вами — православных русских. Пронемецкая партия, очень сильная, в начале 30-х годов складывается в традиционно союзном Новгороду, но периодически претендующем на независимость Пскове. Ярослав столкнулся с этим, когда во время одного из его походов в Прибалтику в начале 30-х годов, псковичи отказались идти с ним (а он планировал очень масштабное мероприятие — поход до Риги), заявив, что они с немцами мир взяли и не хотят участвовать в походе новгородцев. Ярослав к этому времени уже, в определённом смысле, пустил в Новгороде корни, хотя новгородцы периодически начинали с ним спорить, и ему приходилось по возможности оберегать своих сторонников в Новгороде от гнева их конкурентов — были такие истории. Но в целом новгородцы старались поддерживать своего князя и в стремлении подчинить начавший смотреть на Запад Псков, и в стремлении вернуть традиционно зависевшие от Новгорода земли в Прибалтике.
Д. Володихин
— То есть, иными словами, межу Новгородом и Ярославом Всеволодовичем сложилось нечто вроде несчастливого брака, когда супруги не любят друг друга и даже не очень уважают, но по необходимости ладят.
С. Алексеев
— В 1234 году Ярослав всё-таки предпринял большой поход на Запад, целью которого было и остановить немецкие вторжения в новгородские земли, и продемонстрировать и псковичам, и эстам силу Новгорода. Со своими врагами — с войском немецких рыцарей и зависимых от них эстов — встретились русские на реке Омовже.
Д. Володихин
— Она же Эмбах.
С. Алексеев
— Да, она же по-эстонски Эмайыга. Последовало сражение, в котором немцы были разбиты наголову. Во время их бегства через реку под ними проломился лёд на реке, и многие утонули. Ярослав вернулся в Новгород с выдающейся победой, сумел закрепить своё влияние в Пскове и если не отвоевать земли в Прибалтике, то, во всяком случае, зафиксировать границу и остановить вторжение немецких рыцарей на некоторое время на новгородские территории. Немцы после этого переключаются на борьбу с Литвой, которая сложилась для них крайне неудачно. В 1236 году Орден меченосцев был фактически уничтожен литовцами и вынужден подчиниться другому немецкому рыцарскому ордену — Тевтонскому, с которым пришлось иметь дело уже сыну Ярослава Всеволодовича — Александру.
Д. Володихин
— Если я правильно помню, немецких рыцарей разбили при Сауле (позднее этот город назвали Шяуляем). Действительно это была страшная катастрофа немцев: с одной стороны их разбили, они, ослабленные, пошли в другую сторону, там получили поражение, оказались в полукатострафическом положении, за что надо «благодарить» именно Ярослава Всеволодовича — он-то изначально их разбил. Я хотел бы обсудить один эпизод, чрезвычайно важный для нашей истории, поскольку он стал источником исторического мифа, а именно: вот эта самая гибель немецких рыцарей на льду Омовжи (она же Эмбах и она же Эмайыга) — на льду реки, где они были разбиты Ярославом Всеволодовичем. Позднее режиссёр Эйзенштейн этот эпизод взял и перенёс из одного сражения в другое — и немцы стали тонуть в битве 1242 года, в Ледовом побоище, а именно в битве на Чудском озере, где их разбил уже Александр Невский. В общем, дорогие радиослушатели, сейчас сидят перед микрофоном два доктора наук — мы хотели сказать, что в Ледовом побоище никто под лёд не проваливался.
С. Алексеев
— Дмитрий Михайлович, я позволю себе не совсем с вами согласиться.
Д. Володихин
— Думаете, что проваливались, Сергей Викторович?
С. Алексеев
— Всё-таки в житии Александра Невского, как мы оба прекрасно помним, есть фраза, ставшая источником для режиссёра Эйзенштейна, который, действительно, картину как таковую, возможно, воспринял из свидетельств о битве при Эмайыге, но то, что замёрзшее озеро двинулось — об этом говорится в житии Александра Невского применительно к Чудскому озеру.
Д. Володихин
— А вот то, что в этом озере хоть кто-то из немцев утонул — ничего не говорится.
С. Алексеев
— Всё может быть.
Д. Володихин
— То есть, в общем, фантазия режиссёра Сергея Эйзенштейна одарила нашу историю новым, прекрасным теле-эпизодом, к которому как ни присматривайся, всё выглядит прекрасно и героически, однако, в общем, фантазия преобладает над реальностью. Но, возвращаясь к Ярославу Всеволодовичу, хотел бы спросить: мы ближе, ближе, ближе продвигаемся к печальной дате — к вторжению полчищ Батыя на Русь в конце 30-х годов тринадцатого столетия. И мы знаем, что в боях, которые сопровождали это нашествие, которые были оборонительными сражениями Северо-Восточной Руси, более, чем кто-либо иной на Руси, сопротивлявшийся этому нашествию, Ярослав Всеволодович не участвовал. Почему это произошло? Если я правильно понимаю, он просто отсутствовал в регионе. Но по какой причине? Он — князь Переяславский, князь Новгородский, во всяком случае условный повелитель Новгорода. Что с ним произошло?
С. Алексеев
— В 1236 году Ярослав находился в Новгороде. Монголы уже приближались к границам Руси в это время, ну а русские князья занимались своим обычным делом: боролись за уделы. Для Ярослава в этот момент, в результате бесконечной распри южнорусских князей, освободился Киев — по идее, первый стол на Руси.
Д. Володихин
— Золотая, можно сказать, добыча для тех, кто силён и отважен.
С. Алексеев
— Ярослав оставляет Новгород и, в общем, фактически бросается в Киев, занимает его, щедро одаривает тех новгородцев из его сторонников, которых взял с собой, и находится в Киеве ближайший год. Собственно, кроме того, что он одарил последовавших за ним новгородцев, ничего о его княжении в Киеве неизвестно.
Д. Володихин
— Ну, коротким оно было.
С. Алексеев
— В следующем году монголы уже в пределах Руси, они разоряют Рязань, они движутся на Владимир. Ярослав вынужден бежать из Киева, оставив его своему очень давнему врагу, который и Новгород у него отнимал — Михаилу Всеволодовичу Черниговскому.
Д. Володихин
— Заметим: большому святому Русской Православной Церкви.
С. Алексеев
— Верно. Погибшему в Орде в 1246 году.
Д. Володихин
— Но вот начиная говорить о той трагедии, которая произошла при нашествии Батыя и при, скажем так, довольно недружном поведении русских князей, я хотел бы, чтобы в эфире прозвучала печальная, тяжёлая, страшная, может быть, мелодия Сергея Сергеевича Прокофьева из кантаты «Александр Невский» — «Русь под игом ордынским».
(Звучит музыка.)
Д. Володихин
— Дорогие радиослушатели, язык не поворачивается произнести радостные слова — уж больно о трагических событиях мы говорим. Но давайте я всё-таки себя преодолею: это светлое радио — радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я — Дмитрий Володихин. И мы с известным историком, доктором исторических наук Сергеем Викторовичем Алексеевым обсуждаем судьбу и деяния великого князя Ярослава Всеволодовича. Собственно, вот сейчас и наступает время, когда он становится в полной мере великим князем. Ну,пробыл он меньше полугода великим князем в Киеве — это не считается, это далеко и закончилось тем, что пришлось покинуть город. Но после того, как его старший брат Юрий, после того, как другие князья русские пали в битвах, где они пытались остановить Батыя, после того, как Русь была страшно разорена, после того, как Киев обратился в груду головешек, с юга возвращается Ярослав Всеволодович, теперь он по старшинству следующий, кто должен занять великокняжеский престол Владимирский.
С. Алексеев
— Он становится великим владимирским князем, он отстраивает Владимир, отстраивает Переяславль, занимается тем, чем должен заниматься правитель разорённой земли: собирает народ, восстанавливает храмы, стены городов. И вместе с тем он думает и о других вещах — о разных. Конечно, надо налаживать отношения, как это не тяжело, с грозным врагом, который многократно сильнее всего, что он может противопоставить.
Д. Володихин
— То есть два варианта: можно попытаться с разгона удариться черепом в бетонную стенку, то есть противостоять Батыю и дальше, или попытаться наладить с этой мощью, с этой армадой военной какие-то отношения, даже, может быть, отношения тяжёлые — отношения зависимости.
С. Алексеев
— Безусловно. В то же время в тот момент, когда Ярослав утвердился во Владимире, ещё не были ясны цели монголов в отношении Руси, ещё монголы шли по Южной Руси. И Ярослав использует передышку для усиления своего княжества, и, боюсь, что привычными для князей того времени методами.
Д. Володихин
— Я бы сказал, что слишком привычными, поучительно привычными.
С. Алексеев
— Он, узнав, что Михаил Всеволодович бежал из Киева от войск монголов, бросается в город Каменец, где находилась сестра Даниила Галицкого и жена Михаила Всеволодовича, и берёт её в залог вместе со всеми боярами Михаила Всеволодовича. Другой его поход этого времени, в общем, более благороден: он идёт в Смоленск, который захватили литовцы, выбивает их из Смоленска и сажает в Смоленске союзного князя. Здесь, конечно, был и расчёт, но, конечно, было и стремление удержать от границ Руси своего давнего и привычного противника, которого он бил не раз.
Д. Володихин
— Но в конечном итоге литовцы — на тот момент народ очень агрессивный, в военном отношении чрезвычайно опасный, сильный — представляли собой даже, наверное, большую, как это потом выяснится, угрозу, чем немцы, чем шведы, чем какие-то степные народы, потому что их воздействие на русскую историю впоследствии окажется огромным.
С. Алексеев
— И для политической независимости Руси, что Ярославу было ясно видно, литовцы, которые стремились сами завладевать русскими городами и оставаться в них, при всей, может быть, меньшей разрушительности их действий, вместе с тем для независимости Руси они были большей угрозой, чем Орда.
Д. Володихин
— Именно так. Вот в учебниках, в научно-популярной литературе, как правило, это недооценивается, а нельзя литовскую угрозу недооценивать, поскольку она приведёт к тому, что возникнет колоссальная держава Великое княжество Литовское, на три четвёртых, если не на четыре пятых, состоящее из земель бывшей державы Рюриковичей — Руси. То есть Ярослав Всеволодович в своём праве, когда воюет за смоленскую землю. Но передышка, которую дал ему Батый, скоро заканчивается, и ему придётся решать: какой образ действий он выбирает в отношении Орды.
С. Алексеев
— Я бы ещё отметил только, что в это же самое время он сажает в Новгороде своего сына Александра — дважды: после Невской битвы Александр был вынужден покинуть город, и затем, после вторжения немцев и захвата ими Пскова, был призван новгородцами снова. И Ярослав посылает ему помощь в знаменитом Ледовом побоище.
Д. Володихин
— То есть, иными словами, Ярослав Всеволодович, несмотря на то, что ему приходится быть правителем головешек в значительной степени, человеком, у которого силёнок на ту политику, которую вёл, скажем, Всеволод Большое Гнездо или даже его старший брат Юрий, уже нет. Тем не менее он старается всё-таки поддерживать на севере положение того, что это Русь, и что рубежи Руси надо оборонять из последних сил.
С. Алексеев
— Верно. Но в 1243 году он действительно вынужден отправиться к Батыю. Батухан создаёт своё государство — Золотую Орду — и выстраивает систему управления своими новыми, как он считает, улусниками — русскими князьями. Ярослав прибывает в Орду по вызову, признаёт себя данником Батухана.
Д. Володихин
— Ну, не признал бы — вновь сгорел бы Владимир.
С. Алексеев
— Он отстаивает свои интересы среди русских князей. Видимо, именно тогда, будучи признан во всей братии своей старейшим, он получает от Батыя ещё и права на Киев, куда сажает своего боярина Дмитрия Ейковича.
Д. Володихин
— Ну, это ненадолго, скажем так. Киев тогда — головешки, гораздо худшие, чем Владимир.
С. Алексеев
— Да, осталось около двухсот дворов. Тем не менее его наместник сидел в Киеве, и формально до конца 40-х годов Киев оставался под властью владимирских князей.
Д. Володихин
— Тень бывшей чести и бывшей славы, связанной с великокняжеским престолом Киевским.
С. Алексеев
— Ярослав возвращается и продолжает отстраивать Владимирскую Русь. Вслед за ним и по его примеру едут в Орду другие князья Северо-Востока, а затем и не только Северо-Востока. В 1245 году Батый вызывает Ярослава вторично, на этот раз великому князю надлежало отправиться за подтверждением своих прав к великому монгольскому хану Гуюку — двоюродному брату и врагу Батыя.
Д. Володихин
— Они встретились.
С. Алексеев
— Гуюк, от имени которого в значительной степени правила его властолюбивая мать Туракина, принял Ярослава очень почтительно — насколько вообще можно было почтительно принимать данников, — естественно, при этом рассматривая его как ставленника и союзника Батыя, то есть своего врага. После торжественного ужина у ханши Туракины Ярослав разболелся и в течение недели скончался.
Д. Володихин
— То есть мы не знаем, был ли он отравлен, но мы с очень большой долей вероятности можем это подозревать.
С. Алексеев
— Это подозревали уже современники, об этом говорит и находившийся в это время в столице Монгольской империи Каракоруме посланник Римского папы, и русский летописец галицкий, автор Ипатьевской летописи, говорит, что опоили зельем великого князя суздальского.
Д. Володихин
— Судьба печальная и в то же время поучительная: смолоду, будучи рьяным бойцом, воителем за престолы княжеские, своего рода кондотьером по примеру своего деда Юрия Долгорукого, Ярослав Всеволодович преследовал корыстные цели — он мечтал о славе, о богатстве. А когда он вошёл в зрелые годы, пришлось ему драться насмерть на рубежах Северной Руси, получить два великокняжеских престола: Киевский и Владимирский (что, вообще говоря, большая редкость в русской истории) — и оба этих престола поднимать из пепла. Владимир ему удалось более-менее поднять, Киев — нет. И завладев всем этим, ему пришлось всё потерять и принять на чужбине лютую смерть. То есть, иными словами, человек когда-то вдоволь наигрался мечом, а потом последними годами жизни сполна расплатился перед людьми и Богом за свои юные годы. Есть в этом какая-то человеческая честность и Божья правда, может быть. Но можем ли мы извлечь из этой судьбы какой-то урок?
С. Алексеев
— Дмитрий Михайлович, я думаю, вы про урок всё сказали — так оно и есть. Судьба бурная, судьба воина, судьба человека, который принадлежал своей эпохе. В отличие от своего сына Александра Невского, который за всю свою жизнь ни в одной усобице не принял участие, встать над эпохой Ярослав всё-таки не смог. И в то же время, наверное, последующие русские князья, его потомки, вплоть до московских государей, во многих отношениях пользовались плодами того, что он в тяжелейшие первые годы после нашествия сохранил Русь.
Д. Володихин
— Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу, остаётся сказать, что Ярослав Всеволодович был дитя эпохи и дитя Руси: свиреп, отважен, обладал крепкой верой, хорошими способностями государственного деятеля; был корыстолюбив, но при необходимости мог пойти на самопожертвование. Противоречивая фигура — такая же, как и Русь тринадцатого века, со всеми её изъянами и пороками и со всем её величием. Мне остаётся сказать спасибо Сергею Викторовичу Алексееву за сегодняшнюю замечательную передачу и вам, дорогие радиослушатели, за внимание.
С. Алексеев
— Спасибо.
Д. Володихин
— До свидания!
18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.
О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).
Все выпуски программы Актуальная тема
18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».
О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.
Все выпуски программы Актуальная тема
18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.
Все выпуски программы Актуальная тема













