
У нас в гостях был Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина Родион Овчинников.
Наш гость рассказал о своем пути к православию и как вера для него сочетается с театральным искусством и творчеством.
Ведущий: Константин Мацан
К. Мацан:
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА, здравствуйте, уважаемые друзья! В студии у микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую: впервые на Радио ВЕРА Родион Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина. Добрый вечер.
Р. Овчинников:
— Добрый вечер.
К. Мацан:
— Родион Юрьевич, очень рад вас видеть у нас в студии. Поговорим сегодня с вами о вашем пути, о вашем пути в профессии и, что немаловажно, о вашем пути к вере и в вере. Это отдельная такая для меня, как для журналиста, тема — люди церковные, верующие, которые при этом одновременно находятся внутри театральной среды, творческой среды, вера и творчество, такая богемная история и напряженная внутренняя жизнь, следование за Христом, и о том, как эти вещи сочетаются, как они должны уживаться, с какими трудностями человек сталкивается, если сталкивается на этом пути, вот об этом сегодня тоже с вами хотелось бы поговорить. Но я вот с чего начну: путь к вере, как мне представляется, всегда состоит из каких-то этапов, одна встреча, одно значимое событие сменяет другое, и человек как-то двигается, растет, открывает для себя какие-то новые глубины бытия, если угодно. Вот каким был ваш путь к вере, на какие этапы вы бы его разделили?
Р. Овчинников:
Ну, первый — это детство, и как всегда, у нас там первое столкновение, когда сестру крестили. Батя у меня почётный гражданин города, коммунист, депутат такой, летающий пролетарий...
К. Мацан:
— Москвы?
Р. Овчинников:
— Тогда мы были в Мурманске. Это период, когда в Мурманске матушка моя на Северном флоте служила в каких-то лабораториях, там что-то для подводных, лодок для чего-то. А батя — строитель, вот он этот Север строил. И там, в Мурманске, я помню, до недавнего времени там вообще один храм был, и он, конечно, был закрыт. И помню, что за нашим домом был такой деревянный «молитвенный дом», на нём было написано, и это являлось предметом для нас, пацанов, девчонок, а мы гуляли там человек по десять, по двенадцать, такой, там всегда были закрыты окна. И мы один раз, значит, туда всё-таки как-то ходили-ходили, вот этот интерес детский, любопытство, когда нельзя. И вдруг какой-то такой дядечка с достаточно колючими глазами сказал: «Ребятки...» Их невозможно на радио показать, эти глазки, и говорит: «Ребятки, заходите». И мы туда зашли: какие-то коврики, какие-то плакаты там, какая-то ионика такая была, какой-то крест, иконостасы — ну, баптисты какие-то, молитвенный дом. И мы вот ходили-ходили, смотрели это, он говорит: «Не надо руками ничего трогать, просто смотрите». Потом говорит: «Ну всё, ребята, уходите и приходите ещё». И мы пошли, и кто-то из нас сказал: «Ребята, беги, он последнего хватает!» Боже мой! (смеются) Я помню, я какую-то дверь открыл, в какую-то поленницу попал, по этим поленьям... и мы разбежались. И вот это вот ощущение какого-то страха, исходящего от церкви — это вот первая, совершенно первая позиция. Я помню, что когда хоронили брата моего отца, двоюродного, и всё в деревнях происходило, крещение, уезжали в деревню, и там всё это происходило. И вот его отпевали, и мне отец сказал: «Обязательно подойдешь», я помню, что мне лет шесть-семь, «обязательно подойди, поцелуй его». Я себе внутренне сказал, что никогда и ни за что. Но я подошел просто постоять, а была какая-то огромная жара, градусов, наверное, тридцать восемь было, и вот я стою перед ним, и его тело от жары этой распухло, и вдруг у него из ушей и из носа потекла кровь.
К. Мацан:
— Кошмар какой.
Р. Овчинников:
— И я это запомнил, и для меня на всю жизнь это является вот статика мёртвая, из которого идёт движение, кровь. Для меня это, я никак, я всю жизнь с этим...
К. Мацан:
— А можно спросить, даже перескакивая, может быть, через всю вашу биографию: ну а сейчас вам доводится бывать наверняка на отпеваниях?
Р. Овчинников:
— Да.
К. Мацан:
— Это же, на самом деле, очень светлая служба — отпевание человека в храме.
Р. Овчинников:
— Сейчас такого нет, но прыжок этот, он долгий, затяжной у меня был. Сейчас я спокойно к этому отношусь совершенно, хотя я продолжаю ощущать в большинстве случаев, что мне кажется, что вот то, что лежит, это лежит, так сказать, та оболочка, к которой мы должны относиться очень бережно, достойно, но вот я ощущаю, что вот сам, как сам человек, его здесь нет, он где-то рядом, он где-то в воздухе.
К. Мацан:
— Но и смерти нет.
Р. Овчинников:
— Да, да. И смерти нет, потому что это лежит, так сказать, то, что должно, то, что из земли должно в землю, и мы должны с почтением с большим к этому отнестись, как к временному убежищу души.
К. Мацан:
— Так, ну а знакомство, собственно, с церковью уже такое осмысленное?
Р. Овчинников:
— Осмысленное — это в институте, и я даже помню и знаю это точно. Я читал «Преступление и наказание» и дошёл до момента, когда Соня читает Раскольникову Евангелие. Я ничего не понимал про это, ничего не знал, но я помню это, вот когда в груди пузырь какой-то горячий лопнул, и я не понимал, что со мной происходит — я выскочил из библиотеки, я плакал, я отворачивался, потому что студенты тут ходят, я не понимал, что со мной. Но это вот было первое такое прям прикосновение Бога, ожог.
К. Мацан:
— Ничего себе.
Р. Овчинников:
— И это Фёдор Михайлович Достоевский. И после этого я стал понимать, что надо куда-то прилепиться, потому что самому, я, надо сказать, очень быстро понял, что для того Бог не отец, для кого Церковь не мать, для меня это прямо первый этап. Я сказал, что я без Церкви Бога не понимаю, это всё своеволие, это всё анархизм какой-то, хотя многие до этого долго доходят, у меня как-то это, во всяком случае, было сразу. И начался этот какой-то многолетний путь к храму. И это было, конечно, просто от фарса и комедии до трагедии, как ты начинаешь к этому привыкать.
К. Мацан:
— А что было самым тяжёлым вот в этом пути к храму?
Р. Овчинников:
— На пути к храму самым тяжёлым было встать на колени и Причастие. Исповедь легче была. Но тоже, как сказать, я этого не боюсь, потому что первое Причастие у меня было где-то в Ташкенте. Бог его знает, мы приехали, и мой друг, который потом отошёл от этого всего, от Церкви, но в тот момент он был таким, так сказать, неофитом, и, может быть, так и нужно было, чтобы он меня привёл. На гастролях Ленкома мы пошли, пришли, какая-то огромная деревянная церковь, там две бабушки, деревянные полы... Две бабушки, которые с изумлением открыли глаза, увидели, что тут молодые люди, не знаю, когда их последний раз здесь видели. И он меня заставил готовиться, я, значит, готовился к исповеди. Вдруг вышел священник, который, было видно, что невыспавшийся. И он говорит: «Давай сюда, становись на колени (епитрахиль наложил) значит, я буду говорить, ты повторяй за мной: в этом грешен, в этом грешен...» Я говорю: «Подождите, я же, а как же...» Потом мы пошли к Причастию, и я, такой оскорблённый, обиженный, пошёл к Причастию и думаю: только бы мне первому быть, только вот это, чтобы ради соблюдения гигиены, вот эти переступания, только бы первому быть. И, значит, я оттёр Максима, эти две бабушки мне уступили, и я иду, и откуда, я не знаю, откуда выскочила ещё одна бабушка, а у неё слезились глаза, она была какая-то не очень опрятно пахнущая. Потом понимаешь: всё это посылается Богом. И она причастилась первая, и я помню, как в американском кино, когда батюшка стоит, и эту лжицу, как я клацнул зубами, как я проглотил это Причастие, и с ощущением какого-то проглоченного ежа я ушёл, и к вечеру вдруг во мне, я помню это — в животе разгорелся огромный-огромный огонь тёплый, и он стал распространяться по всему телу, и я первый раз сказал: «Спасибо тебе, Господи, спасибо тебе за меня, за дурака, который вот таким кандибобером идёт к этому». Но это, я этого не боюсь, потому что это путь, некому было нам ничего объяснять, ни родителям, ни...
К. Мацан:
— А какой это год?
Р. Овчинников:
— Это начало 80-х, и я, надо сказать, крест в советское время носил, у меня много было ещё в советское время скандалов из-за этого креста.
К. Мацан:
— Я как раз именно поэтому и хотел спросить, потому что начало 80-х, я тогда ещё не родился, но по многочисленным рассказам людей, это всё ещё вполне время Советского Союза, ещё не заговорили о 1000-летии Крещения Руси, ещё о перестройке не помышляют, ещё всё по-старому, в семинарию поступают строго по спискам, уполномоченные по делам религии и так далее. То есть тогда как-то открыть для себя церковь, начать ходить в церковь — ну, это определённый вызов окружающему миру. Как это было у вас?
Р. Овчинников:
— Иногда было страшно, не было такого уже страшного, как там при наших дедах, при родителях. Я помню, что когда мы в 83-м поехали, Ленком поехал в Париж, и мне подарили Библию, и я вёз Библию, и на таможне мне сказали: «Откройте вот этот чемодан», из многих чемоданов. Ну, понятно, что стуканули, я даже знаю, кто. И я открыл, он говорит: «Вы не имеете права провозить Библию». Я говорю: «А где это написано?» Они говорят: «А мы сейчас будем вам показывать, где это написано». Я говорю: «А я сейчас вот так вот вам буду отдавать». Положено провозить только людям престарелого возраста и священнослужителям. И да, я помню, что за меня заступился парторг, Никифоров наш, он говорит: «Вы знаете, ему надо, он такой у нас читающий, ему для работы надо». И я просто встал, я боялся, естественно, это ж таможня, КГБ, я боялся, но я вот что-то, когда лезешь вперёд, я добился того, что они мне сказали, что — «Ну ладно, мы сейчас это возьмём, потом заберёте её в «делах по религии и атеизму», там контора такая была на Смоленке. Я уже плюнул, мне потом подарили. Но это, когда КГБшники говорят: «Снимите крест, вы же работник идеологического фронта, как вам не стыдно?»
К. Мацан:
— А были такие случаи у вас?
Р. Овчинников:
— Ну да, да. Причём мы в Греции были, а там, наверху в Греции, тоже на гастролях маленький бассейн, и мы по ночам туда выходили — здорово, бассейн, наверху дома маленький, и мы там купались, и всегда выходил КГБшник, как я не прятался, раздетый, и он видит крестик. Говорит: «Я же говорил вам, с вами бесполезно разговаривать, снимите крест». Я говорю: «Хорошо, хорошо, хорошо» и опять не снимал. И он говорит: «Ну вы человек конченый». Я говорю: «Ну да, примите так уж с тем». Хотя, конечно, страшно, потому что понимаешь, что контора всесильная, хотя потом они все одели кресты.
К. Мацан:
— Родион Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я читал ваше интервью, когда готовился к программе, и мне очень интересно вас расспросить, чтобы вы рассказали о вашем знакомстве с Русской Зарубежной Церковью, с владыкой Марком Берлинским, как это было? Вы даже богословское образование получили.
Р. Овчинников:
— Да, у нас тогда нельзя было, а очень хотелось такое вот что-то богословское, потому что у нас сразу ты на виду, и сразу ты, так сказать, иди потом, рукополагайся. У нас невозможно в светском порядке было никак, а там как институт такой, это Русское зарубежье, сначала мы...
К. Мацан:
— Как вы там оказались вообще?
Р. Овчинников:
— Мы на гастролях, как всегда, опять на гастролях.
К. Мацан:
— У артистов все повороты жизни связаны с гастролями.
Р. Овчинников:
— Да, да, да, потому что Ленком очень много ездил, и там вот эти гастроли, потом у нас было, я расскажу, с Русской Зарубежной Церковью: в Нью-Йорке, когда мы прилетели, и мы пошли сразу вдвоём, забыл я сейчас, с кем мы пошли, сразу пошли искать храм, чтобы по воскресеньям ходить. И идём, и ночь, и вроде нам говорят: «вот туда, куда-то там где-то ваши православные». И ты идёшь, и вроде смотришь, какого толка эти храмы православные, непонятно, но мы в один зашли, идёт служба. Мы стоим — вроде по-нашему, по-нашему идёт служба, и прихожан никого нет. Мы стоим, стоим, вдруг спускается какой-то служка, и говорит: «Владыка Виталий ждёт вас потом после службы», а это Первоиерарх был Русской Зарубежной Церкви.
К. Мацан:
— Ничего себе!
Р. Овчинников:
— Хорошо, и тут какой-то священник проходит, я сложил, как положено, под благословение, а он: «Как руки подаёшь?!» Я аж прямо подпрыгнул, говорю: «Как и у нас...» Говорит: «Это там у вас положено!..» Мама родная!
К. Мацан:
— А как надо было?
Р. Овчинников:
— Ну, я не знаю как, я уж не спросил, как надо, я уж не стал брать благословение, потому что я положил, как у нас кладут.
К. Мацан:
— Левая снизу, правая сверху?
Р. Овчинников:
— Да, так.
К. Мацан:
— И что его не устроило?
Р. Овчинников:
— Не знаю, наверное, как-то надо было, не знаю. И мы пошли туда, и он благообразный такой, замечательный человек. Тогда мы были совсем в расходе, и он нас накормил ухой, дал нам по...
К. Мацан:
— «В расходе» вы имеете в виду, что тогда ещё Московский Патриархат, Русская Православная церковь Московского Патриархата не была в каноническом общении с Русской Зарубежной Церковью?
Р. Овчинников:
— Да, то есть совсем не были.
К. Мацан:
— Вот этот раскол уврачевался в 2007 году.
Р. Овчинников:
— Да, да, да. И мы пришли, мы сидели, он нас накормил ухой, дал нам по 25 долларов, и потом мы с ним разговаривали, и я ему говорю: «Владыка, ну вот, понимаете, ну давайте, предположим, скажем, что вы правы, и вот народ православный, как нам к вам на исповедь и на причастие, и на отпевание 11 часов лететь?» Я говорю: «Ну неужели в нашей Церкви нет благодати, всей полноты благодати?» И он, перегнувшись через стол, шепотом сказал: «Конечно, есть. Но вы же понимаете, что здесь происходит, мне же не дают».
К. Мацан:
— Ничего себе!
Р. Овчинников:
— И мы, не понимая, что там особо, так сказать, но вот это его откровение, которое просто у меня, я вот сейчас говорю, у меня мурашки пошли, я вспомнил, потому что кто мы такие, чтобы нас таким откровением дарить, но нам это было дано. И потом я понял, потому что там огромное количество, в том числе и владыка Марк, он немец, архиепископ он тогда был, он немец, и вот эта какая-то гремучая смесь православия с немецкой кровью, с чистой, он был такой очень строгий, и я попросился, я сказал, что я не могу, к сожалению, там учиться, это могло быть заочно.
К. Мацан:
— Но владыка Марк при этом удивительный подвижник, построивший там прекраснейший монастырь, и вот я знаю про него историю, что когда его, по-моему, вот выбирали для высокого служения, настоятелем монастыря, я могу путать детали, но смысл был в том, что он согласился занять какую-то руководящую должность при одном условии, что ему позволят жить в монастыре как обычному монаху, без всяких, скажем так, излишеств и без всяких таких статусных вещей. И он многими, я знаю, даже по моим знакомым, вот встреча с ним стала таким поворотным пунктом на пути в церковь, и встреча с таким живым, подлинным, глубоким православием.
Р. Овчинников:
— Ну он, да, надо сказать, что он очень человек такой прикровенный, он ничего напоказ, у него не было там большого количества панагий, еще чего-то, он какой-то очень, как у нас учителя учат: «серенькой красочкой, серенькой красочкой так вот», и мне очень это нравится и очень импонировало. Он никогда-никогда не повышал голос. И мы вот так вот работы отсылали, я еще два раза туда приезжал, опять же, один раз я приезжал с концертами, второй раз с концертами, еще раз мы туда приезжали с гастролями, так что мы так делились, и в итоге там работа окончательная, дипломная по юродству, по юродивым.
К. Мацан:
— Интересная тема.
Р. Овчинников:
— Да, да, да. И я тогда понял, глядя в том числе на архиепископа Марка, что радостно мне, что наши святые какие-то внешне очень серые, очень неброские.
К. Мацан:
— Интересно.
Р. Овчинников:
— В них нет этого католического экстатизма такого, этого какого-то пламенения такого вот Франциска Ассизского, когда я читаю, при том, что, наверное, там... но я не могу, потому что в этом какой-то элемент театра, который я люблю и который я очень чувствую, когда начинается немного представления. А мне нравится, как вот Серафим Саровский, вот такой, внешне стремящийся, так сказать, к никакому, к незаметности, и только тогда вся эта сторона души — просто сады какие-то.
К. Мацан:
— Как интересно, вы сейчас об этом сказали, и вы упомянули, что «как вас учат серенькой краской», это кто вас так учит, что вы имеете в виду?
Р. Овчинников:
— Ну, это старые театральные мастера.
К. Мацан:
— А что они говорили в этой связи? Это про что?
Р. Овчинников:
— Про то, что, так сказать, не надо тратиться, в смысле, сразу, как я своим ученикам тоже говорю: «Вы выходите на сцену, сразу ходите с козырного туза, и дальше что?» И они говорят: «Не надо, не надо, вот вышел, ты внимание привлекай, но играй, играй, играй, и потом где-то взрыв по амплитуде, он должен быть один-два раза, тогда он ценен». А вот это расплёскивание, нынешнее, собственно говоря, искусство, оно похоже на тёплую бутылку шампанского, которую встряхнули и открыли, и куча пены, и в сухом остатке вот на дне два сантиметра, собственно говоря, влаги, а всё ушло в пену. Очень много брызг, очень много пены, очень много фейерверков. А сути...
К. Мацан:
— А вот это очень интересная тема, ведь вообще мы живём в такой культуре, где вот культура заголовка, вот статья начинается с заголовка: сразу самое главное, самое интригующее, ещё не важно, так это или не так, правда или неправда, важно, чтобы кликнули и прочитали, то есть надо огорошить человека сразу, потому что дальше, может, читать уже статью он не будет, это вот я из журналистского такого опыта понимаю, тоже в принципе не так уж неверно, нужно, чтобы внимание привлекалось, потому что много источников, ты должен выбрать вот тот, который тебя зацепит, поэтому мы боремся за броскость заголовка. С другой стороны, к этому, получается, в каком-то смысле аудитория привыкает, если ты приходишь в театр, и тебя сразу не огорошили, то ты: «а чего это я тут сижу-то, а может я дальше уже смотреть не буду, я не хочу». И есть ли сегодня те зрители, которые готовы вот искусство воспринимать так, как вы говорите, что прийти в театр и быть готовыми, что тебя не сразу начнут развлекать с порога, а время потратить, подождать, вчитаться в истории, это же как книгу читать, длинный текст. Мы открываем, не знаю там, классика Тургенева, Толстого, Достоевского, и начинается долгое, медленное повествование. Сразу не хотят вот перед тобой раскланяться, чтобы внимание завлечь, нет, читай пятнадцать страниц, как в салоне Анны Павловны Шерер люди разговаривают, потом еще только действия начнутся — но это не оторваться, пока читаешь.
Р. Овчинников:
— Да, да. Но тут искусство, оно, содержания без формы не существует, конечно, нужно владеть формой, это профессия. Владение формой — это профессия, а владение содержанием — это, так сказать, душа уже. И, конечно, надо обязательно, ну, может быть, слово какое-то не «привлекательность», не «завлекательность», а собирание внимания, это задавание правил игры и уровня игры, в которую мы будем сегодня играть. Знаете, ведь это тоже может быть, может просто выйти человек, сесть на авансцену и, глядя в зрительный зал, спокойно начать разговаривать с публикой, и это будет...
К. Мацан:
— И завладеть вниманием.
Р. Овчинников:
— И все, и собрать все это внимание. Надо очень найти ход, но соответствующий обязательно тому произведению, которое вы делаете. Нельзя поперек.
К. Мацан:
— Вернемся к этому разговору, как раз начали мы волнующую тему об искусстве, сейчас, после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Родион Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Бориса Щукина. У микрофона Константин Мацан, не переключайтесь.
К. Мацан:
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается, еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Родион Юрьевич Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, и мы продолжаем наш разговор. И вот, собственно, заговорили о вашей профессии театральной, и я, может быть, обращаюсь сейчас к главному вопросу, такому магистральному, который в нашей беседе сегодняшней есть: а человек христианского мировоззрения, не отторгается ли он средой театральной, потому что профессия связана с, не знаю, каким-то возбуждением в себе страстности, с желанием нравиться публике, с желанием смотреться в зеркало, ну и просто со средой актерской, которая, ну, чего греха таить, не самая целомудренная, скажем так, по крайней мере, так принято считать у тех, кто со стороны на это смотрит. Вот как вы это чувствуете?
Р. Овчинников:
— Это, конечно, трудно. Конечно, трудно, потому что какому-нибудь печнику меньше шансов свалиться, потому что у него работа отдельная, и на заводе тоже работа, как-то в бригаде всё, как-то больше дела руками, когда делаешь, работаешь руками, внутренне некогда ещё из себя что-то изображать, потому что надо точно распределиться и успеть сделать. Искусство, так принято считать, что там очень много всяких пауз. Собственно говоря, что они делают, это вот, ну как, выучи там текст наизусть, выйди. Вот единственное, изумляются: как вы столько текста выучиваете наизусть? Вот это единственное изумление. А это, конечно, сумасшедшая, наизнос, если это подлинная, наизнос работа, и, конечно, она, то, что касается театра и касается кино, это, конечно, огромный полигон для греховности и особо для гордыни. Огромный, там всё выстроено так, вот там всё одно сплошное минное поле, это как в «Пикнике на обочине» у братьев Стругацких, это зона, где всё время ловушки, ловушки, и ты не знаешь, в какую ловушку ты попадёшь завтра, ты не знаешь, потому что здесь никогда ничего не повторяется. И выжить, конечно, очень трудно, и очень легко пойти по верхам, идти только к успеху, только к успеху, потому что придержащих в нашей профессии, придержащие все почти ушли.
К. Мацан:
— Это кто?
Р. Овчинников:
— Ну, вот великие артисты, в наше время их было такое огромное количество, понимаете...
К. Мацан:
— А они шли не к успеху, они к чему-то другому шли?
Р. Овчинников:
— Нет, там иногда, ну как правило, дар всегда талантливее самого человека, вот человек в даре своём умный, а в жизни — дурак, и так бывает, и очень часто, вот дар, он настолько умный, что мне интересно там смотреть на человека, в жизни я начинаю с ним разговаривать, он в жизни для меня ничего не представляет. И было огромное количество, вот посмотрите просто по советским фильмам, что не фильм, то пять, шесть, семь и более человек, ну просто такого первого эшелона. Сейчас это всё ушло, и качество того, что делают сейчас на экране и в театре, качество того, и притязательность на что, очень мелкая.
К. Мацан:
— Ну, вы всё-таки назвали великих артистов вот «придержащими», а в чём они придерживают, что они? Они как бы не давали... То есть вы начали с того, что очень легко идти к успеху, а раньше были эти великие артисты, которые вот, как-то они что, какую-то иную траекторию показывали? Не давали тебе как-то слишком много о себе думать?
Р. Овчинников:
— Ты когда смотрел, ты смотрел на него, сейчас можно, я гляжу там на рядом кого-то — почему он, а не я? Он такой же безголосый, как я, он такой же, а поди, подвинь Евгения Павловича Леонова или поди, подвинь Евстигнеева, или Смоктуновского, потому что когда ты смотришь, хоть будешь ты молодым, семи пядей во лбу, ты понимаешь, что это мастерство, и что до него ещё тебе топать и топать, и не было таких наглых, которые «А я!..», не было, потому что это было бы смешно, и все бы подняли на смех, потому что уровень профессионализма был до такой степени высокий, и это было очень видно. Сейчас, когда всё идёт к размыванию профессионализма, понятно, что ни один из нас не пойдёт к любителю-стоматологу, понимаете, но, вот группа наших там кого-то, например, современных звёзд, лечат зубы: «устраняем кариесы» — я вас умоляю, куча народу придёт, и куча идиотов сядет в эти кресла, и будут они себе лечить кариесы первый раз, потому что это, так сказать, это вот быть «калиф на час», хоть немного, но я побуду на этом верху, мне не важно, что потом мне за этот верх отвечать, что на меня смотрят, что я, уже оказавшись на гребне волны, это даёт такое... это не даёт права, это даёт только обязанность, тебя увидели, и ты обязан находиться на этом гребне, потому что на тебя посмотрели, и кто-то в тебя поверил, и кто-то в тебе увидел, и ты не имеешь права. Ну, к сожалению, это...
К. Мацан:
— А вы учите этому студентов, вот этому мировоззренческому вектору? Это же про душу, в общем-то, а не только про искусство театральное.
Р. Овчинников:
— Я, собственно говоря, уже почти перестал, я делаю спектакли, делаю отрывки, но я считаю своей главной задачей педагогику. Я говорю всегда студентам, и вот нынешнему первому курсу Владимира Владимировича Иванова я сказал, что здесь достаточно ещё хороших педагогов, мастерству вас научат. Мне не важно, какие вы будете профессионалы, важно, какие вы будете люди, и для меня это важно. Люди, нужны люди. Я говорю: нужно, ребятушки, чтобы по сценам и на экране ходили мировоззрения. Я устал видеть вот эти пустые орехи, которые даже не нужно зубов, чтобы расщёлкать, и он пустой внутри, все орехи пустые. Внешне ещё видно, внутри пустые. Какие вы будете, потому что интересно смотреть на миры.
К. Мацан:
— А как это, то, что вы сейчас говорите, как это воплощается или может воплощаться на практике? Это только можно почувствовать, что — да, вот это вот мировоззрение на экране или на сцене, или, грубо говоря, артист, он в какой-то ситуации скажет: «Знаете, режиссёр, вот этого я делать не буду, потому что я считаю, что это не нужно делать. Я так эту сцену не сыграю, потому что здесь про другое у персонажа должно болеть, и там та-та-та-та». Р. Овчинников
— Ну, артист — существо подчинённое, и он должен подчиняться, это тоже некие правила игры, я говорю уходить из-под этого только тогда, когда оскорбляют Бога, Родину, семью и ваше человеческое достоинство, когда топчут ваши святыни, когда вас заставляют это делать публично, тогда вы настолько люди, насколько вы можете отказаться от этого. Всё остальное, даже трудные задачи: «я так чувствую, я так не чувствую», это ты должен выполнять. Но это очень точно надо различать, и это, конечно, невозможно, за четыре года их учёбы, «вот через четыре года он вышел подлинным человеком», нет, конечно. Это ты кидаешь в эту чёрную яму эти зёрна, кидаешь-кидаешь-кидаешь-кидаешь, не жди всходов, педагог — это тот, который не ждёт всходов, а он понимает, что его дело — кидать зёрна. Ты сей, а там, понимаешь, кто-нибудь придёт, он пожнёт.
К. Мацан:
— Ну, а всё-таки были ли примеры, когда ваши ученики как-то возвращались, и вы понимали, что всё-таки стал человек человеком вот с благодарностью, что вот то, чему вы научили, сработало?
Р. Овчинников:
— Когда они говорят «спасибо», там: «Спасибо, Родион Юрьевич, мы вас любим, можно с вами постоять, подержаться, спасибо, спасибо», я им говорю: «Да что мне с вашего этого „спасибо“? Вы сейчас от меня зависите, поэтому и „спасибо“, вот когда вы скажете „спасибо“ лет через пятнадцать-двадцать, тогда я приму». Но такие примеры есть, я, например, помню это: я в Нижнем Новгороде ставил спектакль, и сижу, уже ночь глубокая, и звонит Витя Добронравов, который говорит: «Родион Юрьевич, вы помните, какое сегодня число?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Сегодня ровно пятнадцать лет, как мы с вами сделали отрывок по Шукшину, после которого я родился как артист».
К. Мацан:
— Потрясающе.
Р. Овчинников:
— Говорит: «Отец, я пью за вас». Я говорю: «Ну тебя, я пла́чу», бросил трубку. Вот этого «спасибо» никто не просит, он независимый от меня человек, но он помнит это годами, и он настолько человек, насколько он это помнит, кто ему помог. Вся беда нынешнего поколения в единственном, мне кажется — они начинают отсчет с себя. Ну, есть некие родители, есть некие дедушки и бабушки, которые там что-то, как-то, но в результате я появился, это я понимаю. А вот это вот движение, которое, кому, когда обернись и поклонись, и тогда обернутся и тебе поклонятся, а когда мы смело идем вперед, не думая, что позади за нами, за плечами за нашими, за спинами... И вот это я помню, и таких вещей очень много, очень много. У меня были, например, ошеломляющие вещи такие, как на «Преступление и наказание», я поставил спектакль, я там сам играл Раскольникова, и после спектакля подходит ко мне молодой мужик, но это было уже давно, лет, наверное, тридцать назад, он подходит ко мне и так прямо сходу говорит: «Вы знаете, я случайно попал на ваш спектакль, но я шел убивать человека. Я вам не скажу, что я этого не сделаю, но я подумаю».
К. Мацан:
— Это история из 90-х.
Р. Овчинников:
— Ну, это тогда, собственно говоря, и было. И это для меня, вот ты понимаешь — вот для этого, ты для этого существуешь, потому что если там есть враньё в том, что делаешь ты, возвращаясь к тому, что мы несём со сцены — ну, картинки какие-то, какая-то инсталляция, но чтобы вот так потрясти душу человеческую, а это ужасно тяжело, потому что для того, чтобы потрясти душу человеческую, нужно самому сораспяться там, на сцене, потому что это, уж не знаю, как отцы наши примут это, но для меня это тоже исповедальный элемент: если ты здесь не выкладываешь душу, то ты не можешь ничего требовать от зрительного зала, если ты теплохладен с ними. Но если ты честен, то оттуда такой ответ, что ты просуществуешь очень долго, потому что этот обмен энергиями, он какой-то колоссальный, но это надо научиться. Я говорю: надо научиться, ребятушки, испытывать радость от того, что отдал, а не взял, это ужасно тяжело, потому что это претит...
К. Мацан:
— А это претит, как вам кажется, современным молодым людям, с которыми вы работаете, или это вообще в человеческой природе — не отдавать?
Р. Овчинников:
— Да это вообще человечеству претит. Человечество стремится, вот я не думаю, если бы не было храма или как... Человечество стремится всё время в горизонталь. Человек всё время стремится лечь. И всё в человеке, кроме души, всё горизонтально, Вертикальна только душа, и она всё время заставляет тело подыматься, куда-то идти, что-то делать, к чему-то тянуться.
К. Мацан:
— А нет для вас, если угодно, проблемы, что иногда преподаватель немножко так своё религиозное мировоззрение камуфлирует, чтобы вот не проявить, чтобы никого особенно там не смутить, чтобы не стали спрашивать его: «А вы что там, в Бога веруете?» Вот можно же говорить очень так обтекаемо о добре, о душе, и вроде как даже иногда неловко, вдруг там церковником сочтут, или кто-нибудь именно из-за этого скажет: «А, слушай, я к нему не пойду, он сейчас проповедовать будет».
Р. Овчинников:
— Нет-нет, эта обтекаемость — это удел интеллигенции, к коей я, слава тебе, Господи, не отношусь.
К. Мацан:
— Как говорил Гумилёв: «Какой же я интеллигент, у меня профессия есть».
Р. Овчинников:
— Да-да-да. Для меня это жупел, я из-за этого очень много связей теряю, но я этого не боюсь, это их дело — обтекать. Я всегда говорил честно, что, ну как это, как можно сказать — «А вы христианин?» — Ну, понимаете... Как вам сказать...«, ну и что, и тут же предал Христа. Что ты за воин Христов, если ты боишься? Не надо это навязывать, не надо вбегать и студентов начинать крестить, а тот, кто сделал плохо, анафему ему сразу — не надо, это не храм, это место работы. Но призывать идти к тому, что есть Творец, и вы — творцы тоже, дорогие мои, уподобимся же нашему Великому Отцу, тоже давайте что-нибудь сотворим, я не боюсь.
К. Мацан:
— Ну, а какую реакцию это встречает среди студентов, я имею ввиду даже когда просто они узнают, что их педагог, вот он церковный человек — это, может быть, никакой реакции не вызывает, или вопрос, подозрительность или любопытство, что?
Р. Овчинников:
— Тут, понимаете, как спрашивали, я говорил, по-моему, как отца Павла Флоренского спрашивали: «Что в искусстве главное — что или как?» И отец Павел говорит: «Не что и не как — а кто». Если я хорошо веду свои занятия, если меня знают как хорошего мастера, а тем более молодняк всегда понимает: надо к нему прилепиться, и будет успех, лучшие говорят: будет профессия, я знаю, что мне дадут что-то, что мне... А хорошие говорят: «это будет классный отрывок, это будет лучший отрывок, и, так сказать, я вот...», они понимают. Но прежде, чем тоже о каких-то вещах говорить, нужно понимать, кто ты. Тут можно махать сколько угодно руками — к тебе никто не придёт, а тут, когда ты понимаешь, что ты имеешь право, они тебя слушают, потому что они от тебя зависят, и не просто учитель-ученик, а от того, что они понимают, что исходящее от этого человека, и это тоже может принести что-то, и, может быть, стоит прислушаться.
К. Мацан:
— Родион Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот такая тема, как театр и ценности, христианские ценности — часто принято считать, что, чтобы театр эти ценности нёс, нужно как-то по-особенному выбрать репертуар: вот давайте поставим что-нибудь про святых, например. Единственный ли это путь для того, чтобы то, о чём вы говорите, воплощалось на практике, в конкретных постановках, в репертуаре конкретного театра?
Р. Овчинников:
— Ну нет, это вообще, как бы, не путь, потому что каждый должен заниматься своим делом. Никогда не надо этой соловьёвщины, вот этого теургического искусства. Искусство должно быть искусством, Церковь должна быть Церковью, ценности должны быть, а ценности можно... Уж перед нами лежит огромный океан русской литературы и драматургии, его не перечерпаешь никогда, понимаете? Чтобы мне переставить всё лесковское, что я люблю, мне ещё на десять лет хватит. А Достоевского, Островского? Ну это бесконечно! И у нас огромная литература, и огромное количество литературы, тот же Шекспир, которого ставят и ставят без конца. Почему его ставят без конца? Потому что он ставит вековечные вопросы, потому что он не занят: какая у тебя газонокосилка, «Сименс» или «Телефункен», а он ставит вопросы чести, достоинства, рода, любви, преданности, они высокие, их нельзя сыграть, так сказать, кухонным вариантом таким, там надо потратиться, ну невозможно, чтобы Гамлет... Хотя сейчас возможно всё, как вот «Гамлет» без Гамлета — прекрасно! «Ричард III» без Ричарда III там, например, «Отелло» без Отелло — ну а что? Не в этом же дело и дело даже не в Шекспире, и дело не в сюжете, а в чём дело? — хочется сказать, старик или старуха, к режиссёрам обратиться, — но если тебе так уж не терпится, ну напиши что-нибудь своё, помоечное, ну напиши, ну чего ты прицепился, просто ты понимаешь, что это тоже бренд, и ты тащишь это как гарантию для себя хоть какой-то выгоды, что «всё-таки Шекспир, «вот всё-таки я...»
К. Мацан:
— Смотрите, вот понятно, что Достоевский, Лесков для, скажем так, тех, кто ищет авторов, созвучных христианскому мировоззрению, это такой беспроигрышный выбор, хотя можно по-разному Достоевского и Лескова ставить, но там ясна эта тема, она там есть. Она есть у Толстого, везде по-разному, но есть, безусловно, какой чудный мир православия в «Войне и мире», княжна Марья Болконская. А вот есть авторы — великий Чехов, где эта тема, на первый взгляд, как-то не на поверхности, а вот про что для вас в этом смысле Чехов?
Р. Овчинников:
— Вы знаете, я с Чеховым дружу очень фрагментарно.
К. Мацан:
— На дистанции?
Р. Овчинников:
— На дистанции. Это не герой моего романа, я его прочитал всего, к чести моей надо сказать, что все двенадцать томов и писем, это все прочитал, это можно говорить о любви или не любви, когда ты все это... Когда не знаешь — легче. Знаете, как Ахматова о нём сказала, что — «Не люблю Чехова, ни один его персонаж не способен на подвиг». И я с ней согласен. Прекрасно, когда мы можем вот так вот, «слегонца» рассуждать о таких авторах, он гений, безусловно. Но наша литература так богата, понимаете, что я, например, могу, когда я говорю: «Давайте поговорим, так сказать, о втором эшелоне русской литературы, о Булгакове» — первой вскидывается интеллигенция: «Да как вы можете! Да вы нашу эту вот!..» Я говорю: «Вашей „евангелие“ в „Мастере и Маргарите“, я стараюсь от него быть подальше всегда». Когда мне предлагают в этом участвовать, играть, я говорю: «Нет». Я Юрию Петровичу Любимову сказал: «Нет, Коровьева — нет, нет, не хочу, это вне традиции русской литературы, как бы это ни было хорошо, прочитай, но не ставь это». У Чехова очень много... У Достоевского тоже много медицины, он тоже скальпелем изымает человека со своей психологией. Чехов, он людей жалеет, но не любит. А Горький, вот этот «буревестник революции», «Песни о Соколе и Буревестнике» все мозги нам продолбали в советских школах, но он здоровее для меня, это я, пускай в вашей биографии будет такой человек, как я, но я отвечаю за свою нелюбовь, я отвечаю, потому что я знаю досконально всё, что написано этим человеком, мною прочитано, я никогда бы в жизни не позволил себе сказать об этом, но это не для моей души. Я и ставил Чехова, но мне не хватает, мне воды по щиколотку, я не могу.
К. Мацан:
— А вот на «Таганке» вы отказались играть Коровьева в «Мастере и Маргарите», всё-таки тут был момент такой чисто литературный: не тот материал, или всё-таки внутренний, если угодно, какой-то мировоззренческий, опять же, заигрывать со злом, как Булгаков, не хотелось?
Р. Овчинников:
— Да, именно это, почему вне традиции русской литературы — потому что там тёмные силы гораздо обаятельнее светлых. Вся эта история с Иешуа Га-Ноцри, вот неофитами такого христианства может быть наша вся советская интеллигенция, вообще вся интеллигенция, и нынешняя демократическая, это вот, так сказать, их доступное. Я эту историю вообще не понимаю, она для меня какая-то вампука, принцесса африканская, а эта компания воландовская обаятельная, и все люди какие-то такие, кроме Мастера и Маргариты, все остальное какое-то монструозное совершенно, и Москва какая-то просто там... Как у Гоголя: «Один хороший человек — прокурор, да и тот, по правде сказать, свинья». Ну, это карикатура, хорошая, лихая, но для меня это мало любви.
К. Мацан:
— Ну, вот еще один автор, по которому вы поставили спектакль, который, опять же, на первый взгляд, формально никак не может быть прописан по разряду христианских ценностей — Довлатов, горячо мной любимый Довлатов. Вот что это была за встреча с этим автором у вас?
Р. Овчинников:
— Ну, это я уже говорил вам...
К. Мацан:
— Да, когда мы встречались, мы просто с Родионом Юрьевичем познакомились на лекции Родиона Юрьевича, которые с недавних пор стали в Москве для узкого круга ценителей проходить, и вот там тоже мы об этом поговорили.
Р. Овчинников:
— Да-да-да, потому что именно в полемике, именно от того, что вот этот отъезд меня... Если бы он не уехал, он бы мной был принят абсолютно, потому что он говорил такие вещи, именно в «Заповеднике», когда он говорит, что «когда приезжает к нему жена и говорит: «Поехали-поехали, что тебя удерживает?» И я помню, в моём спектакле, когда актёр единственный раз взвивается вверх и кричит: «Язык! Меня держит язык!», и для меня это вещь непреодолима, и я его осветлял и пытался его вернуть обратно в Питер, в Питер, в Питер вернуть его, потому что он очень хороший, как мне кажется, у него есть два таких пункта: у него, во-первых, была заниженная самооценка, он всё время колобродился около Бродского, около больших писателей, и всё время хотел им... Он соответствовал им, он соответствовал, у него хороший сильный дар, а потом ты занимаешь ту нишу, которую никто не занимает, чего ты ещё, с кем, зачем соперничать? У него это низ был. И вот это вот его: «вот дайте мне свободы, дайте мне свободы!» Черчилль говорил: «Самая большая свобода — это казарма и монастырь, потому что чем больше тебя, тем больше твоя внутренняя свобода», ему вот этой свободы вот не хватало, не печатали. Высоцкого тоже не печатали, я думаю, что ему даже в мозг никогда в жизни не приходило уехать, в мозг не приходило, потому что он понимал, что он абсолютно этой земли, и Довлатов абсолютно этой земли.
К. Мацан:
— Но при этом зарубежная проза Довлатова, а большинство его произведений, мы знаем, уже вышли, когда он переехал, именно там были напечатаны с помощью редакторов, она же, в продолжении того, о чём вы говорите, полна такого лейтмотива, что — «вот, я на свободе, и что?» «И что?» вопрос, от себя не убежишь, внутренние проблемы и вопросы к жизни остались те же. Это, конечно, не разочарование, но это вопрос в глубину: вот есть свобода внешняя, и что дальше?
Р. Овчинников:
— Он всё время там пытался реконструировать родину, с которой он уехал, вот люди, ситуации, которые складываются. Мне кажется, вообще любая эмиграция, по мне, легче, я не знаю, если только не вывезут, просто силком, то легче невозможно, потому что проблема вся в тебе, и меняя географические пространства, ты просто в другое географическое пространство помещаешь своё тело. Свободы нет, её нет нигде, и она в полной мере, и каждый человек понимает её по-своему, и каждый человек понимает её всё равно превратно, что это такое? Есть любовь, вот там, мне кажется, в любви всё свободно, а что такое отдельно от себя свобода? Как у Тэффи есть замечательный рассказ «Воля», вот она говорит: свобода понимаема на всех языках мира, вот свобода, да. А что такое воля, может понять только русский человек, воля — это свобода? Да нет, и свобода тоже, но это вот воля, то есть, ну а как это, это что это? Не знаю, вот это воля! Поэтому какие-то слова я ужасно не люблю, я не люблю слова «справедливость», я не люблю слова «свобода», я не люблю это, какие-то, мне кажется, придуманные от...
К. Мацан:
— Хорошо, если вместо условно свободы — любовь, то на место справедливости что вы поставите? Если не справедливость, то...
Р. Овчинников:
— Надежда. Справедливости нет, ну что такое справедливость? Мы даже сидим сейчас с вами: по-вашему это справедливо, а по-моему несправедливо, и мы никогда не договоримся, потому что мы оба искренни. Справедливость — это временная, ограниченная временем очень сильно, как...
К. Мацан:
— Договорённость такая.
Р. Овчинников:
— Да, да. Во-первых, отрицает «Екклесиаст», потому что время войне, время миру, время дружить, время уклоняться от объятий, время всему, а как, это такая беспринципная, а где справедливость?
К. Мацан:
— Ну вот, к сожалению, время говорить и время заканчивать программу на радиостанции «Вера», спасибо огромное за этот разговор. Родион Юрьевич Овчинников, Заслуженный артист России, профессор театрального института имени Щукина, был сегодня, уверен, не в последний раз на волнах радиостанции «Вера», спасибо огромное.
Р. Овчинников:
— Спаси Господи.
К. Мацан:
— У микрофона был Константин Мацан, до свидания.
Все выпуски программы Светлый вечер
Псалом 100. Богослужебные чтения

Как наполнить своё сердце теплом, добротой и светом? Зависит ли это вообще от наших усилий? Ответ на этот вопрос находим в псалме 100-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Псалом 100.
1 Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.
2 Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты придёшь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.
3 Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
4 Сердце развращённое будет удалено от меня; злого я не буду знать.
5 Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
6 Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.
7 Не будет жить в доме моём поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими.
8 С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
Только что прозвучавший псалом — это своего рода клятва царя. Он обещает Богу, что в своём правлении будет хранить верность Его закону. Причём не только в общественных делах, но и в частных. Видимо, не случайно в некоторых странах Средневековой Европы этот псалом использовался при обряде коронации. Известно, что Людовик IX руководствовался им в деле воспитания своего сына и наследника Филиппа. А русский князь Владимир Мономах использовал как своего рода государственный гимн. Однако этот псалом предлагает нечто важное и для каждого из нас. В нём содержится вполне конкретное указание на то, как же именно добиться чистоты в своей личной жизни и в общественной деятельности.
Обращаясь к Богу, псалмопевец обещает: «Я бу́ду размышля́ть о пути́ непоро́чном». То есть буду размышлять о Твоих заповедях, Господи. Здесь упоминается об одной важной аскетической практике. В христианской традиции она называется молитвенное размышление. Суть её проста. Наш ум похож на рыболовный крючок или даже на репейник. Он всегда ищет, за что бы ему зацепиться. Как только он поймал какой-то образ, он сразу же тянет его к себе домой. То есть прямо в нашу душу, в самое сердце. От этого в нас рождаются разные чувства. И порой именно от этого у нас внутри бывает так скверно. Мы переполнены нежелательных впечатлений, мрачных воспоминаний о прошлом и тревожных представлений о будущем. А всё потому, что ум живёт собственной жизнью. Даже если мы заняты каким-то делом, он бывает рассеян. Он, как сорвавшийся с цепи пёс. Весь день скитается по помойкам и подворотням, потом возвращается взъерошенный, грязный и тащит в дом всякую гадость и заразу.
Поэтому отцы христианской Церкви призывают держать ум под контролем. А именно — давать ему нужные образы. В первую очередь это образы из Священного Писания, из поучений святых отцов, из молитвословий. Алгоритм прост: прочитал или услышал утром текст Писания и стараешься удержать его в голове весь день. Как только увидел, что ум начинает убегать, возвращаешь его к образу из священного текста. Чтобы проиллюстрировать эту работу, христианские подвижники приводят в пример верблюда. В отличие от многих других животных, он на протяжении долгого времени пережёвывает пищу. Поэтому преподобный Антоний Великий пишет: «примем подобие от верблюда, перечитывая каждое слово Святого Писания и сохраняя его в себе, пока не воплотим его в жизнь».
Благодаря такой работе ума, сердце наполняется совсем иными впечатлениями и чувствами. На душе становится чище, светлей, просторней и радостней. И у нас появляется способность адекватно оценивать окружающую действительность, не сползать в уныние, тоску, злобу, неприязнь и другие деструктивные чувства. Благодаря этому и наша деятельность становится продуктивной, полезной. И псалмопевец прямо указывает на это следствие размышления над законом Божиим. «Бу́ду ходи́ть в непоро́чности моего́ се́рдца посреди́ до́ма моего́», — пишет он.
А потому постараемся понуждать себя к этой важной духовной работе. Ведь если мы хотим, чтобы наши слова и поступки несли людям свет и тепло, необходимо, чтобы чистым был их источник, та сердцевина, откуда они исходят. Ведь как говорит Спаситель в Евангелии, «от избы́тка се́рдца говоря́т уста́. До́брый челове́к из до́брого сердца выно́сит до́брое». А чистота этой сердцевины во многом зависит именно от нас. От того, куда мы с вами привыкли направлять своё внимание и какими образами мы питаем свою душу.
Послание к Галатам святого апостола Павла
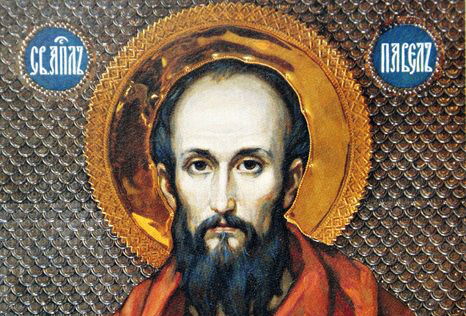
Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.

Комментирует священник Антоний Борисов.
Одним из столпов современной нам цивилизации является стремление к удобству. Нам хочется, чтобы удобным были: рабочий график, жильё, способ куда-либо доехать, с кем-либо связаться и т.д. Проявлением стремления к комфорту является также то, что всё мы переводим в схемы, инструкции, таблицы. Ведь так удобнее — понимать, запоминать, учитывать. И велико искушение саму жизнь попытаться поместить в схему. Чтобы тоже — было комфортно. Но не всё так просто. И об этом говорит апостол Павел в отрывке из 5-й и 6-й глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
Глава 5.
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Глава 6.
1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Апостол Павел в начале прозвучавшего отрывка объясняет своим первоначальным читателям — галатам — через какие явления должна проявлять себя духовная жизнь христианина. Апостол называет следующие, как он выражается, «плоды духа»: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И кто-то из современных читателей может заметить — а разве это не инструкция, не чёткий перечень того, чем должен обладать христианин, чтобы угодить Богу? И да, и нет.
Конечно же, внутренний мир верующего человека не может быть исключительно внутренним. Он, в любом случае, будет себя как-то выражать. И апостол перечисляет те вещи, которые христианин должен и иметь внутри своего сердца, и проявлять на уровне слов и поступков. При этом Павел добавляет одно очень интересное пояснение: «На таковых нет закона». Что он имеет в виду?
Дело в том, что галаты, которым апостол адресовал послание, были сначала язычниками, а потом, благодаря проповеди Павла, стали христианами. Затем среди них начали проповедовать уже совсем другие по духу люди — иудейские учители, желавшие навязать галатам своё представление о религиозности. А именно, что любовь, кротость, милосердие следует проявлять только к тем, кто является твоим соплеменником или единоверцем. По отношению же к другим, внешним, можно быть и жестоким, и чёрствым. Якобы ничего страшного в таком поведении нет.
Апостол Павел сурово обличает такой подход. А также критикует в принципе мысль, что можно те или иные добродетели исполнять схематично и меркантильно — надеясь на гарантированную награду со стороны Господа. Потому Павел и пишет: «Если мы живём духом, то по духу и поступать должны». Дух, который упоминает апостол, есть жизнь от Бога. А жизнь не запихнёшь в инструкции и схемы. Есть, конечно, какие-то важные принципы, постулаты. И за них следует держаться. Но всё же — человек важнее закона. Закон же призван помогать людям, а не главенствовать над ними.
И Павел призывает галатов, а вместе с ними и нас, ко всем людям относиться как к детям Божиим, проявляя уважение и терпение. Он прямо пишет: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». А ещё апостол напоминает, что не следует ставить знак равенства между человеком и его образом жизни. А именно — не стоит впадать в крайности, с одной стороны, поспешно считая, что чтобы человек ни делал, всё замечательно. А с другой — забывая, что человек Богом создан, и, значит, создан хорошо, но может неверно распоряжаться своей свободой.
Вот почему Павел и пишет: «если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым». На практике это означает, что мы не должны мириться со злом, но призваны его исправлять. Однако исправлять таким образом, чтобы не унижать, не презирать того, кто ту или иную ошибку совершил. Но, наоборот, всячески помогать человеку достичь покаяния — признания своей ошибки и желания её исправить. И тут нет, и не может быть никаких шаблонов. Потому что все мы разные. Но любовь, к которой все мы тянемся, которую ищем, обязательно нам поможет исполнить то, к чему призывает нас апостол Павел: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Поддержать «Изумрудный город» — пространство для развития детей с инвалидностью

В фонде «Дети Ярославии» действует проект «Изумрудный город». Это пространство, где каждый ребёнок с инвалидностью может развиваться, раскрывать свои способности и находить друзей. Фонд организует для них разнообразный и полезный досуг. Дети вместе поют, танцуют, рисуют, участвуют в спектаклях, занимаются лечебной физкультурой, но главное — учатся общаться и быть самостоятельными.
Кристина Пушкарь посещает «Изумрудный город» уже 5 лет. Именно здесь у неё появились первые друзья, успехи в развитии и вдохновение к творчеству. Из-за внешних и умственных особенностей Кристине сложно находить понимание и поддержку в обществе. Но в «Изумрудном городе» её всегда ждут. Она может не стесняться быть собой. «Когда особенные дети получают большое количество любви, тепла, понимания и видят искреннее желание им помочь, они непременно меняются», — считает мама Кристины.
Не только дети с инвалидностью находят поддержку в «Изумрудном городе». Понимание, психологическую помощь и просто доброе участие обретают их родители. Многие из них включаются в организацию событий и жизнь фонда «Дети Ярославии».
Поможем сохранить такое нужное пространство для развития и радости в городе Ярославле. Поддержать проект «Изумрудный город», а также ребят с инвалидностью можно на сайте фонда «Дети Ярославии».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов













