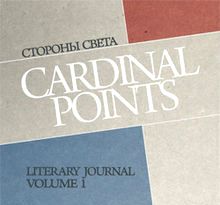Бывший сведловчанин, филолог, журналист и редактор Олег Дозморов последние четыре года живёт и работает в Великобритании. Друг и соратник знаменитого Бориса Рыжего, он уехал трудиться, выражаясь современным языком, обычным банковским клерком, так сложилась на сегодня его житейская судьба.
Между тем, перед нами – очень русский поэт, сохраняющий драгоценную традицию стихотворчества, «не только – цитирую – в использовании узаконенных инструментов и нотной грамоты, но и в верности себе, своему неизбежно неповторимому способу освоения вечных тем».
Старший «через поколение» поэт-собрат указал на дотошно-неистребимую привязанность Дозморова к классике. Действительно, с радостным, иногда смешным, а чаще – грустным узнаванием сталкиваешься у Олега на каждом шагу. И это всегда – преображение.
В освоении честной и печальной темы «тоски по подлинности», «изгнания из рая» – он, конечно, прежде всего, родственен классикам: Баратынскому, Ходасевичу, Георгию Иванову; близок и современному Сергею Гандлевскому. Вот, послушайте, как отражается в его – вероятно, памятной с детства и почти протокольной зарисовке Александр Блок:
Заката отсветы красивы
меж облетающих осин.
Вон – дети страшных лет России
идут в ближайший магазин.
А после – вон из магазина,
пути не помня своего.
И слышно у подъезда: «Зина,
открой!» И снова ничего.
Олег Дозморов, из книги «Смотреть на бегемота»
Бегемот в названии – не только гиппопотам с рекламного билборда (лирический герой мерзнет на остановке в ожидании автобуса и рассматривает щит), это ещё и бегемот из библейской книги Иова.
И понимание этого второго смысла обозначает вторую, традиционную систему координат расколотого надвое мира и трещины, прошедшей, говоря словами Гёте «через сердце поэта».
Писатель Леонид Костюков недавно написал о Дозморове большую статью и тоже заговорил о традиционности: «Бог отвечает Иову, с потрясающей и внезапной косвенностью: а кто ты такой, чтобы вообще спрашивать Меня?! а видел ли ты мир, который Я создал? бегемота, левиафана? — и нас, конечно, не удивляет, что главной поэзией в Книге Иова становятся слова Бога. <…> Однажды сумевший восхититься Божьим миром, не устает восхищаться им — вот, наверное, главное содержание книги Олега Дозморова.
По сути, вера поэта в регулярные основы языка есть вера в глубокую связь языка и мира, а также – в регулярность, в гармонию мира.
Эта вера архаична; насколько она возможна в ХХI веке? Ключевой вопрос современности – насколько она современность? точнее, мы наблюдаем вокруг себя истинно новый мир или тот самый, в котором Бог разговаривал с Иовом, только в новых декорациях? Вопрос не праздный. Ответ Дозморова: тот самый».
Вот почти автобиографические стихи, написанные от лица лирического героя:
Темнеет рано. Осень словно вор.
Во тьме играют дети возле школы.
Роняет парк свой головной убор –
вот он и голый.
И плоский Балэм сколько видит глаз
заледенел в огнях горизонтально,
но я в колонке зажигаю газ,
и все нормально.
И утром в небе розовом висит
(мир не прекрасен, но не безнадежен)
такой простой, наивный реквизит,
что Он – возможен.
Балэм – это район Лондона, «Он» – конечно, с прописной буквы…
Олег Дозморов, из книги «Смотреть на бегемота»
Я снова вспомню старшего поэта-собрата, который указал на дотошную и неистребимую привязанность Дозморова к классике – в предисловии к книге.
Приведя прочитанное стихотворение целиком, Владимир Гандельсман заключил: «Это ответ на нигилизм, на воцарившееся Ничто XX века, это восстановление жизненных ценностей, чьи образы становятся самим бытием и преобразуют мир».
28 декабря. О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого

Сегодня 28 декабря. Собор крымских святых.
О наставлениях святителя Луки Войно-Ясенецкого, входящего в сонм святых Крыма — протоиерей Илья Кочуров.
Одним из самых известных святых Крымской земли является священноисповедник Лука, архиепископ города Симферополя. Святитель Лука оказался и исповедником, и великим пастырем, и наставником.
Среди его многочисленных, очень мудрых наставлений есть одно, где священномученик говорит такие слова, что мы должны оказывать милосердие другим людям без пренебрежения к ним, как бы омывая их раны. Это очень мудрое замечание, потому что святитель Лука сам прошёл очень серьёзный путь, когда ему приходилось оказывать милосердие, например, по отношению к красноармейцам, которые над ним же издевались, измывались над ним, высмеивали веру Христову. И он их при всём при этом лечил в госпитале, возвращал буквально к жизни, ставил на ноги и вместо благодарности всё равно получал насмешки, издевательства. Пройдя такой серьёзнейший путь исповедничества, святитель Лука понял, что далеко не всегда сердце человека может быть исполнено такой совершенно искренней любви. И при всём при этом мы должны всё равно подвигать себя к тому, чтобы мы совершали дела любви, как говорил святитель, что если ты не можешь делать большие добрые дела, делай тогда маленькие. Но мы должны делать их всё-таки с почтением и с любовью к тем, кому мы оказываем милосердие, как говорит святитель, омывая их раны.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 декабря. О почитании ветхозаветных праведников

Сегодня 28 декабря. Неделя святых праотцев.
О почитании ветхозаветных праведников — священник Стахий Колотвин.
Когда мы готовимся к Рождеству Христову, конечно, мы не имеем возможности ходить при обычной повседневной жизни каждый день в храм на богослужение. Но на воскресную службу, на Малую Пасху, всегда мы выбираемся, и поэтому на богослужениях перед Рождеством Христовым в воскресные дни мы начинаем вспоминать тех людей, которые послужили Рождеству Христову, — ветхозаветных праведников.
Однако не все знают, почему же есть Неделя отцов, а есть Неделя праотцов. На самом деле, это особенности нашего русского перевода. Ведь в древности была единая, очень длинная служба, которая, при дополнении её к обычным воскресным богослужебным текстам, она превращалась в богослужение такой длины, что в монастырях-то, может, кто-то бы и выстоял, а обычный работающий человек не имел такой возможности.
И поэтому эту службу поделили на две части. И часть стали совершать не в воскресенье перед Рождеством, а ещё на одну неделю раньше. Эта служба называлась служба Недели, Неделя та, которая перед Неделей святых отцов. В греческом языке есть артикли, которые помогают понять эту чёткость. А в русские тексты, уже в славянские, как-то перебралось, что Неделя, которая перед отцами, и стали вот загадочные праотцы.
На самом деле, дорогие братья и сёстры, и праотцы, и отцы — это одни и те же люди. Это те святые, которые послужили пришествию Христа в мир, подготовке этого пришествия. Тем не менее, поскольку богослужебные песнопения, поделённые на два воскресенья, всё равно построены в хронологическом порядке, то в это первое воскресенье мы будем вспоминать самых первых ветхозаветных святых, начиная с покаявшегося праотца Адама.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 декабря. Об истории кинематографа

Сегодня 28 декабря. Международный день кино.
Об истории кинематографа — протоиерей Игорь Филяновский.
Родоначальниками кино считают братьев Люмьер. Их первый публичный киносеанс прошёл в декабре 1895 года в Париже. В России премьера первого фильма состоялась в 1908 году. Это была лента «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине. Длился первый российский фильм всего 7 минут.
С тех пор кинематограф прошёл большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от плёночного до цифрового. Сложились разные жанры кинематографа: научный, документальный, публицистический, художественный.
В золотой фонд мирового кинематографа вошли ленты наших выдающихся режиссеров: Эйзенштейна, Довженко, Пудовкина, Бондарчука, Тарковского, Рязанова, Данелии, Германа, Хуциева.
Прошедшее столетие убедительно показало, что кино — не только развлечение или передача информации. Кинематограф влияет на многие социальные вопросы, формирует общественное мнение, раскрывает новые художественные горизонты. Лучшие фильмы мирового и нашего отечественного кинематографа наряду с художественными открытиями несут в себе глубокий анализ окружающей жизни, повествуют о духовных поисках современного человека. Именно эти качества и делают кинематограф важной частью культурной жизни всего человечества.
Все выпуски программы Актуальная тема