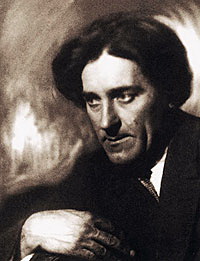 «Крестьянскую» поэзию Серебряного века невозможно представить без Сергея Клычкова, без его светлых, протяжных, тревожных стихотворений-песен. Ему был близок и родственен Сергей Есенин, назвавший своего душевного друга «истинно прекрасным народным поэтом»; на фотографиях рядом с ним – объединенные традицией и темами – Николай Клюев, Петр Орешин, Павел Васильев.
«Крестьянскую» поэзию Серебряного века невозможно представить без Сергея Клычкова, без его светлых, протяжных, тревожных стихотворений-песен. Ему был близок и родственен Сергей Есенин, назвавший своего душевного друга «истинно прекрасным народным поэтом»; на фотографиях рядом с ним – объединенные традицией и темами – Николай Клюев, Петр Орешин, Павел Васильев.
Они приняли новую власть и были ею впоследствии уничтожены. Вослед за многими Клычков был заклеймен как «поэт кулацкой идеологии», а ведь всё его «кулачество» было лишь в той неизбывной боли, с которой он вглядывался в «Русь уходящую», – бредущую, словно на расправу, с руками, скрученными за спиною колючей проволокой. И как многие, – он распознал этот грядущий уход не сразу.
Удивительными стихотворно-песенными фресками, воспевающими ясный и таинственный уклад крестьянской, деревенской России, – ещё живой, ещё не поруганной, – останутся многие летящие и летучие стихи Сергея Клычкова.
Луг в туманы нарядился,
В небе месяц народился
И серпом лёг у межи, –
Над серпом горят зарницы,
Зорят жито и пшеницу,
Бьются крыльями во ржи!
Стог, как дружка, на поляне,
И бока его в росе,
Звезды клонятся в тумане,
Скоро выйдут поселяне
И согнутся в полосе!
И, до вечера на жнитве
Не сложа усталых рук,
В громкой песне и молитве
Будут славить дедов плуг!..
Сергей Клычков, «Зоряница», 1912-й год
…Ровно через десять лет, оставив за спиною участие в мировой войне и в двух революциях, неуспех первой книги и белогвардейский плен в Крыму, широко признанный и обласканный собратьями по цеху, Клычков закончит свою балладу «Монастырскими крестами…» приземлённо-горьким предчувствием:
Та же явь и сон старинный,
Так же высь и даль слились;
В далях, в высях журавлиный
Оклик, берегись!
Край родной мой (всё, как было!)
Так же ясен, дик и прост, –
Только лишние могилы
Сгорбили погост.
Лишь печальней и плачевней
Льется древний звон в тиши
Вдоль долин родной деревни
На помин души, –
Да заря крылом разбитым,
Осыпая перья вниз,
Бьется по могильным плитам
Да по крышам изб...
Сергей Клычков, из стихотворения «Монастырскими крестами…», 1922-й год
Он ещё будет складывать свои пронзительные песни, еще за десять лет до ареста и гибели в 1938-м, поименовав себя «мучеником судьбы», восхищенно вымолвит невероятное, почти надоблачное –
…Потянутся лихие годы
В глухой и безголосой мгле,
Как дым, в осеннюю погоду
Прибитый дождиком к земле!..
И в безглагольности суровой,
В бессловной сердца тишине
Так радостно подумать мне,
Что этот мир пошёл от слова...
«Последние, неизданные стихи Клычкова, – написал о нем современный нам поэт Александр Радашкевич – щемящее сердце самоотпевание, в котором, однако, пробивается искра прощения, благости, веры: “Вечно лишь души сиянье, Заглянувшей в мрак и тьму”».
16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.
На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.
Все выпуски программы Актуальная тема
16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.
О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.
Все выпуски программы Актуальная тема
16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.
О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.
Все выпуски программы Актуальная тема













