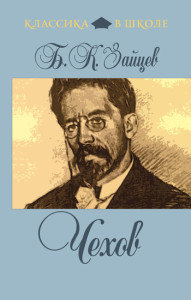 «…Он никак не собирался стать святым и не был им. Не был никаким и “учителем жизни”, важным бородачом “на посту”… Начинал тихо и малозаметно, никого не собирался поучать, но чем дальше жил, тем больше становился как бы живым поучением. Просто облик его облагораживал окружающее. Может быть, это и есть назначение человека: нести в жизнь преломлённый в душе образ Божий…
«…Он никак не собирался стать святым и не был им. Не был никаким и “учителем жизни”, важным бородачом “на посту”… Начинал тихо и малозаметно, никого не собирался поучать, но чем дальше жил, тем больше становился как бы живым поучением. Просто облик его облагораживал окружающее. Может быть, это и есть назначение человека: нести в жизнь преломлённый в душе образ Божий…
Всегда был для меня Чехов – в человеческом его плане – вроде компаса, указателя. Так-то вот Чехов поступил бы в данном случае, – значит, так поступать и надо. Но он сам об этом мало думал, я уверен. Никакой учительности в нем не было».
Это был голос прозаика Бориса Константиновича Зайцева, родившегося в конце XIX века в Орле, и окончившего свой земной путь в начале 1970-х, в эмиграции, которая составила без малого пятьдесят лет жизни. Благодарим историка литературы и журналиста Радио Свобода Ивана Толстого за эту запись.
Мы слышали слова, произнесенные там, где Зайцев был председателем парижского Союза русских писателей и журналистов, в год чеховского столетия.
Биографическая же книга Бориса Зайцева «Чехов», о которой я говорю нынче, была впервые издана в начале 1950-х. Теперь мы знаем, что её редкие экземпляры все-таки долетали и до Советского Союза.
«Ваша книга о Чехове, как и все, что Вы пишете, осиянная книга. Сейчас, когда я надолго залег в своей комнате, после целого цикла сердечных припадков, она для меня утешение и радость, – писал престарелому Зайцеву престарелый Корней Чуковский, автор своей книги «О Чехове». – Мне кажется, что она во сне светится на моих сумрачных полках... Очень обрадовала меня глава об “Архиерее”. Этот сверхгениальный рассказ для меня на одном недосягаемом уровне с рассказами “Студент” и “Гусев”. Вы первый сказали о них верное и прочное слово... И я счастлив, что мне довелось прочитать поэтическую книгу о Чехове…»
И хотя напротив зайцевских слов «Проповедничества в Чехове не было», – Корней Иванович начертал на полях энергичное «Был!» (имея в виду художественно скрытую чеховскую проповедь, о которой писал и много думал), хотя и некоторые другие его пометки, с которыми я знаком – также уточняюще полемичны, я не могу не восхищаться точностью слова, выбранного для общей оценки зайцевского труда.
Для оценки, подобранной нерелигиозным советским писателем-просветителем и детским поэтом – к труду живущего в эмиграции собрата-литератора, о творчестве которого Чуковский писал критические статьи ещё в самом начале века.
Кстати, среди синонимов к этому определению – «богозарный» и «озарённый».
Да, если бы Чуковский (или другой писатель в СССР) сумел и захотел заговорить публично о неосознанной чеховской религиозности и тоске по Богу – о чем пишет в своей книге Борис Зайцев – Корнею Ивановичу это вряд ли бы удалось.
Но, конечно, читая Зайцева, кроме мыслей о поздней чеховской просветленности, он заметил и многое-многое другое…
Вот – прямо из зайцевского труда, устами Сергея Старчикова («Клуб любителей аудиокниг»):
«Повествования свои о духовенстве Чехов начинал отцом Христофором Сирийским в “Степи”, продолжал дьяконом в “Дуэли”, кончил обликом преосвященного Петра – сам, вероятно, не сознавая, что дает удивительную защиту и даже превознесение того самого духовенства, которому готовили уже буревестники мученический венец. Чехов превосходно знал жизнь и не склонен был к односторонности, приглаживанию. И вот оказывается, если взять его изображения духовного сословия, почти вовсе нет обликов отрицательных…»
И ещё я напомню себе, что среди многих трудов Бориса Константиновича Зайцева – и книга «Преподобный Сергий Радонежский», и сборник путевых очерков «Афон», – выпущенные им в первые годы его эмигрантской жизни.
И они тоже, следует признать, осиянные.
18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.
О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).
Все выпуски программы Актуальная тема
18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».
О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.
Все выпуски программы Актуальная тема
18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.
Все выпуски программы Актуальная тема














