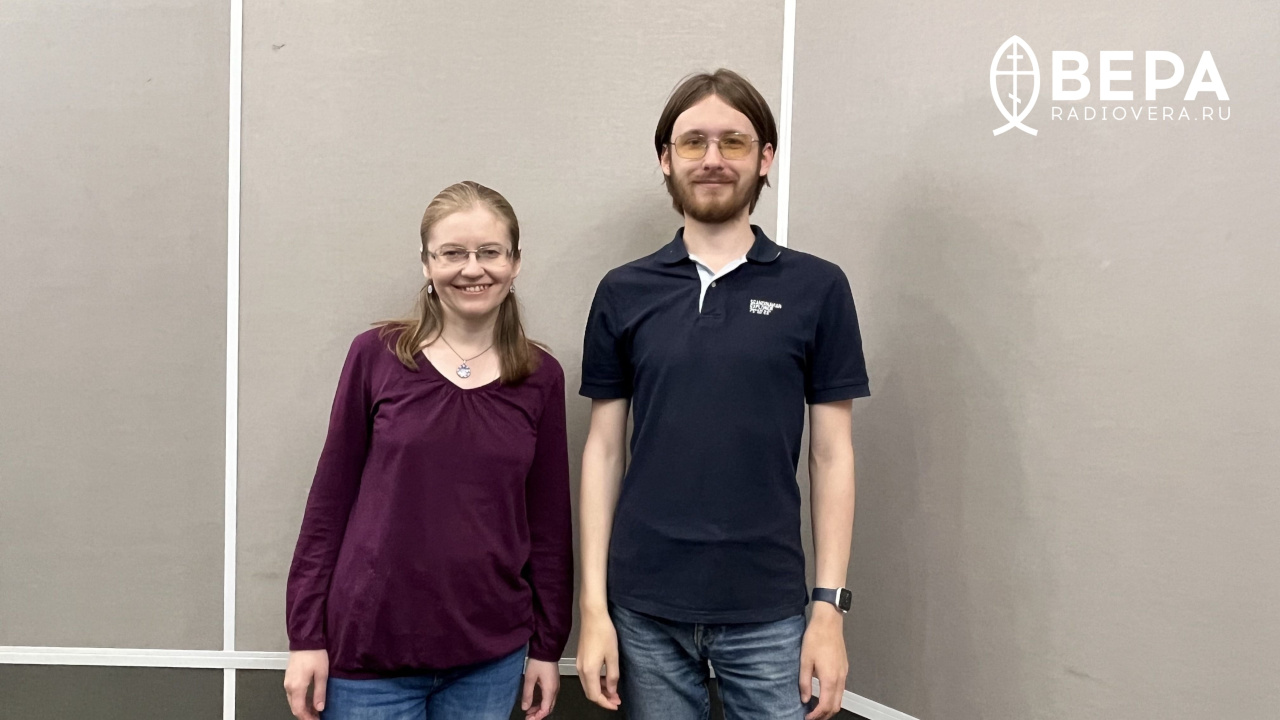
У нас в гостях были авторы православного просветительского проекта «Жизнь со смыслом» Алексей Шириков и Наталья Кокорина.
Разговор шел о том, как христианство наполняет жизнь смыслом, а также о том, как современному человеку можно интересно и доступно рассказывать о православной вере и помогать с пониманием входить в церковную жизнь.
Ведущая: Анна Леонтьева
А. Леонтьева
— Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, ребята — авторы проекта «Жизнь со смыслом». Добрый вечер, дорогие.
А. Шириков
— Добрый вечер.
Н. Кокорина
— Добрый вечер.
А. Леонтьева
— Сегодня у нас в студии брат и сестра, которые сейчас начнут нам рассказывать — для начала, наверное, прекрасное название «Жизнь со смыслом», оно уже несет в себе какую-то загадку. И давайте начнем вот с этого — что за проект, почему так называется?
А. Шириков
— Проект этот родился у нас лет уже пять-шесть, наверное, назад. Началось все с того, что когда я учился в семинарии, мне зачастую не хватало ответов на какие-то вопросы о смысле тех или иных практик, традиций.
А. Леонтьева
— Христианских.
А. Шириков
— Христианских. В самом широком смысле, но и христианских во многом. Потому что я учился в семинарии во Владимире, и там далеко не все преподаватели могли дать эти ответы, к сожалению. И мне приходилось их искать, и зачастую я их не находил. И в различных блогах, на различных сайтах видел такие ответы довольно поверхностные, в роде «так принято делать — ну вот поэтому и делайте», «кто мы такие, не нами положено — не нам менять». И поскольку мне такое никогда не нравилось — все-таки я воспитан в другой традиции, где нужно задаваться вопросами о смыслах, мы вместе с Натальей придумали проект на Великий пост и решили назвать его «Пост со смыслом», где рассказывали как раз о смыслах поста, о том, как его проводить, чтобы это было не просто традицией, а чем-то более глубоким. И вот за один Великий пост в общем-то сформировалось такое довольно-таки теплое и тесное сообщество людей, которые его проходили, и они в конце поста такие говорят: ну пост закончился, а жить-то надо дальше, мы не хотим расходиться.
А. Леонтьева
— А смысл надо искать дальше.
А. Шириков
— Да, мы не хотим расходиться. Мы такие: ну давайте продолжать. А как назовем? «Жизнь со смыслом». Вот так и родился проект.
А. Леонтьева
— А что вы вкладываете вот в это вот «жизнь со смыслом»? Какие традиции вы хотите осмысливать? И что вообще, какое содержание этого проекта?
Н. Кокорина
— Вообще, наша задумка изначальная, которая последовала, когда мы завершили марафон «Пост со смыслом» и решили продолжать, расширять этот проект, нам очень хотелось транслировать мысль о том, что очень важно христианину не делить жизнь на сакральное и профанное — это один из лейтмотивов, которые мы часто...
А. Леонтьева
— Сакральное и...
Н. Кокорина
— И профанное. Потому что очень часто мы сами себя находили, я по крайней мере находила себя в состоянии, когда вот есть я христианка — в храме там, дома перед иконами, и есть другая жизнь — на работе. И это как будто параллельные жизни, они разные. Не значит, что я, приходя на работу, пускаюсь во все тяжкие, конечно, но тем не менее это как будто разные «я». И мы видели много такого и как-то в церковной традиции тоже, вот это разделение. А нам всегда было важным транслировать как раз другой немножко посыл, что можно и важно оставаться христианином везде и осмыслять разные виды деятельности — не знаю, от каких-то бытовых вещей до, может быть, даже бизнесовых вещей, осмыслять их через призму христианства, и быть христианином, и служить Богу и людям в любом месте. Поэтому мы и в проект закладывали вот такой широкий смысл и довольно широкий охват тем с самого начала. Нам хотелось говорить, начали мы с поста, а говорить хотелось и об учебе, и о работе, и о планировании времени, не знаю, о путешествиях, и что все это можно делать со смыслом и с христианским смыслом. И о вере, конечно, тоже, но что это все пронизывает всю нашу жизнь.
А. Леонтьева
— Очень интересно. Потому что я помню, что я брала интервью в ранней юности, вот, наверное, такая же как вы, юная, и мне такая интересная мысль прозвучала —неважно, у кого брала, просто интересная мысль прозвучала, что христианин — это не из пункта, А в пункт Б, да, что вот в бизнесе я бизнесмен, а в церкви я христианин. Вот что значит христианин в бизнесе, например?
Н. Кокорина
— Но, например, для нас даже когда мы ведем свой проект, он же ведь у нас, мы ведь и зарабатываем деньги с его помощью в том числе. Или, например, у нас мастерская иконописная с мужем — это же тоже и про христианство, и про зарабатывание денег. Но может быть даже проект и не связанный какой-то непосредственно с верой. Что значит быть христианином в бизнесе? Для нас это во многом, например, про какие-то этические вопросы, про то, как мы ведем свой проект. Ну мы — я говорю, в широком смысле. Например, ведь могут быть токсичные приемы в ведении бизнеса — там навязывание, не знаю, манипуляции сознанием людей. Но для христианина, например, на наш взгляд, это неприемлемо. Причем это можно же встретить и в христианском бизнесе тоже токсичные приемы. И вот для нас как раз христианин в бизнесе — это человек, который даже в своей профессиональной деятельности рабочей опирается на христианские ценности во взаимодействии с людьми, в том, что он создает. Опять же не все сферы и ниши, например, могут быть задействованы в таком случае, потому что что-то будет противоречить, что-то разрушительное для тела или души человека не может, наверное, подойти христианину в качестве профессиональной деятельности.
А. Шириков
— Ну да, и в целом, чтобы человек понимал, что твое дело служит умножению любви так или иначе. Даже если ты там продаешь кофе, делаешь кофе — делать его с любовью. Ну это такая, мне кажется, довольно избитая мысль, но она понятная.
Н. Кокорина
— Что это несет, какую ценность это несет миру, условно, да. Если мы, например, не знаю, я вышиваю брошки, к примеру, что я делаю, для чего, это приносит ценность полезную какую-то, или я это делаю что-то, что, например, наоборот, разрушает людей, или я делаю это, условно, скажем, на отвяжись — то есть я делаю вроде бы что-то нормальные вещи, но я делаю их так, что в общем про христианство тут мало, можно сказать. Именно не напрямую о вере, а про христианские ценности.
А. Леонтьева
— Ну грубо говоря, вот бизнес, не знаю, продажа спиртного и сигарет — это не христианский бизнес?
Н. Кокорина
— Сигарет — скорее да, потому что все-таки это сто процентов про зависимость. Со спиртным будет сложнее, потому что даже в рамках литургии у нас используется, в общем-то, алкогольный напиток — красное вино, кагор. Поэтому здесь вопрос будет намного более сложный и тонкий.
А. Шириков
— И я бы здесь добавил, что еще, мне кажется, сильно здесь зависит от того, как будет выстроен этот бизнес — это будет купи-купи побольше и пей сколько тебе хочется или за осознанное потребление алкоголя. Я, насколько знаю, даже были какие-то проекты по торговле алкоголем, которые выстраивались вот на этом. Ну я не помню, конечно.
Н. Кокорина
— Другое дело — вопрос, насколько это реально сделать там коммерчески привлекательным, но это уже как бы тема, наверное, совершенно другая. Но, в целом, мне кажется, здесь все немного сложнее, чем какое-то такое стандартное клишированное деление на христианские и нехристианские профессии. Здесь важно смотреть глубже. Можно, условно, — я сейчас скажу такую мысль, которая, может быть, не сразу всем отзовется, но можно и иконы продавать, и при этом бизнес будет нехристианским. И я вижу массу таких примеров, к сожалению.
А. Леонтьева
— Почему?
Н. Кокорина
— Потому что можно, извините за выражение, втюхивать их под соусом: вот эту икону приложить туда, и она тебя спасет от всего.
А. Леонтьева
— То есть такое языческое.
Н. Кокорина
— И через бизнес, продающий иконы, продвигать абсолютно языческое, нехристианское отношение к этим святыням. И будет ли это про христианство? На мой взгляд, категорически нет. Хотя формально будет все выглядеть очень красиво и благочестиво. Поэтому здесь все очень нелинейно.
А. Леонтьева
— Но вот я по-прежнему не понимаю, что внутри этого проекта, что такое «Жизнь со смыслом», о чем это все? Хотя бы конкретно.
А. Шириков
— По факту, сейчас мы во многом сузили все-таки тему, потому что нас двое, у нас не хватает сил на все стороны жизни, поэтому мы больше все-таки фокусируемся на христианской тематике. И у нас есть сайт, у нас есть, естественно, соцсети, и они посвящены разным богословским вопросам, разным вопросам веры. И мы стараемся их как раз вот осмыслять, как мы сейчас осмысляли вопрос бизнеса — так, чтобы это были не просто какие-то поверхностные ответы, а попытаться показать, что многие вопросы, даже те вопросы, которые очень кажутся очевидными, на самом деле куда сложнее и глубже. И что нужно заглянуть, посмотреть, увидеть, как это было в истории, увидеть, как это сейчас, увидеть, что сегодня мы находимся на каком-то вот маленьком островке истории, когда привыкли к чему-то, но так было далеко не всегда. И это одна из задач, которую мы стараемся закрывать, с одной стороны, на нашем сайте — у нас есть там образовательные статьи, выходят в соцсетях посты разные.
Н. Кокорина
— Видео, да.
А. Шириков
— Видео. И, помимо этого, у нас есть закрытое сообщество, которое называется «Община online», где люди собираются, в формате подписки участвуют, и мы проводим библейские группы, изучаем Библию глубоко, делаем с ними курсы, встречаемся на планерках — они планируют вместе с Натальей месяц, подводят итоги, строят планы на следующий. То есть здесь все равно некоторая вот эта вот связь между христианством и повседневностью, мы стараемся ее оставить, чтобы это было не только про христианство. Но во многом, конечно, теоретически говорим больше про христианство. Хотя про планирование тоже — вторая важная тема.
Н. Кокорина
— Если говорить даже про «Община online», мне кажется, она у нас вот больше всего отражает эту многогранность проекта. Потому что там у нас в рамках экосистемы и сообщества есть такой форум в Телеграме — это, в общем, инициатива участников была в том числе, где есть подтемы под самые разные сферы жизни. Там есть книжный клуб, семейный клуб, спортивный клуб, в общем, какой-то организационный клуб. То есть люди приходят туда — и это запрос был именно от участников, им важно иметь возможность с единомышленниками обсуждать все стороны своей жизни — рабочие, бытовые, всякие разные. Но если говорить про сам проект «Жизнь со смыслом», помимо «Общины online», то сейчас у нас на сайте это написано так, что образование и саморазвитие для христиан, которым важен осознанный подход к вере и жизни. Вот примерно так это сейчас выглядит — то есть это про образование и саморазвитие в широком смысле этого слова. Наверное, так.
А. Леонтьева
— Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, ребята — авторы проекта «Жизнь со смыслом». Когда вы говорите эти слова «экосистема», «община онлайн» — для меня это, вот как для представителя старшего поколения — это что вообще? Это община будущего?
А. Шириков
— Если говорить про «Общину online», то это мы ее видим как создание безопасного пространства для тех людей, кому этого пространства не хватает в тех храмах, куда они ходят, в семьях, где-то еще. В семьях, может, хватает, но в храмах, допустим, не хватает. Это в общем-то мы стараемся делать все то, что, по идее, должно быть на приходе — помимо Евхаристии, помимо литургии. Потому что, конечно, онлайн мы Евхаристию...
А. Леонтьева
— Пока не надо.
А. Шириков
— Да, но горизонтальные связи, общение между людьми, изучение, погружение в смыслы — все это как бы, в идеале, оно должно быть в любой общине. И когда человеку этого не хватает, он может найти это онлайн, и мы стараемся этот пространство создавать. Технически это чаты и образовательные различные материалы, которые расположены на нашей площадке.
Н. Кокорина
— Личный кабинет на сайте у них есть с материалами, где собирается уже сейчас огромная библиотека материалов им доступных. Мы с ними еще взаимодействуем, соответственно, по почте, уведомляем о каких-то важных вещах. И у них для общения, у нас у всех, собственно, участников общины, есть это не совсем даже Телеграм-чат, он разбит на темы, поэтому он как форум выглядит. И там довольно активная жизнь происходит, люди между собой общаются по разным интересам, приходят друг к другу, просят поддержки, молитв. Даже есть уже, спустя время — община существует уже три года, мне кажется, если не четыре, наверное, и они уже самовыдвиженческие инициативы проводят всякие. Например, они вечерами, бывает, собираются в Зуме для совместной молитвы.
А. Шириков
— Не просто бывает, они регулярно собираются.
Н. Кокорина
— Да, почти каждый вечер собираются. Не все, конечно, не все сто с лишним человек, а желающие. Они там проводят книжные клубы, встречи, проводят разные другие активности.
А. Шириков
— Планы библейских чтений составляют на разные периоды, по разным темам. Обсуждают, соответственно, эти чтения. Ну то есть на самом деле, когда я учился в семинарии, у меня сложилось впечатление, что вот идеально было бы создать это на приходе. Но поскольку я не рукоположился, и я выбрал путь создания этого онлайн. И поначалу было все равно сомнение: ну онлайн, насколько это вообще возможно? И вот мы лицом к лицу сейчас, мы видим друг друга, мы больше друг друга понимаем. Но все-таки, может быть, чуть сложнее, но онлайн это все-таки тоже возможно. И это прямо мы хорошо видим, потому что безопасность ощущается, и это рождает инициативы, рождает вопросы, рождает интерес, и это очень радостно.
А. Леонтьева
— Ну вот вы два молодых человека, наверное, живете церковной жизнью, и у вас есть, соответственно, община, куда вы ходите, свой приход. Вот там вы проводите такую же деятельность?
А. Шириков
— Да, конечно, там тоже. Но не все могут приехать на этот приход.
Н. Кокорина
— Просто участники онлайн-общины у нас, они со всего мира — у нас есть и из Америки, и из Германии. В общем, реально со всего мира, довольно большая география. Понятно, что на приходе у нас тоже есть община и, собственно, с этого мы начинали. Потому что проект существует с 2019 года, онлайн-проект. А на приходе — у нас отец священник, и вот его перевели туда, по-моему, в 2012 году.
А. Шириков
— В 2011-м.
А. Леонтьева
— Куда?
Н. Кокорина
— Это под Владимиром, микрорайон Юрьевец рядом, в городе Владимире, храм Всех святых земли Владимирской. И вот с тех пор мы вместе с ним, собственно, занимаемся развитием общинной жизни на приходе тоже, с разной степенью интенсивности. В ковид, конечно, все сильно проседало, сейчас оно оживляется. Ну да, несомненно, это тоже очень много значит.
А. Леонтьева
— Но в ковид, как раз вы накануне ковида и создали эту общину онлайн, как чувствовали.
А. Шириков
— Да.
Н. Кокорина
— И нам, кстати, писали люди. У нас, получается, второй великопостный марафон был в 2020 году. То есть 2019-м — первый, а в 2020-м — и это был первый ковидный Великий пост. И нам очень многие люди писали, я помню, обратную связь, что как для них это оказалось важно, когда именно на тот Великий пост большинство храмов позакрывалось, и что они не потерялись в посте, что они прямо физически ощущали вот эту опору. Мы сами не ожидали, если честно, что для стольких людей, потому что у нас даже какие-то были сомнения, там еще что-то. И нам люди писали, как им это важно, что вот мы не свернули это, что мы продолжили. И это было невероятно конечно, поддерживающе.
А. Леонтьева
— Ну да, я вспоминаю вот эти странные картинки, когда люди выкладывали свои видео в социальных сетях, как они — в храмы не пускали, идет служба в храме, стоят на расстоянии там несколько священников, и там человек сидит дома с книжками и как бы следит за службой. Это, конечно, был какой-то вообще уникальный период. Я знаю, что вот я обещала задать каверзный вопрос, и я его задам. Я знаю, что какие-то продукты, наверное, так можно сказать, вы продаете. Вот насколько этично вообще, продавать христианские знания?
А. Шириков
— Ну раз мы это делаем, наш ответ, наверное, очевиден — мы не видим в этом противоречия с этикой. И тут, с одной стороны, мы можем опираться и на Священное Писание. Апостол Павел сам, конечно, денег не брал и старался зарабатывать другим трудом, но при этом он сам же в своих посланиях довольно убедительно аргументирует, что тот, кто трудится, достоин пропитания. И если я посею среди вас духовное, разве это много, если я пожну с вас материальное, говорит он. Дальше он, конечно, говорит, что я-то решил отказаться, но он говорит, это мой добровольный выбор, чтобы это было как бы сверхдолжным. Соответственно, вот из его рассуждений мы уже видим, что если человек распространяет что-то, связанное с верой, он может брать за это деньги. Тут дальше другой вопрос — скорее форматов опять же. И у нас в Церкви как-то привычно, что скорее всего за пожертвование. Но вот нам как раз этот формат скорее не близок, потому что в нем иногда, не всегда, но иногда бывает какая-то манипулятивность: вроде бы бесплатно, а вроде бы если ты что-то не внесешь, ты все равно не можешь попасть — и это и не бесплатно, и не за деньги. Это первая сторона. А вторая сторона, почему мы еще для себя выбрали именно эту модель? Вторая сторона в том, что люди не ценят бесплатно зачастую. И в этом мы очень хорошо убедились. Видим даже вот по марафонам Великого поста. Мы их проводим в двух форматах: у нас есть бесплатный для всех желающих и есть платная часть. В бесплатном марафоне до конца доходит из тысячи участников 50−60. В платном из 200 — ну не 200, но 150. Люди, вкладываясь, сами же больше получают, чем когда они не вложились ничем.
Н. Кокорина
— Плюс мы довольно много — я особенно люблю эту тему, погружаться в изучение мотивационной системы вообще, как это работает, потому что для веры это тоже же очень важно: на одних волевых и самонасилии долго не продержишься. И в целом мотивационная система у человека так работает, что чем больше мы вкладываем, тем больше мы ценим и лучше отрабатываем то, что мы берем. Я на себе, тут вообще, что греха таить, как я сама, например, подхожу к тем программам обучающим, которые мне вот задаром достаются и, например, если я в это что-то вложила, в том числе свои деньги — это небо и земля, несомненно. Да, конечно, есть более дисциплинированные люди, я тут не эталон, но тем не менее мы видим, что вот платность в том числе — это не единственный инструмент, конечно, который мы используем для поддержания мотивации, и сейчас мы много над этим работаем с самых разных сторон. Но ведь наша цель, чтобы эти знания, которые люди берут, они меняли их жизнь по возможности. Не просто вот что-то послушал, какую-то книжку купил, на полочку поставил, а читать — это уже как бы сверхзадача. А чтобы эти знания, они как-то в жизнь прорастали. И действительно, опыт показывает, что здесь платность такая, разумно оправданная, да, чтобы это были не слишком маленькие, но и не слишком, чтобы были посильные вложения какие-то, она в том числе полезна и людям. Но, конечно, мы не будем лукавить, это важно и для нас. Потому что в целом содержание проекта, оно мало того, что нам самим нужно на что-то жить, потому что, чтобы полноценно этим, качественно заниматься, совмещать еще с чем-то довольно сложно. Плюс содержание техническое требует довольно немалых вложений — всех площадок там, оборудования и так далее. Поэтому нам кажется, это оправдано. И дальше уже вопрос того, как это продается, за сколько. Здесь, конечно, момент всегда тонкий, сложный, и каждый раз мы, в общем, прорабатываем эту тему снова и снова. Она дается нам не очень просто, прямо даже не будем лукавить, но тем не менее наша позиция, что да, это этично.
А. Шириков
— Ну еще я бы заметил здесь немного с исторического ракурса. Мы сегодня привыкли к тому, что в церковь приходишь — и как бы ты просто пришел, постоял и можешь уйти, ничего не оставив. Но это же тоже безответственно. Это безответственно по отношению к пространству — потому что кто-то заплатил за электричество, кто-то заплатил за разные услуги, которые ты получил просто так. И если мы посмотрим в историю, то ведь нормальной практикой была десятина для тех, кто приходит, кто регулярно участвует в общинной жизни. Потому что, а) это формирует ответственность в самих людях, б) Церкви нужно на что-то существовать, нужно на что-то жить. И поэтому, когда мы выстраиваем вот это онлайн-пространство, мы, в принципе, идем по такому же принципу. Да, у нас есть люди, которые не платят, то есть единицы, в редких случаях мы...
А. Леонтьева
— Например, многодетные семьи какие-нибудь, вы делаете?
А. Шириков
— Да, мы идем навстречу. То есть нам можно писать на почту, рассказать ситуацию и, конечно, мы идем навстречу. Но при этом как бы в остальном мы выстраиваем по тому принципу, который я сейчас описал. И тут еще тоже я хотел заметить одну важную вещь, что мы не позиционируем свой проект как миссионерский. Потому что, наверное, в миссионерской стороне, там невозможно брать деньги с тех, кто еще не видит ценности в этом. А мы позиционируем все-таки больше образовательный.
Н. Кокорина
— И просветительский.
А. Шириков
— Да, и просветительская часть у нас во многом — это открытая информация на сайте, хотите — там довольно много статей и видео, и мы их постоянно дополняем. Уже образовательная сторона — ее без вложений невозможно реализовать.
А. Леонтьева
— Ну вот вы молодые люди. Откуда вы берете столько знаний, чтобы в том числе и зрелые люди, да, шли и получали их от вас? Замолчали.
Н. Кокорина
— Мы постоянно учимся. Мы постоянно, мне кажется, что-то изучаем. И более того, ведь у нас, мне кажется, нет такой позиции, что мы все знаем. Вот, это важно.
А. Шириков
— Я думаю, что это ключевая сейчас задача.
Н. Кокорина
— Да. Вот я сейчас подумала, ведь дело не столько в знаниях, невозможно знать все. И тут даже возраст не определяющую, мне кажется, роль играет. Потому что основной наш посыл, наш девиз вообще, нашего проекта: «У кого нет вопросов, тот сам под вопросом» — это слова нашего покойного ныне митрополита Евлогия (Смирнова), который долгое время был владыкой у нас во Владимире. И нам очень нравятся эти слова. И, в принципе, это тоже один из наших таких важных посылов — научить людей и самим научиться задавать вопросы, в том числе самим себе. Не бояться это делать, и не бояться самостоятельно искать ответы. И наша задача — не дать людям все ответы готовые, потому что это невозможно. Даже если я, допустим, глубоко погружена в тему богословия иконы, христианского искусства, я все равно не знаю ответы на все вопросы, особенно наизусть. Но научить мыслить, научить самим искать, не бояться принимать решения, брать на себя ответственность, делиться опытом. И за счет того, что мы делимся, по сути, опытом, и делимся тем, что мы, насмотренностью. И за счет еще такого явления, которое мы называем взаимоопылением — это как раз уже сила сообщества так работает. Мы это очень четко видим, с каждым годом все больше.
А. Леонтьева
— То есть люди приносят тоже свои знания вам.
Н. Кокорина
— Да, не столько даже знания, а опыт. Это немного другое даже. Когда каждый делится своим живым, какими-то своими историями, как они чувствуют. За счет того, что пространство безопасное, они не боятся говорить правду. Не то, что там, да, я вот там пощусь, молюсь, и все правильно. А они приносят и боль, и то, что у них не получается, они не боятся. И это очень расширяет горизонт, снимает страхи. По моему личному опыту как будто даже вера живее, вот для меня лично, становится. И цель у нас вот такая, то есть не дать все знания в готовом виде. Конечно, у нас много образовательных материалов, и мы стараемся собирать и как-то аккумулировать. У Алексея вообще талант...
А. Шириков
— Систематизировать, конечно.
Н. Кокорина
— Систематизировать знания. Вот такой объем компактно разложить так, что он ляжет в голову совершенно прекрасно. Но всё все равно узнать невозможно, а жить как-то надо.
А. Шириков
— Я еще здесь замечу, что вот один из таких самых популярных сейчас форматов внутри сообщества — это библейские группы. А что такое библейская группа? Это ведь не лекции совсем. Это тогда, когда я, как ведущий, организую пространство, где каждый участник может свободно высказаться, безопасно высказаться по поводу того, как он видит и прочитывает тот или иной библейский текст. Моя задача, как ведущего, привнести туда что-то, что я знаю — благодаря греческому языку, благодаря библеистике, закинуть какие-то идеи. А дальше большую часть встречи говорю не я. И, собственно, создавая это пространство, дальше уже люди в нем находятся, им это ценно. Понятно, что им ценно и то, что, скажем, я вбрасываю, но друг от друга они получают зачастую не меньше.
Н. Кокорина
— И мы от них, кстати, да.
А. Леонтьева
— Кстати, напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, ребята — авторы проекта «Жизнь со смыслом». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
А. Леонтьева
— Продолжается программа «Светлый ветер». У нас в гостях Алексей Шириков — теолог и Наталья Кокорина — художник-реставратор, авторы проекта «Жизнь со смыслом». У микрофона Анна Леонтьева. Вы знаете, я о чем подумала. Вот вы говорите, библейские сообщества, прочитывать Библию можно очень по-разному. Но мы, наверное, уже точно знаем, что просто в одиночку прочитать текст Библии — это такое занятие, можно сказать, даже немножко опасное, потому что там столько противоречий, там столько непонятностей. Я помню, что вот моя знакомая однажды прочитала, просто решила: вот я возьму и прочитаю сама, одна. И она с такими глазами ко мне вышла, она говорит: у меня много вопросов. То есть на самом деле все это нужно каким-то образом расшифровывать. Вот откуда вот это у вас, как вы это прочитываете?
А. Шириков
— У меня теологическое образование, и я заканчивал магистратуру по специальности «Христианские источники» — соответственно, это азы библеистики были. Я не могу сказать, что я прямо полноценный библеист, чтобы знать там древнееврейский свободно, но я представляю, как это устроено, представляю, как это работает, представляю, куда посмотреть. И вот на это стараюсь показывать людям в том числе. И, поскольку у меня семинарское образование, я понимаю, что внутри традиции, что далеко от нее, и могу тоже это подсветить. Но при этом тоже стараюсь, чтобы это не было так, учительским тоном, а просто именно подсветить — что вот, да, традиция показывает так. Да, вы можете думать по-другому, конечно, но вот есть традиция, и посмотрите и на нее тоже.
Н. Кокорина
— Плюс, мне кажется, мы стараемся показывать разные грани. То есть очень часто же у одних и тех же, например, фрагментов Писания или, если мы возьмем шире, там какой-то богослужебной практики, личного благочестия, тех же образов может быть много разных прочтений. И мы стараемся — ну все показать зачастую тоже невозможно, но показать, что они бывают разными, и это нормально. И чтобы люди тоже не боялись, понимали: а куда посмотреть, а как? А как можно на ту же икону, например, посмотреть по-разному, а не только вот как в какой-нибудь упрощенной брошюре или статье написано: вот только так, а не иначе, — что все намного глубже, сложнее и интереснее. И в этом красота, и красота и христианства в целом.
А. Шириков
— И я дальше слово говорил «традиция», на самом деле — «традиции», и их тоже в христианстве довольно много.
А. Леонтьева
— Вот уже мы знаем про вас, что у вас отец священник. Он как-то участвует в этом проекте и как-то делится своими знаниями?
А. Шириков
— Мы несколько раз приглашали его и на библейские группы, и в целом он, конечно, поддерживает наш проект. Но в целом прямо активно — нет, потому что ему сложновата публичная деятельность, он привык все больше в тени находиться.
Н. Кокорина
— Мы его приглашали еще на сессии вопросов — ответов. У нас иногда бывают такие видео-встречи, которые называются прямо «Вопрос — ответ». Люди приносят накопившиеся какие-то вопросы, переживания, и вот бывает важно им, чтобы мы пригласили еще нашего папу, поскольку он священник, и в целом мы много о нем говорим.
А. Леонтьева
— Ну да, это же какой-то авторитет.
Н. Кокорина
— И авторитет, да. И плюс через нас опосредованно они как бы его знают, доверяют. Поэтому мы, бывает, его зовем, но в целом он любит оставаться больше в тени. Плюс он очень загружен, конечно, другими своими задачами, поэтому сильно мы его не втягиваем, но периодически. И, конечно, он всегда в курсе того, что у нас происходит, потому что у него и просто нет выбора — мы же ему все рассказываем.
А. Леонтьева
— Вот это вот очень интересно: мы ему все рассказываем — это не так часто случается в семьях. Вот я хотела спросить у вас, такой личный вам задать вопрос, что такое быть сыном, дочерью священника — это вот как-то меняет жизнь, это как-то накладывает отпечаток вообще на жизнь?
А. Шириков
— Я в семинарию поступил — это наложило на меня отпечаток. Ну как, я не могу сказать, наверное, если говорить о религиозном воспитании, то, конечно, накладывают отпечаток. Потому что мне всегда это было интересно, я видел, как отец служит, мне всегда хотелось ему помогать, всегда хотелось быть рядом. Но я думаю, что в большей мере здесь даже сказывается то, что воспитание происходило в духе любви. И это бывает иногда и не в христианских семьях.
А. Леонтьева
— Конечно.
А. Шириков
— А бывает, этого нет в христианских семьях. И я думаю, что это оказало более такое решающее значение. Потому что опять же я все-таки теологически считаю, что там, где есть любовь, там есть Христос. Поэтому даже если это в нехристианских семьях, это все равно следы христианства. Но вот благодаря тому, что такое воспитание у нас было, опять же почему мы не боимся задавать вопросы? Потому что нас за них не ругали. Почему мы ищем каких-то глубоких смыслов? Потому что отец не давал, и родители в целом, да, не давали нам удовольствоваться какими-то простыми, примитивными ответами, пытаясь их всегда поставить под сомнение. И это очень важный процесс, и вот этим процессом хочется делиться дальше, расширять его.
А. Леонтьева
— Наташа, а вы что скажете?
Н. Кокорина
— Да, что значит быть дочерью священника? У нас с Алексеем немного разный здесь опыт. У нас же большая разница в возрасте, и папа не всегда был священником, и священником он стал, когда я уже была в довольно сознательном, мы вместе приходили к вере, я и мои родители. Алексей был совсем-совсем маленьким еще. И я помню этот рубеж. Просто я помню этот рубеж — да, меняется жизнь. В каком смысле ты становишься очень сильно на виду. Вот эта разница есть. То есть мера ответственности, наверное, каждый ощущает это по-разному. Но мы, я на себе это четко ощутила: что ты просто девочка Наташа, которая ходит в храм, а теперь ты дочка священника, по поступкам которой будут еще и судить о твоем отце. Ну а мне не хочется своему папе делать плохо и усложнять жизнь. Поэтому в этом отношении, конечно, да, жизнь меняется. А в остальном мне всегда было это очень все интересно, я очень поддерживала это, поэтому для меня это было, в общем, приятной переменой, несомненно. Но груз ответственности ощутился почти физически.
А. Леонтьева
— Да вы что.
Н. Кокорина
— Да. Мне было, когда папу рукоположили, мне было пятнадцать.
А. Леонтьева
— Ну то есть уже сознательный возраст, причем подростковый.
Н. Кокорина
— А к вере мы приходили, где-то я лет с двенадцати. Мы вместе с родителями, прямо одновременно во все это вникали, осваивали. Мне лет 12 было. Причем меня за уши в рай никто не тащил, не заставлял. Но просто действительно это был такой совместный процесс. Мы там изучали, читали с папой книжки, друг за другом проверяли, кто как по-церковнославянски ошибки делает — это было невероятно увлекательно. Поэтому сам процесс мне нравился. Когда он стал священником, стало еще интереснее. Можно теперь еще и помогать на службе. Но да, но теперь на тебя все смотрят. Все, что ты сказал, сделал, тебе важно не подвести. Ну мне важно было. Это да, это, конечно, есть такой момент.
А. Леонтьева
— Как интересно. А вот с чего начался вот этот вот поворот, приход вас как троих, да, к вере?
Н. Кокорина
— Ну да, потащили за собой Алексея. Ну у него интереснее в этом плане, он маленький еще был. Не было никаких, у нас в этом смысле можно сказать, довольно скучная история, потому что у нас не было никаких потрясений. Не знаю, там что вот шарахнуло что-то, и вся жизнь перевернулась. Нет, это был очень плавный процесс. Мы с мамой были крещеными, и папа был неверующим, некрещенным абсолютно человеком. И крестился он в младенчестве Алексея вместе с ним, и это было его сознательное решение. Мы все очень удивились, потому что до этого он был категорически против креститься. Он говорил, что нет, я не верю, это будет кощунство. Потом он вдруг, что-то, видимо, к этому времени в голове поменялось. Я знаю, что он читал от корки до корки Библию. Я знаю, что сильно довольно на него повлияла книга в свое время «Отец Арсений», как-то на его сознание. Но, в целом, мне кажется, это был очень постепенный какой-то процесс размышлений. Потому что у нас в целом родители очень думающие, очень ищущие, и нравственно вот они... Он вот как был, так и остался, да, мне кажется, он всегда был таким очень человеком. Но именно вот в плане убеждений — да, просто плавный какой-то переход. И потом, после крещения прошло еще какое-то время, папа стал больше интересоваться, мы следом за ним тоже. Потом раз в храм сходили, два, потом в воскресную школу. И вот так постепенно, постепенно. А потом от воцерковления до хиротонии буквально там, по-моему, три года всего прошло. Довольно быстро все это происходило. И вот мы уже семья священника — опа. Ну да, это было увлекательно, что я могу сказать, очень интересно и незабываемо.
А. Леонтьева
— Потрясающе. Алексей, вот вы молодой человек, который, получается, уже выросли в такой церковной среде. У вас были сверстники, которые ходили с вами, наверное, в воскресную школу, да, и вот это ваши друзья, они как-то по жизни с вами? Вот я почему задаю этот вопрос, потому что человек, молодой человек, который вот ходит в церковь, а потом он переступает порог и идет уже во взрослый мир. И во взрослом мире, как мы знаем, его ждут не только верующие люди, очень большое количество. Ну вы пошли уже сразу учиться на теолога. Но вот эта ваша как бы компания, которая с вами была, она с вами остается?
А. Шириков
— Ее почти не было.
А. Леонтьева
— Ее почти не было.
А. Шириков
— Дело в том, что да, у нас очень дружная семья, и мне в целом всегда этого практически хватало. Я всегда был очень взрослым, как мне говорят, и мне было интереснее с теми, кто старше меня. Я учился в светской школе, соответственно, и у меня там все было нормально, я общался с одноклассниками, но я не могу сказать, что я с кем-то прямо сильно сдружился так, чтобы общаться после школы. С учителями я, скорее, сдружился, с учителями я иногда общаюсь до сих пор.
А. Леонтьева
— До сих пор, да?
А. Шириков
— Да. А в семинарии, даже в семинарии на самом деле мы мало с кем сдружились. Потому что многим людям в целом нормально, когда дают какие-то ответы, и все, и ты с ними идешь дальше. Мне этого было недостаточно, и я, скорее, сдружился уже в магистратуре, в Москве здесь. И после магистратуры у меня остались друзья. А так вот с самого детства — практически нет, чтобы вот кто-то...
Н. Кокорина
— Скорее знакомые, да?
А. Шириков
— Знакомые — да. Друзья — нет.
А. Леонтьева
— Слушайте, вот интересно, а учителя, с которыми, вы говорите, я скорее с учителями дружил, они задавали вам какие-то вопросы, зная, что вы сын священника на религиозную тему?
А. Шириков
— Да, бывало, бывало.
А. Леонтьева
— Приходилось просвещать?
А. Шириков
— Да. И это на самом деле, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, я понимаю, для себя отчасти опасная ситуация.
А. Леонтьева
— Молодой проповедник, да?
А. Шириков
— Да, когда ты все-таки 17−18 лет, это же еще весьма такой максималистский возраст, и ты как раз тогда знаешь ответы, ты понимаешь, что правильно, ты учишь. Я, благодаря образованию в семинарии и магистратуре, в общем-то ушел с этой позиции. Наоборот, стараюсь не учить, потому что один у нас Учитель. Но в школе — да, задавали вопросы, конечно. Я очень много спорил с одноклассниками, очень много с атеистами-одноклассниками спорил. Так что это было интересно.
Н. Кокорина
— Даже мне задавали, как только мы пришли к вере — у меня-то опыт был, по сути, год я в Церкви, и то учителя. Это действительно опасная ситуация. Потому что в период неофитства ты знаешь все, ты во всем разбираешься — ну ощущение, что ты познал все. И сейчас всех срочно научишь, да, и причинишь добро. Да еще в 14−15 лет — это же возраст, когда кажется, что ты понял жизнь. И я тоже вот вспоминаю, что учителя, в особенности учителя, даже не столько одноклассники, мне кажется. И сейчас понимаю, насколько это была небезопасная ситуация.
А. Леонтьева
— Напомню, что сегодня с нами с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, авторы проекта «Жизнь со смыслом». Давайте еще поинтересуюсь у вас, на какие вопросы все-таки конкретно мы можем получить ответы вот в вашем проекте, кроме прочтения Библии?
А. Шириков
— С одной стороны, немного неожиданный вопрос...
Н. Кокорина
— Давай я попробую.
А. Шириков
— Давай, ты попробуй.
Н. Кокорина
— Мне кажется, мы сейчас стараемся по возможности охватить весь спектр церковной жизни и личного благочестия — то есть, что значит быть христианином, но именно применительно к основе веры. Жизнь в храме и личное благочестие, но это так или иначе связано с верой. Мы даже вот, собственно, последняя наша разработка — в смысле не последняя, но последняя из того, что мы сделали, задумок-то у нас много, она так и называется — «Путеводитель по Церкви», потому что мы там как раз охватываем довольно широкий спектр, не во всех мельчайших деталях, в целом. И материалы на сайте у нас тоже охватывают и о богослужении, о молитве, об иконах, о устройстве храма, о том, как вести себя в храме и за его пределами, вообще в целом, как участвовать в таинствах. То есть все основные вопросы, которые начинают волновать людей, приходящих в храм, либо давно находящихся в храме, но, например, желающих глубже в чем-то разобраться.
А. Шириков
— При этом я замечу про эти материалы тоже, что я сам слушаю и думаю: ну что уникального, вот эти материалы, как вести себя в храме? На каждом же сайте есть. Но и я долго очень сопротивлялся тому, чтобы писать такие статьи. Потому что как бы, ну не мне же, теологу, писать о таких примитивных вещах. Но проблема как раз, которую мы часто видим, в том, что часто подается вот все это благочестие под видом того, что это так и никак иначе, заповедь Божия, храни, иначе там просто...
Н. Кокорина
— Законы.
А. Шириков
— Ну или просто, да, вот войдя в храм, нужно три раза перекреститься. И человек, который только начинает знакомиться, у него может сложиться ошибочное впечатление, что если он это не сделает — он совершит какой-то грех, что это будет плохо. И именно поэтому мы, когда эти тексты писали, я писал, я старался в этих текстах использовать другие формулировки. И в этом, собственно, я вижу некоторые их отличия. Не «нужно» перекреститься, а «принято» — более мягко, потому что это же все человеческое, это все меняется. И вот это вот даже для начального уровня хотелось сразу подчеркнуть.
А. Леонтьева
— Наташа, вот не могу не спросить, поскольку вы старшая, как выяснилось, сестра, хотя никогда этого не скажешь. Когда родители пришли к вере, когда папа стал священником, как-то изменились семейные традиции, какие-то вот такие вот, жизни внутри семьи?
Н. Кокорина
— Жизнь, конечно, менялась, но не столько с тем, как он стал священником, с этого момента, а сколько с того момента, как мы стали активно жить церковной жизнью. Потому что, понятно, в нашу жизнь вошли посты, праздники, молитвы, чтение Священного Писания — то есть вот все, что довольно обычно и понятно. Плюс мы прошли путь классических неофитов, с радикальными постами — просто когда, как я уже сказала, все всё знают и знают, как правильно, и нужно все по максимуму делать, прямо убиться, но сделать. В этом смысле — да. Но в смысле в плане формирования каких-то прямо вот традиций, как бывает, вокруг праздников каких-то — с этим сложнее, потому что папа довольно быстро стал священником, и весь фокус нашей жизни переместился на то, чтобы помогать ему на приходе. И, честно сказать, на домашние традиции уже ни времени, ни сил зачастую не оставалось.
А. Леонтьева
— Это очень часто так говорят.
Н. Кокорина
— И до сих пор у нас очень часто, к Пасхе мы сами в этом году даже яйца не красили. Ну то есть нам, понятно, дают, угощают. Но нас на это просто не остается. Иногда мы по этому поводу чуть-чуть грустим, но в целом просто такой сейчас расклад. Вот так, да.
А. Леонтьева
— Алексей, вот вопрос, наверное, бесполезный, но все равно его задам. Потому что очень многие люди, которые выросли в семьях верующих людей, уходят в подростковом возрасте или позже в некий духовный поиск, в бунт. У вас такого не было?
А. Шириков
— Можно сказать, что было отчасти. Но это был не бунт против христианства, это был, скажем так, бунт внутри христианства.
А. Леонтьева
— Так.
А. Шириков
— И это, на мой взгляд, сыграло довольно хорошую роль. Потому что опять же вот Наталья сейчас сказала про период неофитства. Конечно, он не затянулся до моих там 16−18 лет.
Н. Кокорина
— Да практически. Твой бунт помог нам выйти из этого периода, он взболтал нас всех.
А. Леонтьева
— Как это? Расскажите.
Н. Кокорина
— Это было очень важно.
А. Шириков
— Я начал учиться в семинарии и, соответственно, начал системно задаваться всеми вопросами о том. Во-первых, я прочитал системно апостола Павла и подумал: а что вообще, почему мы вообще ничего не делаем из того, что он говорит? Сказано одно, а мы делаем другое. Сказано, что день ото дня не имеет отличий, а мы почему-то в воскресенье празднуем, а в понедельник не празднуем. Если день ото дня не имеет отличия, какая разница? И выяснилось, что этими вопросами в нашей семье в общем-то никто не задавался еще. Тоже, наверное, прочитали Писание, но вот так вот детально, въедливо не было. Ну отец все-таки в семинаре не учился, он же, получается...
Н. Кокорина
— Заочно только.
А. Шириков
— Заочно, да, заочно проучился. Он больше по святым отцам, а святые отцы, они такие вопросы зачастую не задавали. Они больше тоже в рамках традиции описывали все, потому что уже прошли через этот период. И я, соответственно, задавался этими вопросами, и я помню, что мы с папой постоянно спорили, спорили, спорили. Спорили за семейными ужинами, нужно поститься или не нужно. Нужно священникам вот эти странные облачения или не нужно. И вот то есть у меня не было никогда бунта против христианства, против Бога, но вот внутри он был.
Н. Кокорина
— Я называю этот период — период «шатания скреп». Он шатал скрепы так, что просто пар из ушей валил. Потому что у нас есть такая традиция, что мы все, кто в доме, собираются за ужином всегда. Всегда так было, и до сих пор так есть, кто живет в одном доме, Алексей просто отдельно сейчас живет. И обсуждают, все там обсуждают, что за день произошло и так далее. И вот эти ужины обычно — это несколько лет длилось, мне кажется, они превращались просто в такие баталии, когда...
А. Леонтьева
— Класс!
Н. Кокорина
— Да, пар из ушей. Они спорили, мама переживала. Я пыталась всех урегулировать и найти правду и там, и там. И это было очень драматично, это было на самом деле очень страшно местами. Но я сейчас понимаю ценность этого периода. Без этого мы бы не были такими, как сейчас. Это не значит, что мы такие замечательные, но нам интересно то, что есть сейчас. И нашего проекта, мне кажется, не было бы без этого бунта. И поэтому я очень благодарна за этот период, что у Алексея хватило выдержки и смелости. И нашим родителям, которые все это приняли, папа поменялся. Ну то есть Алексей поменял всех нас в какой-то мере. И то, что родители открыты были меняться через детей — для меня это вообще фантастика, если честно.
А. Шириков
— И на самом деле здесь тоже интересная такая вещь произошла. Потому что, с одной стороны, казалось бы, да, у меня был бунт против традиции, но отчасти благодаря диалогам, благодаря поиску, я пришел к тем ответам, которые мне казались в какой-то момент удивительными и необычными. А потом я поступаю в магистратуру — и нам начинают преподавать эти ответы. И вокруг меня для многих эти ответы необычны, а я такой: ну так я же об этом думал месяц назад. Это было очень интересно. Вот именно в этом диалоге родилось очень много важных ответов и осмыслений. Не во время учебы. Может быть, поэтому отчасти мы и в своем проекте ставим больше акцента на общении, а не просто на преподавании.
Н. Кокорина
— И при этом не было такого, мне кажется, бунта, когда вот... То есть ты-то всегда тоже слышал там меня, папу — то есть вот это был именно диалог. Это не было такого, что вот он там изливает свой негатив какой-либо, там свои какие-то мысли, и глухой к остальным. Нет, это именно была попытка услышать друг друга. Она была сложной, прямо скажу. Это было сложно, это было очень драматично, да. Но этот период, я сейчас понимаю, был очень нужен.
А. Леонтьева
— Как бы вы рассказали о том, почему ваши родители вот сохранили в вас веру? И этот, как вы говорите, бунт не пошел дальше, против именно такой вот церковности, православия, как в общем тоже бывает?
Н. Кокорина
— Ну как по мне, они никогда не заставляли нас. Я могу сейчас сказать, что во мне довольно сильный дух противоречия — чем больше меня заставляют, тем больше мне хочется сделать наоборот обычно. И они нас никогда не заставляли. Нам всегда давали... Переживать — переживали. Было видно, что если там что-то мы делаем не так, как они считают нужным, что их это расстраивает. Но чтобы давить, заставлять...
А. Леонтьева
— В церковь ходить в воскресенье утром?
Н. Кокорина
— Нет, никогда, конечно.
А. Шириков
— Невольник — не богомольник. Девиз моего папы.
А. Шириков
— Да, девиз папин: «Невольник — не богомольник».
А. Леонтьева
— Вы сами вставали?
Н. Кокорина
— Ну да. Нет, нас могли, например, если я прошу меня поднять, но я сама там просыпаю, меня могут поднять, могут даже на меня сверху воды полить, да. Но сказать мне: иди, если я скажу, что я не хочу — нет. Или если Алексей там не хочет. Да, невольник — не богомольник, папа так и говорил. И все.
А. Леонтьева
— А вы сами вставали? Вот хотелось вставать в церковь в воскресенье? Единственный день, когда...
А. Шириков
— Честно говоря, я очень плохо помню этот период. Ну да, мне было интересно. Понимаете, опять же ситуация немного нетипичная — я очень активно вовлечен. И я понимаю, что далеко не у каждого подростка и вообще ребенка есть такая возможность. Но я очень активно увлечен, мне это нравится, мне это интересно. Я не просто прихожу и переминаюсь с ноги на ногу два часа, я что-то делаю, я в алтаре, я там организую, а я это люблю делать.
А. Леонтьева
— Вот, знаете, есть такая вещь, что современные молодые люди, они совсем не знают ничего даже вот о такой в общем не очень толстой книжице, как Евангелие. Но это основа всей нашей культурной жизни. Они не могут прочитать Евангелие. Вы сталкивались с этим, вот как ваши сверстники, они просто вот... Нет, и все. Хотя, казалось бы, просто для общего развития прочитайте — и будете культурными людьми, так скажем.
А. Шириков
— Ну я скорее нет. Потому что я с семинарии в церковной среде, и меня окружает церковная среда.
А. Леонтьева
— То есть у вас вообще в оранжерее какой-то.
А. Шириков
— Ну я опять же, в оранжерее вокруг меня есть люди нецерковные. Но во многом благодаря тому, что это люди, которые мне близки по ценностям, я понимаю, что это очень светлые, очень хорошие люди. И, может быть, даже не читая Евангелия, они живут евангельскими ценностями и, как говорит Григорий Нисский, да, они христиане до христиан, христиане по своей сути. Мне кажется, у Натальи здесь будет больше опыта.
А. Леонтьева
— То есть вы не агитируете людей, не катехизируете их?
А. Шириков
— Я вообще сторонник агитации жизнью. И я вижу ее большую эффективность даже в рамках нашего прихода, где мы помогаем отцу. Потому что обычная агитация, она только отталкивает. И это очень хорошо видно по любым темам, которые сегодня, даже не только христианские, там педалируются — чем больше педалируешь, тем больше отторжения. А если человек видит, что если ему хорошо с другим человеком, то он остается рядом. А если он остается рядом, то он уже начинает жить этими ценностями. А если он начинает жить этими ценностями, ему остается всего лишь понять, что это христианские ценности, и все. То есть это более такой важный процесс, мне кажется.
Н. Кокорина
— Да. Ну я вообще придерживаюсь, честно говоря, точки зрения, что совет без запроса — это хамство, поэтому...
А. Леонтьева
— Совет без вопроса?
Н. Кокорина
— Без запроса, да. То есть если человек у меня совета не просил, я буду что-то... И если, в принципе, когда мне советуют, а я не просила — это так же ощущается. Это вызывает в общем внутреннее сопротивление, и это, в принципе, оправдано. Поэтому, да, у меня в этом смысле, наверное, может быть, касаний разных больше, потому что я довольно... Ну я училась в двух светских — сначала в реставрационном училище, потом в Академии художеств — это абсолютно светские учебные заведения. И много лет проработала в музее государственном, соответственно, тоже с совершенно разным кругом коллег. И вот то, что сказал Алексей, совершенно точно реализуется на практике. Люди знали, что я там дочь священника, что я хожу в храм. Но если человек приходит сам с каким-то вопросом — зная это, кто-то мог что-то спросить, и тогда я с удовольствием поделюсь. Но чтобы я им что-то свое навязывала или даже как-то демонстративно свои убеждения, как-то демонстративно демонстрировала (прошу прощения за тавтологию) — это, действительно, скорее отталкивает и, мне кажется, ни к чему. Такое как-то агрессивное миссионерство нам не близко по крайней мере. Оно, мне кажется, рисков для Церкви, зачастую именно даже для Церкви содержит больше. Ну а так, были и курьезные ситуации, в плане вот знания Евангелия. Я просто, когда вы задавали вопрос, улыбнулась, потому что сфера моей профессиональной деятельности — это, с одной стороны, иконы и искусство, потому что искусствоведческое образование я получала. И в дальнейшем музей, где тоже в общем — это Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где много церковных предметов и в коллекции, экспозиции — я в фондах работала. И было забавно, когда люди, работающие с предметами или там изучающие, пишущие иконы — это вот в моей другой профессиональной ипостаси, когда они пишут иконы праздников, но не знают матчасть, когда они работают с предметами церковными, но опять же не знают там структуру богослужения. Я просто видела, насколько им тяжелее и сложнее. Насколько для меня какие-то вещи самоочевидны, просто потому что это часть моей жизни. И то же Евангелие, например, работая с иконами, реставрируя их, иконы праздников тех же, не зная сюжетов — да их просто можно испортить, чисто технически, потому что ты не знаешь, что там должно быть.
А. Леонтьева
— Просто неправильно нарисовать, да?
Н. Кокорина
— Или неправильно восстановить, смыть что-то ненужное, если говорить именно о реставрации, да, а не о создании. И да, таких ситуаций, конечно, много. И меня по-прежнему продолжает удивлять нежелание людей — но это уже не столько с верой, наверное, связано, даже именно с культурой, с уровнем культуры, — нежелание погрузиться и изучить в общем то, с чем ты работаешь. Но почему-то люди не видят в этом ценности для себя. Мне кажется, ответ в том, что они не понимают, не знают своего «зачем», и этого не делают. Не знают, зачем им прочитать Евангелие — вот и не читают.
А. Леонтьева
— Наша беседа, к сожалению, подходит к концу, но не могу не задать вопрос. Вот вы два молодых, красивых, харизматичных человека. Было так, что люди, глядя на вас, приходили все-таки в Церковь или приходили к вере?
А. Шириков
— Честно говоря, я не знаю.
Н. Кокорина
— Они нам не докладывают. Я не думаю, что прямо глядя на нас. Мы же, как сказать, мы не Моисеи, это не лучи, не излучаем лучи. Мы надеемся, что мы своей деятельностью вносим какой-то маленький вклад вот в путь людей. И периодически с нами люди делятся, вот внутри сообщества, например, особенно, там существует более такая теплая обстановка, и не так опасно, не на большую аудиторию, говорят о том, что не через нас лично, а вот через общение с другими христианами, через полученные знания их вера, например, меняется, становится более живой, что они там как-то, их церковная жизнь, их христианская жизнь становится более теплой — этим делятся.
А. Шириков
— Ну и я точно могу сказать, что благодаря проекту есть люди, которые остаются внутри Церкви.
Н. Кокорина
— И возвращаются в активную церковную жизнь.
А. Шириков
— И возвращаются, да. Потому что люди, которые не приемлют как раз для себя такого директивного подхода, который нередко бывает, к сожалению, распространен, они видят, что можно по-другому. И это по-другому возвращает их, собственно говоря, к Богу.
Н. Кокорина
— Это есть, эти примеры есть. Но опять же все равно это такой, мне кажется, маленький вклад, который мы можем вносить. Все равно больше Бог здесь влияет.
А. Леонтьева
— Скромно. Ну тогда последний вопрос, буквально два слова. Вот есть такое понятие как наивная вера — вера, которая не требует знаний. Знания вообще нужны вере? Вот скажите ваше мнение.
А. Шириков
— Я думаю, что в современном мире в большем случае да. Потому что наивная вера, она бывает, конечно, хороша, но это очень редко прямо что-то глубокое. Хотя сложно сказать. Я здесь отвечу так еще, что может быть наивная вера, пронизанная любовью. Когда человек ничего не знает, но любит. Может, он даже не знает, что такое Троица, но если он любит, то он ближе к христианству, чем тот, кто много знает, но не любит. А бывает простая вера, которая не на любви основана, она как раз — это сложно описать: когда я верю, ничего не знаю, но думаю, что все знаю, потому что я верю. И вот эта вера опаснее, конечно. И в сегодняшнем мире, мне кажется, знания — это очень хорошая такая прививка от такой веры. Потому что они показывают, что все сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Н. Кокорина
— Да, и мне кажется, что сейчас, в современном мире все-таки, вот особенно если человек не живет где-то в изоляции, достаточно в уединенном пространстве, а живет вот в окружении вот этой информационной волны, которая есть, то вера без знаний — это даже в какой-то мере опасно. Потому что тогда человека легче... Ему легче куда-то съехать в обрядоверие, в магизм, еще куда-то и даже не заметить этого.
А. Леонтьева
— Вот это очень важная мысль. Спасибо вам за нее огромное. Спасибо за интереснейшую беседу и за то, что вы делаете. Напомню, что сегодня с нами и с вами Алексей Шириков, теолог, и Наталья Кокорина, художник-реставратор, ребята — авторы проекта «Жизнь со смыслом». Спасибо вам за этот разговор.
А. Шириков
— Спасибо вам.
Н. Кокорина
— Спасибо за приглашение.
Все выпуски программы Светлый вечер
- «Советская ученая — тайная монахиня». Алексей Беглов
- «Мученица Татьяна Гримблит». Священник Анатолий Правдолюбов
- «Наследие протоиерея Иосифа Фуделя». Надежда Винюкова
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Псалом 100. Богослужебные чтения

Как наполнить своё сердце теплом, добротой и светом? Зависит ли это вообще от наших усилий? Ответ на этот вопрос находим в псалме 100-м, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Псалом 100.
1 Милость и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.
2 Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты придёшь ко мне?» Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего.
3 Не положу пред очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне.
4 Сердце развращённое будет удалено от меня; злого я не буду знать.
5 Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню; гордого очами и надменного сердцем не потерплю.
6 Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне; кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне.
7 Не будет жить в доме моём поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред глазами моими.
8 С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.
Только что прозвучавший псалом — это своего рода клятва царя. Он обещает Богу, что в своём правлении будет хранить верность Его закону. Причём не только в общественных делах, но и в частных. Видимо, не случайно в некоторых странах Средневековой Европы этот псалом использовался при обряде коронации. Известно, что Людовик IX руководствовался им в деле воспитания своего сына и наследника Филиппа. А русский князь Владимир Мономах использовал как своего рода государственный гимн. Однако этот псалом предлагает нечто важное и для каждого из нас. В нём содержится вполне конкретное указание на то, как же именно добиться чистоты в своей личной жизни и в общественной деятельности.
Обращаясь к Богу, псалмопевец обещает: «Я бу́ду размышля́ть о пути́ непоро́чном». То есть буду размышлять о Твоих заповедях, Господи. Здесь упоминается об одной важной аскетической практике. В христианской традиции она называется молитвенное размышление. Суть её проста. Наш ум похож на рыболовный крючок или даже на репейник. Он всегда ищет, за что бы ему зацепиться. Как только он поймал какой-то образ, он сразу же тянет его к себе домой. То есть прямо в нашу душу, в самое сердце. От этого в нас рождаются разные чувства. И порой именно от этого у нас внутри бывает так скверно. Мы переполнены нежелательных впечатлений, мрачных воспоминаний о прошлом и тревожных представлений о будущем. А всё потому, что ум живёт собственной жизнью. Даже если мы заняты каким-то делом, он бывает рассеян. Он, как сорвавшийся с цепи пёс. Весь день скитается по помойкам и подворотням, потом возвращается взъерошенный, грязный и тащит в дом всякую гадость и заразу.
Поэтому отцы христианской Церкви призывают держать ум под контролем. А именно — давать ему нужные образы. В первую очередь это образы из Священного Писания, из поучений святых отцов, из молитвословий. Алгоритм прост: прочитал или услышал утром текст Писания и стараешься удержать его в голове весь день. Как только увидел, что ум начинает убегать, возвращаешь его к образу из священного текста. Чтобы проиллюстрировать эту работу, христианские подвижники приводят в пример верблюда. В отличие от многих других животных, он на протяжении долгого времени пережёвывает пищу. Поэтому преподобный Антоний Великий пишет: «примем подобие от верблюда, перечитывая каждое слово Святого Писания и сохраняя его в себе, пока не воплотим его в жизнь».
Благодаря такой работе ума, сердце наполняется совсем иными впечатлениями и чувствами. На душе становится чище, светлей, просторней и радостней. И у нас появляется способность адекватно оценивать окружающую действительность, не сползать в уныние, тоску, злобу, неприязнь и другие деструктивные чувства. Благодаря этому и наша деятельность становится продуктивной, полезной. И псалмопевец прямо указывает на это следствие размышления над законом Божиим. «Бу́ду ходи́ть в непоро́чности моего́ се́рдца посреди́ до́ма моего́», — пишет он.
А потому постараемся понуждать себя к этой важной духовной работе. Ведь если мы хотим, чтобы наши слова и поступки несли людям свет и тепло, необходимо, чтобы чистым был их источник, та сердцевина, откуда они исходят. Ведь как говорит Спаситель в Евангелии, «от избы́тка се́рдца говоря́т уста́. До́брый челове́к из до́брого сердца выно́сит до́брое». А чистота этой сердцевины во многом зависит именно от нас. От того, куда мы с вами привыкли направлять своё внимание и какими образами мы питаем свою душу.
Послание к Галатам святого апостола Павла

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.

Комментирует священник Антоний Борисов.
Одним из столпов современной нам цивилизации является стремление к удобству. Нам хочется, чтобы удобным были: рабочий график, жильё, способ куда-либо доехать, с кем-либо связаться и т.д. Проявлением стремления к комфорту является также то, что всё мы переводим в схемы, инструкции, таблицы. Ведь так удобнее — понимать, запоминать, учитывать. И велико искушение саму жизнь попытаться поместить в схему. Чтобы тоже — было комфортно. Но не всё так просто. И об этом говорит апостол Павел в отрывке из 5-й и 6-й глав своего послания к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
Глава 5.
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
Глава 6.
1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Апостол Павел в начале прозвучавшего отрывка объясняет своим первоначальным читателям — галатам — через какие явления должна проявлять себя духовная жизнь христианина. Апостол называет следующие, как он выражается, «плоды духа»: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И кто-то из современных читателей может заметить — а разве это не инструкция, не чёткий перечень того, чем должен обладать христианин, чтобы угодить Богу? И да, и нет.
Конечно же, внутренний мир верующего человека не может быть исключительно внутренним. Он, в любом случае, будет себя как-то выражать. И апостол перечисляет те вещи, которые христианин должен и иметь внутри своего сердца, и проявлять на уровне слов и поступков. При этом Павел добавляет одно очень интересное пояснение: «На таковых нет закона». Что он имеет в виду?
Дело в том, что галаты, которым апостол адресовал послание, были сначала язычниками, а потом, благодаря проповеди Павла, стали христианами. Затем среди них начали проповедовать уже совсем другие по духу люди — иудейские учители, желавшие навязать галатам своё представление о религиозности. А именно, что любовь, кротость, милосердие следует проявлять только к тем, кто является твоим соплеменником или единоверцем. По отношению же к другим, внешним, можно быть и жестоким, и чёрствым. Якобы ничего страшного в таком поведении нет.
Апостол Павел сурово обличает такой подход. А также критикует в принципе мысль, что можно те или иные добродетели исполнять схематично и меркантильно — надеясь на гарантированную награду со стороны Господа. Потому Павел и пишет: «Если мы живём духом, то по духу и поступать должны». Дух, который упоминает апостол, есть жизнь от Бога. А жизнь не запихнёшь в инструкции и схемы. Есть, конечно, какие-то важные принципы, постулаты. И за них следует держаться. Но всё же — человек важнее закона. Закон же призван помогать людям, а не главенствовать над ними.
И Павел призывает галатов, а вместе с ними и нас, ко всем людям относиться как к детям Божиим, проявляя уважение и терпение. Он прямо пишет: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». А ещё апостол напоминает, что не следует ставить знак равенства между человеком и его образом жизни. А именно — не стоит впадать в крайности, с одной стороны, поспешно считая, что чтобы человек ни делал, всё замечательно. А с другой — забывая, что человек Богом создан, и, значит, создан хорошо, но может неверно распоряжаться своей свободой.
Вот почему Павел и пишет: «если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым». На практике это означает, что мы не должны мириться со злом, но призваны его исправлять. Однако исправлять таким образом, чтобы не унижать, не презирать того, кто ту или иную ошибку совершил. Но, наоборот, всячески помогать человеку достичь покаяния — признания своей ошибки и желания её исправить. И тут нет, и не может быть никаких шаблонов. Потому что все мы разные. Но любовь, к которой все мы тянемся, которую ищем, обязательно нам поможет исполнить то, к чему призывает нас апостол Павел: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Поддержать «Изумрудный город» — пространство для развития детей с инвалидностью

В фонде «Дети Ярославии» действует проект «Изумрудный город». Это пространство, где каждый ребёнок с инвалидностью может развиваться, раскрывать свои способности и находить друзей. Фонд организует для них разнообразный и полезный досуг. Дети вместе поют, танцуют, рисуют, участвуют в спектаклях, занимаются лечебной физкультурой, но главное — учатся общаться и быть самостоятельными.
Кристина Пушкарь посещает «Изумрудный город» уже 5 лет. Именно здесь у неё появились первые друзья, успехи в развитии и вдохновение к творчеству. Из-за внешних и умственных особенностей Кристине сложно находить понимание и поддержку в обществе. Но в «Изумрудном городе» её всегда ждут. Она может не стесняться быть собой. «Когда особенные дети получают большое количество любви, тепла, понимания и видят искреннее желание им помочь, они непременно меняются», — считает мама Кристины.
Не только дети с инвалидностью находят поддержку в «Изумрудном городе». Понимание, психологическую помощь и просто доброе участие обретают их родители. Многие из них включаются в организацию событий и жизнь фонда «Дети Ярославии».
Поможем сохранить такое нужное пространство для развития и радости в городе Ярославле. Поддержать проект «Изумрудный город», а также ребят с инвалидностью можно на сайте фонда «Дети Ярославии».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов













