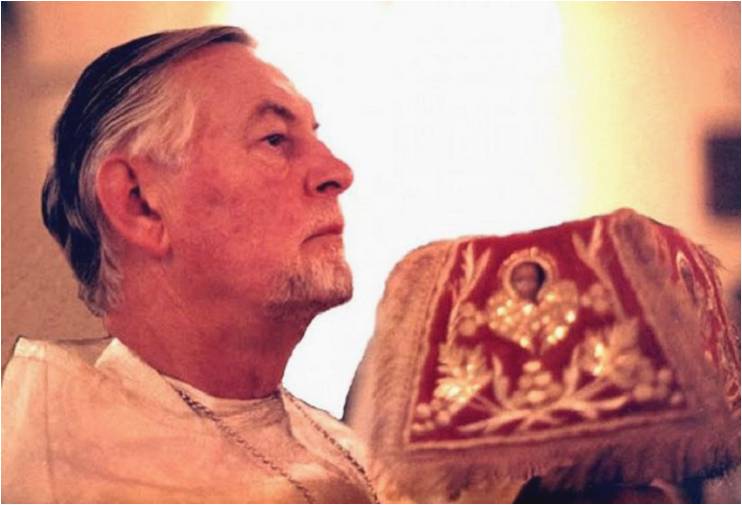
У нас в гостях сотрудник Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына, переводчик Елена Дорман и редактор издательства Свято-Тихоновского Богословского Университета Егор Агафонов.
Разговор шел о книге воспоминаний супруги отца Александра Шмемана — Ульяны Шмеман, а также о переписке отца Александра с протоиереем Георгием Флоровским, о непростых взаимоотношениях этих двух известных священников и о попытках примириться.
Ведущий: Алексей Пичугин
А. Пичугин
— Здравствуйте, дорогие слушатели. «Светлый вечер» на светлом радио. Приветствую вас я, Алексей Пичугин, здесь, в этой студии. С удовольствием представляю наших гостей, ближайший час вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» проведут: переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья Елена Дорман. Здравствуйте.
Е. Дорман
— Здравствуйте.
А. Пичугин
— Егор Агафонов — старший редактор Издательства Свято-Тихоновского университета. Добрый вечер.
Е. Агафонов
— Здравствуйте.
А. Пичугин
— Сегодня мы хотим поговорить сразу о двух книгах, которые за последний месяц вышли. Первая — это уже переиздание, по-моему, второе или третье издание воспоминаний супруги отца Александра Шмемана Ульяны Шмеман «Мой путь с отцом Александром». Но книга эта сильно дополненная: здесь есть некоторые разделы, которые никогда не публиковались — сейчас подробнее об этом поговорим. И вторая книга, которая тоже вышла в Издательстве Свято-Тихоновского университета в этом году, это переписка отца Александра и отца Георгия Флоровского. Здесь в данном случае в этот сборник вошли письма, написанные в период с 1947-го по 55-й год. Давайте по порядку: сначала про книгу воспоминаний Ульяны Шмеман. Про отца Александра мы на волнах радио «Вера» очень часто говорим, очень часто вспоминаем, в разных совершенно программах звучат его воспоминания, отрывки из дневников, фрагменты совершенно разных работ, можно услышать голос самого отца Александра. Но о его жене мы знаем гораздо меньше, я думаю, что многие наши слушатели не знают и вовсе. Расскажите, пожалуйста, про то, кем была Ульяна Шмеман, вкратце о её биографии, о её жизни. Она скончалась совсем недавно — в позапрошлом году, в конце 2017 года её не стало. Прожила она очень длинную жизнь — 94 года. Елена, наверное, я порошу вас начать этот рассказ.
Е. Дорман
— Ульяна Сергеевна выросла в очень аристократической семье Осоргиных, они, естественно, родственники всех других аристократических семей России. Она знала много языков, хотя они там жили в бедности, получила хорошее образование во французском лицее. И когда они с отцом Александром приехали в Америку, особенно первые года, а может быть, даже первые десятилетия, кормила семью Ульяна Сергеевна.
А. Пичугин
— Надо ещё сказать, что они познакомились... кстати, у нас, по-моему, никогда не было программы о жизни отца Александра и, может быть, немногие знают первый период его служения, о том, как он попал в эмиграцию.
Е. Дорман
— Но он был такой маленький, когда туда попал. Он же родился в Эстонии.
А. Пичугин
— Да, он же родился в Таллине в 1921 году. Получается, что вся его родственная линия из Петербурга, но незадолго до его рождения все оказались в Таллине, оттуда уже и дальше... Так что он никогда ведь не был в Советском Союзе, в отличие, кстати, от его жены, которая после его смерти приезжала в Москву, я знаю.
Е. Дорман
— Она приезжала в Москву и до его смерти — она приезжала навестить сына, когда Сергей был первый раз корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» в Москве.
А. Пичугин
— Да, про это Сергей, который приходил к нам относительно недавно, рассказывал, и об этом в дневниках тоже есть. Но всё же интересно — даже в этой книге очень интересно описывается, как они познакомились с будущим отцом Александром, ведь это происходило в оккупированном Париже.
Е. Дорман
— Ну да. Там же всё-таки оккупация Парижа — это не оккупация России, это всё-таки... да, там было очень много ужасных вещей, но жизнь всё-таки была другая. И отец Александр учился как раз в это время в Свято-Сергиевском институте, и конечно, был на службах на подворье, и там на ступенях они и познакомились с Ульяной Сергеевной. Красиво он ей сказал, что он такой-то, учится в семинарии и что он не собирается становиться монахом.
А. Пичугин
— А потом она подъехала к церкви в карете, а потом объясняла, что карета — это красиво, но не потому, что в этом какой-то глубокий символизм, а просто оккупация Парижа, денег нет, топлива нет, и на автомобиле-то не подъедешь.
Е. Дорман
— Да. Я хочу сказать, что во Франции они жили очень бедно, но как бы этим даже не тяготились. И в этом есть и отличительная черта первой эмиграции — когда баронессы, графини, княжны шли мыть посуду, скрести полы, и этим не тяготились и не считали это ниже своего достоинства.
А. Пичугин
— А генералы шли работать в такси.
Е. Дорман
— Да. И это было как бы: ну надо, значит, надо — это было не унизительно. А когда они переехали в Америку, отец Александр начал преподавать в семинарии и деньги там были очень маленькие, Ульяна Сергеевна поняла, что надо что-то делать и спасать семью, потому что детей трое на руках. И она устроилась в какую-то школу преподавать французский. И вот из этого выросла настоящая, большая учительская карьера, то есть она преподавала, потом она была директором частной школы для девочек практически до самой пенсии.
А. Пичугин
— И все те годы, пока отец Александр служил, преподавал в семинарии, она работала, да?
Е. Дорман
— Она работала, да.
А. Пичугин
— Кем она была в его жизни? Дорогие слушатели, если кто-то читал «Дневники» отца Александра Шмемана, вы можете встретить упоминание жены там огромное количество раз. Он к ней обращается практически раз в несколько страниц, но всё равно из этого не складывается понимание того, кем она была в этой большой жизни семьи Шмеманов.
Е. Дорман
— Она была и тылом, и другом, и собеседником, а главное, как он писал, и мне лично кажется, что это главное в отношениях двух людей, что он с ней мог молчать и думать, и работать, просто молчать с ней, и таким образом она его всё равно понимала. То есть ему было абсолютно уютно и хорошо, и комфортно в семье, благодаря Ульяне Сергеевне.
А. Пичугин
— Я так понимаю, она начала писать уже после смерти отца Александра, потому что книга «Мой путь с отцом Александром» датирована 2005 годом — это совсем недавно, то есть она была уже в достаточно преклонном возрасте.
Е. Дорман
— Да, она начала писать, когда уже вышла на пенсию, переехала в Канаду.
А. Пичугин
— Она в Канаде жила в последнее время?
Е. Дорман
— Умерла она в Нью-Йорке, но после смерти отца Александра, через год, она продала дом и переехала поближе к младшей дочери Маше, в Канаду.
А. Пичугин
— А можете подробнее рассказать вы или Егор про вот эту всю очень такую запутанную, на первый взгляд, семейную линию, потому что там звучат разные фамилии: Ткачуки, отец Фома Хопко, который недавно умер, ещё там разные пересечения как с известными российскими дореволюционными семьями, так и уже с теми, с кем они познакомились уже в Америке, но чьи имена тоже на слуху.
Е. Дорман
— Я могу сказать, на ком женились и за кого вышли замуж дети Шмеманов. Но Осоргины же пересечены и с Трубецкими и с Гагариными за последние, скажем, лет двести.
А. Пичугин
— Её брат или двоюродный брат — один из известнейших священников Русского зарубежья, отец Михаил Осоргин. Кем он ей приходился? Двоюродным братом, если не ошибаюсь.
Е. Дорман
— По-моему, дядей.
А. Пичугин
— Или дядей. Было двое известных протоиереев Михаилов Осоргиных...
Е. Агафонов
— Один был её дедом.
А. Пичугин
— Один дед — губернатор двух губерний в своё время в Российской империи, занимавший очень высокий придворный пост, переехавший после революции во Францию, где в итоге уже в 71 год стал священником.
Е. Агафонов
— Да, это как раз дед Ульяны Сергеевны. А отец её был регентом в этом храме, в котором она тоже занималась церковным пением — в храме святых Константина и Елены в Кламаре.
А. Пичугин
— О книге расскажите, пожалуйста, Егор. Мы уже упоминали, что это не первое издание.
Е. Агафонов
— Да, это третье издание в России, и в отличие от двух первых, в это издание мы решили включить перевод небольшой второй книги Ульяны Сергеевны «Радость служения». Это книжка, которую она написала ещё позже, что воспоминания об отце Александре, фактически её можно считать таким её завещанием.
А. Пичугин
— Она начинается с фразы, что её собственный путь подходит к концу перед вечностью.
Е. Агафонов
— Конечно, да. Это очень простая и в то же время очень светлая книжка, в которой человек оглядывается на всю свою прошедшую жизнь и пытается очень просто, понятно для себя и для других сформулировать то, что она в этой жизни поняла, что она в этой жизни почувствовала, и как-то вот это немножко структурировать. Поскольку эта книжка обращена в основном к людям церковным, больше того, я бы даже сказал более целенаправленно — к женщине в Церкви. Она рассказывает именно о своём опыте жизни в Церкви женщины, матушки, жены священника, певицы, регента — кем она всем была и ей приходилось служить в Церкви, — какого-то приходского работника, миссионера, потому что она по факту своей деятельности была, конечно, и тем, и другим. И в очень, может быть, незамысловатых, но в то же верных по своим ощущениям, по своим интонациям предложениях она пытается сформулировать о том, что в этой жизни главное — в этой жизни человека и женщины в Церкви, прежде всего. О том, что служение и жизнь в Церкви неразрывно должны быть связаны с радостью — это основное условие, это основное качество жизни в Церкви. Вот я, в отличие от Елены, никогда лично Ульяну Сергеевну не встречал, но как прекрасно знаю из рассказов её сына Сергея, из всего того, что мы можем увидеть и прочитать в её небольших книгах, Ульяна Сергеевна была человеком, для которого радость в жизни — это было каким-то основополагающим качеством, необходимым, это то качество жизни, без которого она не могла существовать. Вот эта нацеленность на радость, на счастье, на то, что это душевное счастье должно быть, она очень сильно отразилась и в этой второй, небольшой книжке. И мне кажется, в наше время это само по себе уже очень ценно, потому что лишний раз свидетельствовать о том, что церковная жизнь в первую очередь представляет из себя не исполнение правил — это жизнь, которая должна воспитывать праведников, а не «правильников», — о том, что церковная жизнь не обязательно должна быть счастливой и радостной, вот мне кажется, что такое напоминание в наше время далеко не лишнее. Поэтому эта небольшая, простая книжка в моих глазах имеет совершенно определённую и понятную ценность.
А. Пичугин
— Елена Дорман, переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья; Егор Агафонов, старший редактор Издательства Свято-Тихоновского университета, в гостях у радио «Вера». Я нашёл, как дословно звучит вступление: «Приближаясь к концу пути, ведущего в Царствие, я с бесконечной благодарностью оглядываюсь назад, на те долгие годы, которые я была женой священника», — пишет Ульяна Сергеевна Шмеман в 2009 году. Всего лишь десять лет назад это было написано.
Е. Агафонов
— И завершает это словами: «Я люблю жизнь». Это завершение её предисловия к книге, да, акцентированное такое.
Е. Дорман
— И она это передала своим детям, кстати.
А. Пичугин
— Да, вот я как раз хотел спросить. Я-то помню, что читал в первый раз книгу «Мой путь с отцом Александром», ещё когда она в первый раз выходила. Но даже тогда я не смог для себя до конца понять, кем была Ульяна Шмеман. Так она для меня осталась довольно сложным, непонятным человеком, в хорошем смысле, потому что она очень интересно рассказывает, у неё какие-то очень точные наблюдения. Вы были с ней знакомы..
Е. Дорман
— Я гораздо ближе и гораздо чаще видела отца Александра, чем Ульяну.
А. Пичугин
— А как вы вообще познакомились с этой семьёй?
Е. Дорман
— В эмиграции все друг друга знают — это такой маленький пятачок. А первое знакомство было через... был такой замечательный, очень интересный священник — отец Кирилл Фотиев, может быть, вы слышали. Он был в Париже, потом в Америке, и все подрабатывали на радио «Свобода». И как только мы приехали, мой папа тоже стал подрабатывать на радио «Свобода», где его тут же нашёл Фотиев, который находил всех новых приезжих.
Е. Агафонов
— Елена, напомните, какой это год.
Е. Дорман
— Начиная с января с 1973 года. А он был очень близким другом отца Александра, а отец Александр очень любил встречаться с только что приехавшими людьми и расспрашивать: как там, что там. И как-то он особенно любил мою маму, и он стал таким близким другом семьи уже на много-много лет.
А. Пичугин
— А в какие года вы познакомились?
Е. Дорман
— Вот в начале 73-го.
А. Пичугин
— То есть ещё десять лет жизни отца Александра. Его сын Сергей Александрович рассказывал здесь, у нас в студии, и по-моему, где-то это ещё описано в его воспоминаниях, как они на радио ходили с отцом через Нью-Йорк, через Гарлем, по-моему, как раз куда-то, где была студия.
Е. Дорман
— Не Гарлем, конечно.. нет, до Гарлема они не доходили.
Е. Агафонов
— К нему любили обращаться местные негры, когда он стоял там с кружкой пива и с гамбургером, поговорить за жизнь. Он очень любил эти разговоры, когда к нему обращались как к священнику, потому что он всегда носил колоратку.
А. Пичугин
— Правда, как-то я не могу ответить себе на вопрос, почему всё-таки сам отец Александр, несмотря на то, что жена ездила, так ни разу и не приехал.
Е. Дорман
— А он же сам это в «Дневниках» объяснял.
А. Пичугин
— Может быть, я что-то упустил...
Е. Дорман
— Он не хотел туда ехать при советской власти.
А. Пичугин
— Но тогда не было ощущения, что она вот-вот закончится.
Е. Дорман
— Не было, совершенно не было. Когда мы эмигрировали, нас как бы хоронили навсегда — были такие похороны, никому в голову не приходило.
А. Пичугин
— Ну да, вот один из гостей нашей программы, улетавший в 1985 году навсегда в Нью-Йорк, прощаясь в Шереметьево со всеми своими друзьями, говорил, что это точно последний шаг с... русской, советской земли — не знаю, как он воспринимал — навсегда. И проходит 15 лет, и он уже священник в Ивановской области.
Е. Дорман
— Да, на самом деле это было поразительно. Единственный человек, который абсолютно был уверен, просто совершенно спокойно, просто он знал, что мы все вернёмся в какой-то момент, был Солженицын, как ни странно.
А. Пичугин
— Наверное, да.
Е. Дорман
— Он просто это знал, а мы посмеивались, говорили: «Ну что ж, человеку много лет. Ну вот он надеется, он мечтает», — а он просто знал.
А. Пичугин
— «Человеку много лет» — да, человек при этом действительно вернулся и совсем недавно только ушёл из жизни.
Е. Дорман
— И мы вернулись.
А. Пичугин
— На тему возраста и много лет: ещё одна книга, которую мы надеемся презентовать тоже в ближайшее время — это книга, посвящённая Науму Коржавину, годовщина сейчас со дня его смерти. Это какие-то воспоминания о нём?
Е. Дорман
— Нет, это маленький сборничек избранных стихотворений и двух статей к годовщине его кончины.
А. Пичугин
— Я вспоминаю просто книгу Довлатова «Колонка редактора», где он пишет о Коржавине как о патриархе литературы, который в конце 70-х воспринимался уже каким-то таким абсолютно непререкаемым, древним человеком на фоне молодых писателей, чей съезд проходил в Лос-Анджелесе. Ещё одна книга, про которую мы сегодня хотим поговорить, — сейчас мы так будем про одну, про другую, потому что они пересекаются, — это отец Александр Шмеман и отец Георгий Флоровский, их переписка 1947-55 годов. Сразу после войны она началась, продолжалась около десяти лет, хотя, я так понимаю, что общение их продолжалось и дольше. А почему именно этот временной период?
Е. Агафонов
— Эта книга представляет из себя полное собрание найденных писем отца Георгия и отца Александра, взаимных писем друг другу. Хранятся они в разных архивах: письма отца Георгия к отцу Александру хранятся в архиве Свято-Владимирской семинарии; письма отца Александра отцу Георгию Флоровскому — в архиве Пристонского университета. Собрал эту переписку, откомментировал и подготовил её к публикации православный богослов из Америки — Павел Гаврилюк, который обнаружил её во время своих профессиональных занятий наследием отца Георгия Флоровского. Именно ему посвящена одна его замечательная книга «Отец Георгий Флоровский и наследие русского религиозного возрождения». Надо сказать, что история отца Александра и отца Георгия, их взаимоотношений, это история чрезвычайно напряжённая и драматичная. С одной стороны, читая эти письма, мы видим моменты редкого интеллектуального взаимопонимания, когда они оба действительно на одной волне рассуждают о каких-то современных церковных проблемах, о церковной литературе, о какой-то богословской проблематике. В то же время, мы, к сожалению, знаем, что жизнь в это такое интеллектуальное единомыслие внесла свои печальные коррективы, и через несколько лет после того, как отец Александр приехал по приглашению отца Георгия Флоровского в Америку и стал сначала инспектором Свято-Владимирской семинарии, ректором которой на тот момент был отец Георгий Флоровский. Через несколько лет их отношения зашли в такой драматический тупик, пока не закончились окончательным разрывом. Более того, это был разрыв всей Свято-Владимирской семинарии с отцом Георгием. Его попросили оставить пост ректора, после того, как он это сделал, он отказался от предложения вернуться туда в качестве просто преподавателя-декана....
А. Пичугин
— А почему такой разрыв произошёл?
Е. Агафонов
— Вы знаете, этот разрыв — как часто в жизни бывает сплетаются разные ситуации, разные мотивы. С одной стороны, у отца Георгия было своё видение семинарии, своего видения образовательного процесса, как он себе его представлял. Он был, прежде всего, человеком книги, человеком мысли, он был учёным в первую голову, он воспринимал Свято-Владимирскую семинарию, как место, которое несомненно должно и обязано стать центром не просто богословского образования, а центром богословских исследований. То есть ему виделось в перспективе создание настоящей, подлинной, глубокой богословской школы на этой базе. И для этого он довольно сильно нагружал учебную программу, что, в общем-то, требовалось по таким самым высоким стандартам дореволюционного российского образования, которые он застал ещё сам и которым он был привержен, в частности там все студенты обязаны были изучать греческий язык, на что многие из них, обыкновенные американские ребята, не имевшие никакого специального образования, были просто не способны — на то количество часов, которые он занимал в нагрузке. Это просто одна из деталей.
А. Пичугин
— А кто туда поступал в те годы?
Е. Агафонов
— Уже в те годы, в начале 50-х годов, уже основным контингентом, основным числом студентов, которых всё равно было очень немного, там вполне могло быть человек 15-20 на курсе, насколько я понимаю, в те годы, да?
Е. Дорман
— До 30-и.
Е. Агафонов
— До 30-и вполне было. Основным числом всё равно были американцы — это были так называемые «конверты», из семей конвертов. Но очень много, конечно, из русских семей, из русских Карпат, из семей уже во втором поколении русской и украинской эмиграции.
А. Пичугин
— А с карпато-русскими сёлами другая история — это те люди, которые приехали в Америку в большей степени не в следствие революции, а просто потому, что они эмигрировали ещё раньше, в начале двадцатого века.
Е. Дорман
— Более того, большинство из них были униатами и они вернулись в Америке... И у нас в церкви было очень много людей с карпато-русскими корнями, вот по фамилиям даже.
Е. Агафонов
— Зять отца Александра — муж его старшей дочери.
А. Пичугин
— Но они были носителями несколько другой культуры, я так понимаю.
Е. Дорман
— Это уже не первое поколение. И они в основном были люди простые. Вот у отца Фомы отец был, по-моему, просто рабочий, и он даже сначала заканчивал какой-то простой колледж, чтобы получить профессию, просто чтобы отец не сердился, и только после этого пошёл в семинарию.
А. Пичугин
— Про них есть очень интересный рассказ, в архиве радио «Вера» его можно найти, если вы заинтересуетесь, дорогие слушатели, беседа с отцом Георгием Сергеевым, нашим достаточно частым гостем, которые сейчас служит за границей, в Стамбуле. А он когда-то служил в Канаде, где как раз окормлял общины — там в основном Православная Церковь, православные люди, которые там жили, в том месте, где он служил, это выходцы из западно-украинских сёл. Он очень интересные приводил примеры такой встречи двух культур, когда люди сохраняют какую-то свою национальную идентичность, пронеся её через несколько поколений, но тем не менее они уже абсолютно канадцы, абсолютно укоренённые в своей новой культуре. Это выражение я на всю жизнь запомнил, я его иногда даже сам использую, которое приводил отец Георгий, которое ему где-то кто-то сказал в одном из приходов: «Трошки релакс», — вот это очень хорошо подчёркивает... Давайте продолжим нашу беседу через минуту, я напомню, что гости светлого радио сегодня: Егор Агафонов — старший редактор Издательства Свято-Тихоновского университета; Елена Дорман — переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья.
А. Пичугин
— Возвращаемся в студию светлого
радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Дорман, переводчик, ведущий
научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья; Егор Агафонов,
старший редактор Издательства Свято-Тихоновского университета. И мы перед
перерывом говорили о том, что в начале 50-х годов в Свято-Владимирскую
семинарию... Напомню, что Свято-Владимирская семинария располагается до сих пор
в Нью-Йорке. Правильно?
Е. Дорман
— В штате Нью-Йорк.
Е. Агафонов
— Пригород Нью-Йорка.
Е. Дорман
— Это уже не пригород, это уже подальше, на север.
А. Пичугин
— Это уже подальше? Ну, в штате Нью-Йорк. Семинария, деканом которой долгие годы был отец Александр Шмеман, а до него — протоиерей Георгий Флоровский. И в частности сегодня мы представляем книжку — это переписка отца Георгия и отца Александра, письма, написанные после войны, с 1947-й по 55-й год. Я правильно понимаю, что изначально, до прихода отца Александра и до начала 50-х годов, когда стали поступать уже американцы туда, Свято-Владимирская семинария задумывалась как некое продолжение Свято-Сергиевского университета в Париже, только через океан? Потому что люди приезжали во многом те же, которые прошли или учились, или преподавали в Свято-Сергиевском университете, вернее, институте. Люди, носители всё-таки в большей, наверное, степени той традиции, которая там предлагалась — вот они перенесли её через океан.
Е. Дорман
— На самом деле другой традиции не было просто, кстати.
А. Пичугин
— Ну почему? У нас же говорят «парижское богословие», иногда с пренебрежением, иногда с большим уважением.
Е. Дорман
— А если разобраться, какое ещё было?
А. Пичугин
— А никакого не было.
Е. Дорман
— О чём я и говорю.
А. Пичугин
— Потому что богословие в России началось только с этих людей, а до этого — попытка представить нашими богословами очень известных людей. Если покопаться, то получается, что эти люди воспитаны, скорее, в протестантской традиции, что никак никто не хочет признавать. Но в восемнадцатом веке была одна книга, по которой все учились. Об этом тоже можно найти интересные какие-то данные. Но тем не менее русское богословие началось именно с людей, которых потом жизнь увела в Европу и дальше.
Е. Агафонов
— По-моему, всё-таки Свято-Владимирская семинария не держала Свято-Сергиевский институт в Париже как образец для своей жизни. Надо сказать, что создалась-то она совсем незадолго до того, как отец Георгий стал её ректором — буквально за два или три года до этого, сейчас я точно не помню, в конце 40-х годов, в 46-м или в 47-м году. Епископ Иоанн (Шаховской) был первым её возглавителем. Создалась она прежде всего, исходя из практических целей, то есть она задумывалась в первую очередь как пастырская школа для Церкви в Америке, для русского экзархата, который тоже относился к нашей российской традиции, но юрисдикционно пребывал в то время в разделении — это была самостоятельная Церковь. Юрисдикционно они не относились тогда ни к Московской Патриархии, ни к Зарубежной Церкви. Для них необходима была пастырская школа, которая занялась бы подготовкой кадров для рукоположения. То есть первоначальные задачи были вполне понятные, практические, и никоим образом речи тогда о богословской школе как таковой не стояло. Такую ориентацию, конечно, во многом задал сам отец Георгий, когда его пригласили возглавить это учреждение. Но как у многих чрезвычайно ярких и талантливых людей, у него были свои специфические черты характера, он был достаточно резким человеком, не готовым идти на компромиссы. И своё окружение, и отца Александра в частности, он видел прежде всего не просто как сотрудников, но как людей, которые будут исполнять предначертанное для них... то, что он, собственно говоря, предначертал окружающим. И когда отец Александр откликнулся на приглашение и приехал в Америку и стал преподавателем в этой семинарии, и практически сразу же стал инспектором, то есть взвалил на себя весь груз не только учебной работы, не только составления учебных графиков, расписания богослужений, преподавания лекций, курсов, обсуждений с преподавателями тем занятий и так далее, но помимо этого на него пал, может быть, иногда невыносимой ношей весь груз какой-то практической жизни семинарии и быта студентов. Вплоть до того, что он вырабатывал правила, на каких основаниях студенты семинарии должны пользоваться общими стиральными машинами...
Е. Дорман
— Извини. Потому что они жили вместе. Они жили в квартирах вместе со студентами.
Е. Агафонов
— Да. На тот момент не было отдельного здания, отдельное здание появилось позже. Тогда семинария в самом Нью-Йорке располагалась. Это было фактически несколько квартир, где был совместный быт и у студентов и у преподавателей.
А. Пичугин
— Тоже интересный факт, потому что это сильно отличается от нашей системы, где студенты отдельно, а преподаватели живут, естественно, у себя дома.
Е. Агафонов
— Но это не было сознательным выбором, просто обстоятельства были такие. Никаких денег не было ни на своё здание, ни на то, чтобы завести что-то своё, поэтому просто было несколько квартир, в которых совместно, получалось так, жили студенты и те, кто им преподавал.
А. Пичугин
— Я посмотрел, в 1938 году она была основана, но только в 47-м семинария начала более-менее активную работу. Про отца Георгия Флоровского в целом мы не поговорили, мне кажется, его имя достаточно известно для всех, кто интересуется русском богословием, русской культурой. Но всё же, наверное, не так много мы о нём говорим на радио «Вера», может быть, кто-то и не знает. В двух словах о его жизни расскажите, пожалуйста.
Е. Агафонов
— Отец Георгий Флоровский — это одно из, наверное, самых замечательных имён в истории русской церковной мысли двадцатого века. Как и другие наши мыслители, он полностью уже раскрылся в эмиграции, оставив Россию уже взрослым человеком. Как мыслитель, как церковный историк, как богослов он сформировался именно в эмиграции — сначала в Югославии, а потом уже в Париже. В юности он был очень привержен идеям евразийства, был членом Евразийского союза. Именно в этом направлении началось его возрастание как мыслителя, но достаточно быстро он прошёл этап такого внутреннего воцерковления, хотя, естественно, был крещён и воспитан в Православной Церкви с рождения. И основным предметом его интересов стала история Церкви и православное богословие. Приняв сан священника, он много лет преподавал в Свято-Сергиевском институте в Париже. И надо сказать, что его концепция церковной истории, и его концепция так называемой неопатристики, то есть его лозунг «вперёд, к отцам», утверждающий, что православному богословию необходимо вернуться к забытой святоотеческой традиции, стали одними из определяющих вообще в истории богословия двадцатого века, не только русского но и вообще православного. Фактически для любого историка Церкви и для любого православного богослова уже много лет невозможно как-то определить своё богословствование иначе как или в согласовании с наследием отца Георгия или, наоборот, в противопоставление ему. Но не учитывать его концепции, не учитывать его видения совершенно невозможно. Так что несомненно отец Георгий — это одна из самых ярких личностей в истории русской церковной мысли двадцатого века. И конечно, отец Александр Шмеман это прекрасно понимал и почти безоговорочно считал отца Георгия одним из своих главных учителей, если не главным. Ещё раз повторюсь, что интеллектуально они очень во многом близки и похожи, особенно в первый период отца Александра. Его первая работа, первая книга «Исторический путь православия» во многом написана именно под влиянием историософии Флоровского.
А. Пичугин
— Примирение потом произошло?
Е. Агафонов
— Нет, к сожалению. Я хочу обратить особое внимание читателей этой книги на замечательное просто, по-человечески трогательное и невероятно благородное письмо отца Александра, которое в этой книге опубликовано, которое он написал отцу Георгию через 13 лет после полного разрыва их отношений.
А. Пичугин
— Уже в 60-х годах...
Е. Агафонов
— В 1968 году. Полный разрыв их отношений состоялся, к сожалению, именно в том 1955 году, который и ограничивает их переписку. И в 68-м году отец Александр, не видя для себя возможности внутренне как-то дальше жить вот с этой драмой разрыва, написал примирительное письмо, в котором самым благородным и человечески красивым образом обращался к отцу Георгию, предлагая со своей стороны сделать для примирения всё, что отец Георгий посчитает нужным. К сожалению, на это письмо ответа не было, или, скажем так, он нигде не найден и не зафиксирован, отношения их не восстановились. Но они жили в Америке, они практически никогда не пересекались.
А. Пичугин
— Вот я хотел спросить именно про это.
Е. Агафонов
— На юбилее Свято-Владимирской семинарии у них была мимолётная встреча, где на виду у других людей они обменялись таким принятым у священников поцелуем...
Е. Дорман
— «Поцелуй в плечико», как говорил отец Александр.
Е. Агафонов
— Да, но это никоим образом не знаменовало восстановление отношений. Но вы знаете, буквально сегодня мне рассказали об одном разговоре, не знаю, насколько подлинная реальность стоит за этим, но как вот передавали знакомые знакомых, одними из последних слов уже умирающего отца Георгия Флоровского перед самой его кончиной, были слова: «Позовите отца Александра». Буквально сегодня я это услышал. Я не могу сказать точно, насколько этому можно доверять, это не зафиксировано ни в каких письменных источниках, это рассказ, который передаётся через близких людей, но можно надеяться, что это было действительно так и что сердце отца Георгия всё-таки тоже переживало эту драму разрыва настолько сильно, что в последние минуты своей жизни он помнил о ней и, будем надеяться, всё-таки выражал какое-то желание примириться.
А. Пичугин
— Отец Георгий прожил длинную жизнь тоже — 85 лет ему было, до 1979 года он дожил. На кого, как вы думаете, рассчитана эта книга? На тех людей, которые лет 15 назад очень воодушевились вышедшими «Дневниками» отца Александра Шмемана? Мне кажется, за это время целое новое поколение выросло в Церкви, которое совершенно иначе смотрит на какие-то процессы, на само христианство.
Е. Агафонов
— Я, конечно, должен сказать, что прежде всего, это книга специальная, конечно, это не та книга, которая ждёт широкого читателя, разумеется. Потому что всё-таки переписка довольно специфическая, в ней очень много детальности, в ней очень много обсуждений каких-то специфических и практических тем. Я думаю, что не всем будет интересно читать обсуждение учебной нагрузки в Свято-Владимирской семинарии или каких-то таких бытовых проблем. Я думаю, что здесь, конечно, есть очень много того, что широкого читателя оставит совершенно равнодушным. Но для всех тех, кому интересен отец Александр прежде всего не как богослов, а как удивительная и неповторимая, яркая и разносторонняя личность, я думаю, что здесь могут открыться неожиданные и интересные и очень важные грани, в первую очередь, конечно, как с этим письмом, про которое я сейчас сказал.
А. Пичугин
— Так же, как было с «Дневниками».
Е. Дорман
— Да, но «Дневники» он писал уже будучи зрелым человеком, с биографией, с книгами, полностью сложившимся. А здесь он юн, здесь он очень молодой и это очень видно.
А. Пичугин
— А здесь ему — в 26 лет начинается, а заканчивается в 34 года. Интересно.
Е. Агафонов
— Да. Это период становления, это периоде становления его как личности, как организатора, как человека, которому приходится справляться с неожиданно свалившейся на него какой-то новой деятельностью.
Е. Дорман
— И ответственностью.
Е. Агафонов
— Потому что когда он ехал из Парижа в Америку, не было речи о том, что он будет инспектором, он ехал туда просто преподавать. Но получилось так, что эта нагрузка на него упала неожиданно: буквально через очень короткое время после приезда отец Георгий назначил его инспектором. И на него свалился огромный груз не вполне понятных, не вполне привычных проблем. И надо сказать, что отец Александр, как представляется, всё-таки не был человеком очень уж такого практического склада. Не создаётся впечатления, что он так очень легко и детально во всём этом разбирается и рад этим проблемам, они, скорее, составляли его обузу.
Е. Дорман
— Не рад, но он разобрался и оказался потом хорошим организатором действительно.
Е. Агафонов
— Да.
А. Пичугин
— Хорошим организатором внутрисеминарской научной деятельности, семинарской жизни, учебного процесса. Но вот по «Дневникам», например, у меня складывалось ощущение, что такое качество, наверное, в каких-то таких собственных, личных делах, может быть и не пришло, что, кстати, часто присуще людям с очень хорошими организаторским способностями внутри рабочего процесса.
А. Пичугин
— Я напомню, что в гостях у светлого радио сегодня: переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья Елена Дорман; Егор Агафонов, старший редактор Издательства ПСТГУ — Свято-Тихоновского университета. Мы говорим о двух книгах: это книга писем отца Георгия Флоровского и отца Александра Шмемана; и книга супруги отца Александра — Ульяны Сергеевны Осоргиной-Шмеман «Мой путьь с отцом Александром», книга, которая уже в третий раз издаётся, переиздаётся, но здесь ещё добавлена более поздняя часть, которая никогда не издавалась. Но при этом то, о чём я говорю, что в быту, наверное, отец Александр многое, видимо, делегировал жене.
Е. Дорман
— Нет. Чисто в быту?
А. Пичугин
— Да.
Е. Дорман
— Он даже не делегировал, она просто автоматически этим занималась.
А. Пичугин
— То есть то, что касалось воспитания, детей, всего быта, дома...
Е. Дорман
— В основном она, конечно. Он с ними просто беседовал, книжки читал, гулял. А
выбирала им школу, возила в школу, выбирала учителей, конечно, Ульяна. Но это в
её характере, ей это нравилось.
А. Пичугин
— Вот почему, мне кажется, ещё важна книга воспоминаний Ульяны Шмеман: опять же то, о чём мы говорили полчаса назад, что сейчас мы сами живём в той жизненной системе, в которой... конечно, наша страна не похожа, наверное, на Америку 70-х, 80-х годов, сильно не похожа, но в то же время есть что-то общее. Вот всё равно, если сравнивать Россию с чем-то, пускай мы абсолютно разные, но сравнить её можно, наверное, с США. И всё-таки мы сейчас здесь, в двадцать первом веке, лучше понимаем то, как жили, то, о чём говорили и быт их — жителей Нью-Йорка 70-х, 80-х годов. Я не знаю, вы там жили в то время, вы согласны с этим, нет, Елена?
Е. Дорман
— Сравнить в 70-х годах Советский Союз с Америкой?
А. Пичугин
— Не Советский Союз, а нынешнюю нашу Россию, и нынешняя молодёжь, которая сейчас всё-таки живёт, наверное, в той системе ценностей, и она им понятна. И поэтому когда выходят книги людей, которые написаны там, пускай 30 лет назад...
Е. Дорман
— Нет, мне кажется, что всё-таки это как-то по-разному. И система ценностей
тоже.
А. Пичугин
— Да, вам виднее, потому что вы там прожили долгое время. Но мне кажется, в чём ценность этой книги, что она... если сейчас взять книгу, написанную женой русского священника, который всю жизнь прослужил в Советском Союзе, потом в современной России, взгляд будет совершенно иным.
Е. Дорман
— Есть такая книжка — называется «Матушки».
А. Пичугин
— А, да, есть, конечно, естественно, всё, я вспомнил. Всё равно настолько советское время было иным, что, наверное, взгляд Ульяны Шмеман ближе именно современному российскому поколению — вот я об этом хочу сказать.
Е. Дорман
— Может быть. Но когда я сейчас переводила последний кусочек и её перечитывала,
я поняла, что, нет, какие-то вещи остались у неё очень традиционными, которые у
нас уже размываются давно, даже в церковной среде, но в такой — в хорошей,
прогрессивной церковной среде.
А. Пичугин
— А написана она была на английском языке?
Е. Дорман
— Да.
А. Пичугин
— И рассчитана именно на заокеанского читателя?
Е. Дорман
— Да.
А. Пичугин
— А кто эти люди?
Е. Дорман
— Жёны семинаристов, которых она видела в семинарии. Они же жили рядом с
семинарией, и она периодически, как и другие жёны других преподавателей,
устраивали специальные такие партии для жён семинаристов, и беседы с ними. Там
же семейное общежитие было и куча детей...
А. Пичугин
— А как была устроена Владимирская семинария, и как она устроена сейчас? Всё-таки это уже не то учебное заведение, которое ютилось в нескольких квартирах в Нью-Йорке. В Крествуде, вы говорите, я не очень хорошо представляю, где он находится.
Е. Дорман
— Это штат Нью-Йорк и графство Вестчестер.
А. Пичугин
— Если открыть в «Википедии» Свято-Владимирскую семинарию, то первая же цитата будет ваша: «По словам Елены Дорман, это огромная территория, как поместье, в городке Крествуд к северу от Нью-Йорка, с потрясающей часовней, прекрасно расписанной, Трёх Святителей». Это первая строчка про Свято-Владимирскую семинарию в «Википедии».
Е. Дорман
— О, Господи! Это действительно прекрасное совершенно место. Территория
изумительная, даже со своей речкой и крошечным водопадиком. И она там
понемножку строили, и в итоге сейчас там есть общежитие для мальчиков,
общежитие для девочек и общежитие для женатиков. И прекрасная библиотека —
новое здание построили, совершенно прекрасное. Ну и учебные корпуса, да,
часовня с большим залом в полуподвальном помещении.
А. Пичугин
— Около ста человек там обучается. Это в основном люди, которые имеют наследное православие?
Е. Дорман
— Совершенно необязательно. При мне, например, довольно много приезжало алеутов
с Аляски, пели по-алеутски «Христос Воскресе» очень забавно.
А. Пичугин
— А они были просвещены ещё Патриархом Тихоном?
Е. Дорман
— Да, они из тех алеутов, которых ещё Герман Аляскинский просвещал. И было
довольно много людей из Африки, и не только белых из Южной Африки — мы с ними
дружили, были очень хорошие ребята, приезжали несколько лет подряд, — но были
такие ярко-чёрные из Ганы... Я не знаю, можно ли сказать «ганцы», я просто не
знаю?
А. Пичугин
— Ганцы, да. Если правильно их называть как жителей Ганы, то ганцы, да. Они уже жители Соединённых Штатов на тот момент, видимо, были.
Е. Дорман
— Нет, они возвращались, они приезжали прямо оттуда учиться.
А. Пичугин
— Это Александрийский Патриархат, насколько я понимаю.
Е. Дорман
— Так вот они приезжали учиться оттуда, и они возвращались. Кто-то оставался —
в основном белые южноамериканцы оставались, а эти уезжали. И сирийцы были, и
ливанцы, и кого только не было.
А. Пичугин
— И там же, в штате Нью-Йорк, собственно находится семинария Русской Православной Церкви Заграницей.
Е. Дорман
— Но это гораздо севернее.
А. Пичугин
— Но тем не менее какое-то взаимодействие происходит?
Е. Дорман
— Сейчас, может быть, да, тогда — никакого.
А. Пичугин
— Потому что мне тоже кажется, что... вот как я могу судить? — по тем людям, которые приходят к нам на программы. Когда к нам на программу приезжают из Америки священники или преподаватели семинарии РПЦЗ, такое ощущение всегда складывалось, что сейчас приедут люди, которые в достаточно суровой, консервативной традиции воспитаны, потому что это Русская Православная Церковь Заграницей, сохранившая именно тот дореволюционный флёр — как обычно это рассказывают. Нет, приезжают люди, которые воспитаны уже в совсем американской традиции, современной. Мне кажется, начинают размываться границы, я уже не вижу особой разницы между клириками Православной Церкви Америки и клириками Русской Православной Церкви Заграницей, которые там живут.
Е. Дорман
— Сейчас, конечно, ситуация изменилась, но в годы отца Александра, когда я там
была, конечно, ни о каком взаимодействии речи идти не могло. И я помню, что на
отпевание отца Александра приехал отец Александр Киселёв.
А. Пичугин
— Знаменитый, который жил потом здесь.
Е. Дорман
— И были греки, были антиохийцы, болгары, все сослужили. А он просто в рясе
стоял снаружи.
А. Пичугин
— Отец Александр Киселёв.
Е. Дорман
— Да, они были в очень хороших отношениях.
А. Пичугин
— Да, и это отражено в «Дневниках» и в воспоминаниях самого Александра Киселёва, кстати, тоже замечательные воспоминания оставлены, вот бы о них тоже с кем-нибудь когда-нибудь поговорить было интересно, потому что у этого человека уж совсем такой, с точки зрения истории, уникальный путь.
Е. Агафонов
— Я немножко добавлю, хотя я, конечно, в той ситуации не участвовал, но насколько моё впечатление складывается из рассказов знающих людей, в те годы вполне возможно и были замечательные личные отношения людей, принадлежащих к разным юрисдикциям, несмотря на то, что действительно юрисдикционно они находились на совершенно разных полюсах. Надо ещё учитывать, что если мы говорим о кончине отца Александра, а это 1983 год, это как раз годы, когда РПЦЗ заняла свою самую максимально непримиримую позицию по отношению... митрополит Филарет (Вознесенский), его знаменитые скорбные анафемы, письма, так сказать об экуменизме, несколько писем, когда она поставила себя в конфронтацию всему тому, что она называла «Мировым Православием».
А. Пичугин
— Этот термин до сих пор сохраняется в традиции тех приходов, которые наследовали...
Е. Агафонов
— Да, термин сохраняется. И тогда были годы абсолютной конфронтации, именно поэтому отец Александр Киселёв и не мог там служить, потому что за сослужение он, естественно, был бы подвергнут прещению незамедлительно. В то же время, именно на уровне личных отношений сохранялись действительно подлинные, настоящие дружеские связи — этому никто не мешал. Допустим, я об этом разговаривал с отцом Виктором Потаповым, знаменитым священником, тоже выросшим именно в Зарубежной Церкви, более того, в своё время одним из идеологов, надо сказать, вот такого противостояния Московской Патриархии. Тоже были годы, когда он высказывался очень резко. У него были замечательные личные отношения с отцом Александром в частности. Это, конечно, далеко не единственный случай.
А. Пичугин
— Русская Православная Церковь Зарубежом смотрела на Православную Церковь в Америке как на такую составную часть Москвы.
Е. Дорман
— Нет, сначала они просто считали их предателями, приходили и писали всякие
гадости на заборах, преследовали ночными звонками отца Александра. Было
замечательно, да.
А. Пичугин
— Да? Несмотря на то, что в 70-е годы, когда ПЦА обрела самостоятельность...
Е. Дорман
— Вот в связи с этим.
А. Пичугин
— Да? Так вроде, казалось бы, наоборот, вышли из-под гнёта советской системы.
Е. Дорман
— Я имею в виду РПЦЗ.
А. Пичугин
— РПЦЗ, да. Казалось бы, они теперь были самостоятельны, отдельно от «красного режима».
Е. Дорман
— Да, но мы-то, которые ПЦА, оказались предателями.
А. Пичугин
— А предателями чего, с точки
зрения РПЦЗ?
Е. Дорман
— Понимаете, когда наша семья приехала и мы увидели, что то РПЦЗ... сейчас
действительно сменилось поколение, а тогда это были люди, которые жили идеями
«белого» дела, идеями, извините, действительно антисемитизма, полной
непримиримости по отношению к Церкви, остававшейся в СССР. И в этом плане то,
что получали автокефалию от Москвы, для них было актом предательства.
А. Пичугин
— А, именно то, что от Москвы. Теперь я понял, всё, извините.
Е. Дорман
— Конечно!
А. Пичугин
— Да, ведь ещё действительно были живы люди в 70-е годы, они не такими старыми ещё были.
Е. Дорман
— Мы застали Граббе — я его помню. Он ещё соображал.
А. Пичугин
— Так он умер в 1995 году. Да, он ещё и сам ходил, его на колясочке не возили. Я напомню, что мы сегодня говорили про две очень интересные книги, которые вышли в Издательстве Свято-Тихоновского университета. Это книга воспоминаний Ульяны Сергеевны Шмеман, жены отца Александра, книгу эту, я думаю, не так сложно найти, потому что третье издание, в магазине при ПСТГУ. Я думаю, что и в других магазинах она будет продаваться.
Е. Агафонов
— Уже продаётся.
А. Пичугин
— Продаётся, да. «Мой путь с отцом Александром. О жизни, служении и радости». И книга — тут уже непосредственно письма отца Александра Шмемана к отцу Георгию Флоровскому и наоборот, письма 1947-55 годов — тоже в Издательстве ПСТГУ эта книга вышла. Представляли эти две книги сегодня в нашем эфире: Егор Агафонов, старший редактор Издательства Свято-Тихоновского университета; Елена Дорман, переводчик, ведущий научный сотрудник архивного отдела Дома русского зарубежья. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня. Прощаемся с вами, всего доброго и до новых встреч. До свидания.
Е. Агафонов
— Спасибо. До встречи.
Е. Дорман
— Спасибо большое. До свидания.
7 февраля. «Смирение»

Фото: Mariana Mishina/Unsplash
Более всего нас смиряет сознание щедродательности Творца и Его непостижимой милости к кающимся грешникам. Когда мы, в награду за покаяние и исповедание грехов, получаем прощение от Господа Иисуса (посредством разрешительной молитвы священника), душа тотчас вкушает сладкий плод смирения. Сознание неоплатного долга пред Судией и Его всепрощающей любви к искренно кающимся должно как можно долее удерживать в сердце.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
Молчание. Мария Чугреева

Какое значение в нашей жизни имеет слово? Оно может быть животворящее, обнадеживающее или обвиняющее, угнетающее, вводящее в отчаяние. Часто мы роняем слова, как фантик на дорогу. Вроде бы мелочь, а позади остается грязь, мусор. Не думаем о том, что за словами стоит, что произойдет в душе другого человека от наших оценок, рекомендаций, какие, возможно, судьбоносные последствия произойдут от необдуманных слов.
«Люби более молчать, чем говорить, от молчания ум сосредотачивается в себе, от многословия он впадает в рассеянность», — сказал Игнатий Брянчанинов.
«Более люби молчать, чем говорить, молчание собирает, а многословие расточает», — говорил Андроник Глинский.
Действительно, часто после принятия Христовых Тайн или посещения святого места впадаешь в празднословие, суетное обсуждение чего-то и уходит благодать... Как будто и не было ничего. Это не значит, что не нужно делиться духовными переживаниями, но какое-то время стоит побыть в состоянии «внутренней тишины», той самой сосредоточенности, о которой говорят святые, чтобы не расплескать полученную благодать.
Часто говорю себе о том, как важно промолчать. Не ответишь на оскорбление — не будет ссоры. Не передашь человеку негативный отзыв другого о нем — не испортишь ему настроение, не смутишь душу! Как важно хранить в тишине то, что доверяют тебе другие, как необходимо помолчать, не поддержать осуждение кого-то. Практикуясь в молчании, можно избежать многих серьезных ошибок, грехов. И стать ближе к Богу. Помоги мне в этом, Господи!
Автор: Мария Чугреева
Все выпуски программы Частное мнение
Тексты богослужений праздничных и воскресных дней. Всенощное Бдение. 8 февраля (7 февраля) 2026г.

Вечер 07.02.26
Неде́ля о блу́дном сы́не.
Собо́р новому́чеников и испове́дников Це́ркви Ру́сской. [1]
Глас 2.
ВСЕНО́ЩНОЕ БДЕ́НИЕ
Диакон: Воста́ните!
Хор: Благослови́.
Иерей: Сла́ва Святе́й и Единосу́щней и Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Священнослужители в алтаре:
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.
Псало́м 103, предначина́тельный:
Хор: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ ... / Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Вели́кая ектения́:
Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)
Диакон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или: О ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Блаже́н муж:
Хор: Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Го́споди, воззва́х, глас 2:
Хор: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.
Да испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ — же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.
Стихиры воскресные, глас 2:
На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.
Стихира: Пре́жде век от Отца́ Ро́ждшемуся Бо́жию Сло́ву,/ Вопло́щшемуся от Де́вы Мари́и,/ прииди́те, поклони́мся:/ крест бо претерпе́в,/ погребе́нию предаде́ся, я́ко Сам восхоте́:/ и воскре́с из ме́ртвых,// спасе́ мя заблужда́ющаго челове́ка.
Стих: Мене́ ждут пра́ведницы,// до́ндеже возда́си мне.
Стихира: Христо́с Спас наш,/ е́же на ны рукописа́ние пригвозди́в на Кресте́ загла́ди,/ и сме́ртную держа́ву упраздни́:// поклоня́емся Его́ Тридне́вному Воскресе́нию.
На 8. Стих: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди,// Го́споди, услы́ши глас мой.
Стихира: Со Арха́нгелы воспои́м Христо́во Воскресе́ние:/ Той бо есть Изба́витель и Спас душ на́ших,/ и в сла́ве стра́шней и кре́пцей си́ле,// па́ки гряде́т суди́ти ми́ру, его́же созда́.
Стихиры Недели о блудном сыне, глас 1:
Стих: Да бу́дут у́ши Твои́// вне́млюще гла́су моле́ния моего́.
Стихира: В безгре́шную страну́ и живо́тную вве́рихся,/ посе́яв грех, серпо́м пожа́в кла́сы ле́ности,/ и рукоя́тием связа́в дея́ний мои́х снопы́,/ я́же и постла́х не на гумне́ покая́ния:/ но молю́ Тя преве́чнаго де́лателя на́шего Бо́га,/ ве́тром Твоего́ любоблагоутро́бия разве́й пле́ву дел мои́х,/ и пшени́цу даждь души́ мое́й оставле́ние,// в небе́сную Твою́ затворя́я мя жи́тницу, и спаси́ мя.
На 6. Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т?// Я́ко у Тебе́ очище́ние есть.
Стихира: В безгре́шную страну́ и живо́тную вве́рихся,/ посе́яв грех, серпо́м пожа́в кла́сы ле́ности,/ и рукоя́тием связа́в дея́ний мои́х снопы́,/ я́же и постла́х не на гумне́ покая́ния:/ но молю́ Тя преве́чнаго де́лателя на́шего Бо́га,/ ве́тром Твоего́ любоблагоутро́бия разве́й пле́ву дел мои́х,/ и пшени́цу даждь души́ мое́й оставле́ние,// в небе́сную Твою́ затворя́я мя жи́тницу, и спаси́ мя.
Стих: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́,// упова́ душа́ моя́ на Го́спода.
Стихира: Позна́им бра́тие, та́инства си́лу,/ от греха́ бо ко оте́ческому до́му восте́кшаго блу́днаго сы́на/ преблаги́й оте́ц предустре́т лобза́ет,/ и па́ки своея́ сла́вы позна́ние да́рует:/ и та́инственное вы́шним соверша́ет весе́лие,/ закала́я тельца́ упита́ннаго,/ да мы досто́йно сожи́тельствуем,/ закла́вшему же человеколю́бному Отцу́ и сла́вному заколе́нию,// Спа́су душ на́ших.
Стихиры новомучеников, глас 5, подобен: «Ра́дуйся...»:
На 4. Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния,// да упова́ет Изра́иль на Го́спода.
Стихира: Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ правосла́вных удобре́ние,/ новозакла́ннии а́гнцы,/ ве́ры побо́рницы и храни́телие,/ хода́таи о нас к Бо́гу непосты́днии,/ в ле́та после́дняя/ страда́ньми подража́телие пе́рвым му́чеником яви́стеся,/ терпе́ния столпи́ непоколеби́мии,// душа́м на́шим испроси́те ве́лию ми́лость.
Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние,// и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.
Стихира: Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы сла́внии,/ стопа́м после́дующе дре́вних му́ченик,/ ве́ры ра́ди подвиза́стеся тве́рдо/ в лю́тая времена́ земли́ на́шея/ и ны́не всех подвиза́ете к сла́ве и хвале́нию Бо́га,/ укре́пльшаго ва́ше немощно́е естество́/ и обогати́вшаго вас дарова́ньми Ду́ха,// во спасе́ние душ на́ших.
На 2. Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы,// похвали́те Его́ вси лю́дие.
Стихира: Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего ча́ющим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,// подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.
Стихира новомучеников, глас 6, подобен: «Все отло́жше...»:
Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас,// и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.
Стихира: Святи́телю о́тче Ти́хоне,/ архипа́стырю многострада́льне,/ ты в годи́ну лю́тых безбо́жных гоне́ний/ ве́рная ча́да Це́ркве Росси́йския,/ утеша́я, призыва́л еси́/ за Христа́ и ве́ру Правосла́вную му́жественне стоя́ти,/ сам же, по вся дни умира́я за па́ству твою́,/ испове́дник непоколеби́мый яви́лся еси́.// Сего́ ра́ди тя с любо́вию прославля́ем.
Стихира Недели о блудном сыне, глас 2:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
Стихира: О, коли́ких благ окая́нный себе́ лиши́х!/ О, какова́ Ца́рствия отпадо́х стра́стный аз!/ Бога́тство изнури́в, е́же прия́х за́поведь преступи́х./ Увы́ мне, стра́стная душе́!/ Огню́ ве́чному про́чее осу́дишися./ Те́мже пре́жде конца́ возопи́й Христу́ Бо́гу// я́ко блу́днаго приими́ мя сы́на, Бо́же, и поми́луй мя.
Догматик, глас 2:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Догматик: Пре́йде сень зако́нная,/ благода́ти прише́дши:/ я́коже бо купина́ не сгара́ше опаля́ема,/ та́ко Де́ва родила́ еси́,/ и Де́ва пребыла́ еси́./ Вме́сто столпа́ о́гненнаго,/ пра́ведное возсия́ Со́лнце:/ вме́сто Моисе́я, Христо́с,// спасе́ние душ на́ших.
Вход с кади́лом:
Диакон: Прему́дрость, про́сти.
Све́те Ти́хий:
Хор: Све́те Ти́хий святы́я сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́! Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й; те́мже мир Тя сла́вит.
Диакон: Во́нмем.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.
Проки́мен воскре́сный, глас 6:
Диакон: Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас шесты́й: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.
Хор: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. (На каждый стих)
Диакон: Облече́ся Госпо́дь в си́лу, и препоя́сася.
Стих 2: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.
Стих 3: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.
Диакон: Госпо́дь воцари́ся.
Хор: В ле́поту облече́ся.
Парими́и новому́чеников:
Диакон: Прему́дрость.
Чтец: Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние. [2]
Диакон: Во́нмем.
(Из главы 4:)
Чтец: В ты́я дни собра́шася во Иерусали́м кня́зи, ста́рцы, кни́жницы/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́вльше Петра́ и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою, или́ ко́им и́менем исцели́ста хрома́го?/ Петр, испо́лнився Ду́ха Свя́та, рече́:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о чесо́м сей спасе́ся,/ разу́мно бу́ди всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́ном же ино́м спасе́ния./ Несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам./ Ви́дяще же Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново, и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и про́ста, дивля́хуся,/ зна́ху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста./ Ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся друг со дру́гом, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма, ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га, суди́те? Не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люде́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем./ Лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния./ Отпуще́на же бы́вша, приидо́ста к свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре, и вся, я́же в них,/ И́же Ду́хом Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ бы́ти./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,// и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.
Диакон: Прему́дрость.
Чтец: К Тимофе́ю посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
Диакон: Во́нмем.
(Из главы 4:)
Чтец: Ча́до Тимофе́е,/ засвиде́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м,/ хотя́щим суди́ти живы́м и ме́ртвым в явле́нии Его́ и ца́рствии Его́:/ пропове́дуй сло́во,/ насто́й благовре́менне и безвре́менне,/ обличи́, запрети́, умоли́ со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием./ Бу́дет бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́ния не послу́шают,/ но по свои́х по́хотех изберу́т себе́ учи́тели, че́шеми слу́хом,/ и от и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем уклоня́тся./ Ты же трезви́ся о всем, злопостражди́,/ де́ло сотвори́ благове́стника,/ служе́ние твое́ изве́стно сотвори́./ Аз бо уже́ жрен быва́ю,/ и вре́мя моего́ отше́ствия наста́./ По́двигом до́брым подвиза́хся,/ тече́ние сконча́х, ве́ру соблюдо́х./ Про́чее у́бо соблюда́ется мне вене́ц пра́вды,/ его́же возда́ст ми Госпо́дь в день он, пра́ведный Судия́,// не то́кмо же мне, но и всем возлю́бльшим явле́ние Его́.
Диакон: Прему́дрость.
Чтец: Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние.
Диакон: Во́нмем.
(Из главы 11:)
Чтец: Бра́тие,/ и́же ве́рою победи́ша ца́рствия,/ соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния,/ загради́ша уста́ льво́в,/ угаси́ша си́лу о́гненную,/ избего́ша о́стрея меча́,/ возмого́ша от не́мощи,/ бы́ша кре́пцы во бране́х,/ обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х./ Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвых свои́х./ Ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния,/ да лу́чшее воскресе́ние улуча́т./ Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша,/ еще́ же и у́з и темни́ц./ Ка́мением побие́ни бы́ша,/ претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша,/ уби́йством меча́ умро́ша,/ проидо́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах,/ лише́ни, скорбя́ще, озло́блени./ И́хже не бе досто́ин весь мир,/ в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х./ И си́и вси, послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния,/ Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу,// да не без нас соверше́нство прии́мут.
Ектения́ сугу́бая:
Диакон: Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иерей: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Сподо́би, Го́споди:
Хор: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.
Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Ектения́ проси́тельная:
Диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)
Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.
Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена. Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Лития́: (В приходской практике может опускаться)
Поется стихира храма [3] , затем:
Стихира Недели о блудном сыне, глас 2, самогласна:
Стихира: Блу́днаго глас приноша́ю Ти, Го́споди:/ согреши́х пред очи́ма Твои́ма Благи́й,/ расточи́х бога́тство Твои́х дарова́ний.// Но приими́ мя ка́ющася Спа́се, и спаси́ мя.
Стихира Недели о блудном сыне, глас 8:
Стихира: Ижди́х блу́дно/ Оте́ческаго име́ния бога́тство, и расточи́в, пуст бых,/ в страну́ всели́вся лука́вых гра́ждан,/ и ктому́ не терпя́ с ни́ми сожи́тельства,/ обра́щься вопию́ Ти, ще́дрому Отцу́:/ согреши́х на не́бо и пред Тобо́ю,/ и несмь досто́ин нарещи́ся сын Твой./ Сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х, Бо́же,// и поми́луй мя.
Стихира новомучеников, глас 8:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Стихира: Прииди́те, мучениколю́бцы,/ прииди́те, соста́вим лик,/ торжеству́юще и Бо́га прославля́юще/ в ра́достный пра́здник новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ си́и бо не уклони́шася ско́рби,/ ни убоя́шася темни́цы,/ го́рькими рабо́тами, гла́дом и хла́дом изморе́ни/ и многови́дными му́ками умерщвля́еми,/ я́ко а́гнцы незло́бивии, смерть прия́ша./ И ны́не в ра́дости святы́х// мо́лят Триеди́наго Бо́га о земне́м оте́честве свое́м.
Стихира Недели о блудном сыне, глас 4:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Стихира: Я́ко блу́дный сын приидо́х и аз Ще́дре,/ житие́ все ижди́вый во отше́ствии./ Расточи́х бога́тство, е́же дал еси́ мне О́тче:// приими́ мя ка́ющася, Бо́же, и поми́луй мя.
Диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свята́го имяре́к, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор: Го́споди, поми́луй. (40 раз)
Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о господи́не на́шем высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем, о ми́ре, и состоя́нии всего́ ми́ра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем рцем.
Хор: Го́споди, поми́луй. (50 раз)
Диакон: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и свято́му хра́му сему́, и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Диакон: Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Иерей: Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.
Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свята́го имяре́к, егоже есть храм и егоже есть день) и всех святы́х. благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец.
Хор: Ами́нь.
Стихи́ры на стихо́вне:
Стихиры воскресные, глас 2:
Стихира: Воскресе́ние Твое́, Христе́ Спа́се,/ всю просвети́ вселе́нную,/ и призва́л еси́ Твое́ созда́ние:// Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: Госпо́дь воцари́ся,// в ле́поту облече́ся.
Стихира: Дре́вом, Спа́се, упраздни́л еси́,/ ю́же от дре́ва кля́тву,/ держа́ву сме́рти погребе́нием Твои́м умертви́л еси́,/ просвети́л же еси́ род наш воста́нием Твои́м./ Те́мже вопие́м Тебе́:// Животода́вче Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Стих: И́бо утверди́ вселе́нную,// я́же не подви́жится.
Стихира: На кресте́ я́влься, Христе́, пригвожда́емь,/ измени́л еси́ добро́ту зда́ний:/ и безчелове́чие у́бо во́ини показу́юще,/ копие́м ре́бра Твоя́ прободо́ша,/ евре́и же печа́тати гро́ба проси́ша,/ Твоея́ вла́сти не ве́дуще./ Но за милосе́рдие утро́б Твои́х,/ прие́мый погребе́ние, и тридне́вен воскресы́й// Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня,// Го́споди, в долготу́ дний.
Стихира: Животода́вче Христе́, во́лею страсть претерпе́вый сме́ртных ра́ди,/ во ад же снизше́д я́ко си́лен,/ та́мо Твоего́ прише́ствия ожида́ющия,/ исхи́тив я́ко от зве́ря кре́пкаго,/ рай вме́сто а́да жи́ти дарова́л еси́./ Те́мже и нам сла́вящим тридне́вное Твое́ воста́ние,/ да́руй очище́ние грехо́в,// и ве́лию ми́лость.
Стихира новомучеников, глас 2: [4]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Стихира: Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.
Стихира Недели о блудном сыне, глас 6, самогла́сна :
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Стихира: Оте́ческаго да́ра расточи́в бога́тство,/ с безслове́сными скоты́ пасо́хся окая́нный,/ и тех жела́я пи́щи, гла́дом та́ях не насыща́яся,/ но возврати́вся к благоутро́бному Отцу́,/ взыва́ю со слеза́ми:/ приими́ мя я́ко нае́мника// припа́дающа человеколю́бию Твоему́ и спаси́ мя.
Моли́тва свято́го Симео́на Богоприи́мца:
Хор: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко,/ по глаго́лу Твоему́, с ми́ром;/ я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́,/ е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й,/ свет во открове́ние язы́ков,// и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.
Трисвято́е по О́тче наш:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Тропа́рь, глас 4:
Хор: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся,/ Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю:/ благослове́на Ты в жена́х/ и благослове́н Плод чре́ва Твоего́,// я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. (Дважды)
Тропа́рь новому́чеников, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́// до сконча́ния ве́ка.
Благослове́ние хле́бов:
Диакон: Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Иерей: Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия́, пшени́цу, вино́ и еле́й; и умно́жи сия́ во гра́де сем и во всем ми́ре Твое́м; и вкуша́ющия от них ве́рныя освяти́. Я́ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (Трижды)
Псало́м 33:
Хор: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя,/ вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х./ О Го́споде похва́лится душа́ моя́,/ да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся./ Возвели́чите Го́спода со мно́ю,/ и вознесе́м И́мя Его́ вку́пе./ Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя,/ и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя./ Приступи́те к Нему́, и просвети́теся,/ и ли́ца ва́ша не постыдя́тся./ Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и,/ и от всех скорбе́й его́ спасе́ и./ Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́,/ и изба́вит их./ Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь:/ блаже́н муж, и́же упова́ет Нань./ Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́,/ я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́./ Бога́тии обнища́ша и взалка́ша:/ взыска́ющии же Го́спода// не лиша́тся вся́каго бла́га.
Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас, Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Шестопса́лмие:
Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (Трижды)
Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. (Дважды)
Псало́м 3:
Чтец: Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния ему́ в Бо́зе его́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющия ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.
Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.
Псало́м 37:
Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.
Псало́м 62:
Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.
На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 87:
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой а́ду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.
Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.
Псало́м 102:
Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам. Я́ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е его́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
На вся́ком ме́сте влады́чествия Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода.
Псало́м 142:
Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щим в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющия души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
После Шестопсалмия
Вели́кая ектения́:
Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй. (На каждое прошение)
Диакон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.
О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.
О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.
О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.
О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.
О гра́де сем (или: О ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.
О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.
О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.
О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.
Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Бог Госпо́дь, глас 2:
Диакон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.
(И далее на каждый стих)
Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.
Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.
Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.
Тропа́рь воскре́сный, глас 2:
Хор: Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь новому́чеников, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́// до сконча́ния ве́ка.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богоро́дичен воскре́сный, глас 4:
Е́же от ве́ка утае́ное/ и а́нгелом несве́домое та́инство,/ Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог,/ в несли́тном соедине́нии воплоща́емь,/ и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м,/ и́мже воскреси́в первозда́ннаго,// спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.
Кафи́змы: (В приходской практике могут опускаться, или сокращаться)
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма втора́я:
Псало́м 9:
Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. Я́ко сотвори́л еси́ суд мой и прю мою́, сел еси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л еси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя его́ потреби́л еси́ в век и в век ве́ка. Врагу́ оскуде́ша ору́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л еси́, поги́бе па́мять его́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил еси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. Зна́емь есть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ свое́ю увязе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь есть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь есть. Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются путие́ его́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ его́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, его́же кля́твы уста́ его́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком его́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, е́же уби́ти непови́ннаго, о́чи его́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т е́же восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. Смири́т его́, преклони́тся и паде́т, внегда́ ему́ облада́ти убо́гими. Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен есть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех его́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал еси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.
Псало́м 10:
На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л еси́, они́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, о́чи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́ческия. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, огнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 11:
Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́етная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшия: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь есть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил еси́ сы́ны челове́ческия.
Псало́м 12:
Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ о́чи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.
Псало́м 13:
Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́ческия, ви́дети, а́ще есть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до еди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние его́ есть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 14:
Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не сотвори́ и́скреннему своему́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н есть пред ним лука́внуяй, боя́щия же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему своему́ и не отмета́яся. Сребра́ своего́ не даде́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век.
Псало́м 15:
Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой еси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не соберу́ собо́ры их от крове́й, ни помяну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния моего́ и ча́ши моея́, Ты еси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно есть мне. Благословлю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, еще́ же и до но́щи наказа́ша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Сего́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, еще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ниже́ да́си преподо́бному Твоему́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми еси́ пути́ живота́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, красота́ в десни́це Твое́й в коне́ц.
Псало́м 16:
Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вонми́ моле́нию моему́, внуши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Твоего́ судьба́ моя́ изы́дет, о́чи мои́ да ви́дита правоты́. Искуси́л еси́ се́рдце мое́, посети́л еси́ но́щию, искуси́л мя еси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за словеса́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Соверши́ стопы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся стопы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя еси́, Бо́же, приклони́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Удиви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющия на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохрани́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу о́ка, в кро́ве крилу́ Твое́ю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, врази́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, о́чи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Воскресни́, Го́споди, предвари́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, ору́жие Твое́ от враг руки́ Твоея́, Го́споди, от ма́лых от земли́, раздели́ я́ в животе́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцем свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Твоему́, насы́щуся, внегда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Седа́льны воскре́сные, глас 2:
Благообра́зный Ио́сиф,/ с дре́ва снем Пречи́стое Твое́ те́ло,/ плащани́цею чи́стою обви́в,/ и благоуха́ньми во гро́бе но́ве закры́в положи́,/ но тридне́вен воскре́сл еси́, Го́споди,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.
Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́,// не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.
Мироно́сицам жена́м при гро́бе предста́в а́нгел вопия́ше:/ ми́ра ме́ртвым суть прили́чна,/ Христо́с же истле́ния яви́ся чуждь./ Но возопи́йте: воскре́се Госпо́дь,// подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Вся па́че смы́сла,/ вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства,/ чистоте́ запеча́танной и де́вству храни́му,/ Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна,/ Бо́га ро́ждши И́стиннаго;// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Кафи́зма тре́тья:
Псало́м 17:
Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Мой, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо́гом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щия на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящия мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Сего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени его́ до ве́ка.
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 18:
Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́ши, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.
Псало́м 19:
Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит его́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.
Псало́м 20:
Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца его́ дал еси́ ему́, и хоте́ния устну́ его́ не́си лиши́л его́. Я́ко предвари́л еси́ его́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ его́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ ему́ долготу́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва его́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си ему́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши его́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящия Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и снесть их огнь. Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.
Чтец: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Хор: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Чтец: И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Псало́м 21:
Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упова́ на Го́спода, да изба́вит его́, да спасе́т его́, я́ко хо́щет его́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.
Псало́м 22:
Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя, на воде́ поко́йне воспита́ мя. Ду́шу мою́ обрати́, наста́ви мя на стези́ пра́вды, и́мене ра́ди Своего́. А́ще бо и пойду́ посреде́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ предо мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющим мне, ума́стил еси́ еле́ом главу́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни живота́ моего́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в долготу́ дний.
Псало́м 23:
Госпо́дня земля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему своему́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са своего́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих лице́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те врата́ кня́зи ва́ша, и возми́теся врата́ ве́чная, и вни́дет Царь сла́вы. Кто есть сей Царь сла́вы? Госпо́дь сил, Той есть Царь сла́вы.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Седа́льны воскре́сные, глас 2:
Ка́мень гро́бный запеча́тати не возбрани́в,/ ка́мень ве́ры воскре́с по́дал еси́ всем,// Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м,/ пове́м вся чудеса́ Твоя́.
Ученико́в Твои́х лик с мироно́сицами жена́ми ра́дуется согла́сно:/ о́бщий бо пра́здник с ни́ми пра́зднуют,/ в сла́ву и честь Твоего́ Воскресе́ния./ И те́ми вопие́м Ти, Человеколю́бче Го́споди:// лю́дем Твои́м пода́ждь ве́лию ми́лость.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ смерть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.
После кафизм:
Полиеле́й:
Хор: Хвали́те И́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.
Псало́м 136:
На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа.
На ве́рбиих посреде́ его́ обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа.
Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа.
Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа.
Ка́ко воспое́м пе́снь Госпо́дню на земли́ чужде́й? Аллилу́иа.
А́ще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа.
Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. Аллилу́иа.
Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа.
Дщи́ Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. Аллилу́иа.
Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.
Велича́ние новому́чеников и избранный псалом:
Духове́нство: Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.
Хор поет первый стих Избранного псалма:
Хор: Бог нам прибе́жище и си́ла./
Затем хор поет Величание:
Хор: Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ и чтим честна́я страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́// претерпе́ли есте́.
И далее хор продолжает чередовать стихи Избранного псалма и Величание:
Хор: Помо́щник в ско́рбех обре́тших ны зело́:/ Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́./ Бо́же, кто уподо́бится Тебе́? Да не премолчи́ши, ниже́ укроти́ши Бо́же./ Я́ко се врази́ Твои́ возшуме́ша, и ненави́дящии Тя воздвиго́ша главу́./ На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совеща́ша на святы́я Твоя́./ Положи́ша тру́пия рабо́в Твои́х бра́шно пти́цам небе́сным,/ Пло́ти преподо́бных Твои́х звере́м земны́м./ Пролия́ша кро́вь их я́ко во́ду./ Я́ко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми есмы́ весь де́нь./ Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния./ Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех./ И бых я́звен весь день./ Разже́гл еси́ ны, я́коже разжиза́ется сребро́./ Проидо́хом сквозе́ огнь и во́ду, и изве́л еси́ нас в поко́й./ Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся пра́веднии./ Я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных,/ И насле́дие их в век бу́дет./ Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их./ Свет возсия́ пра́веднику, и пра́вым се́рдцем весе́лие./ В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник./ Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них./ Ди́вен Бог во святы́х Свои́х./ Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр и́же в Лива́не, умно́жится./ Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде, и упова́ет на Него́.// И похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.
Тропари́ воскре́сные, глас 5:
Хор: Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
А́нгельский собо́р удиви́ся,/ зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася,/ сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша,/ и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша,// и от а́да вся свобо́ждша.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми,/ о учени́цы растворя́ете?/ Блиста́яйся во гро́бе а́нгел/ мироно́сицам веща́ше:/ ви́дите вы гро́б и уразуме́йте,// Спас бо воскре́се от гро́ба.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху/ ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия,/ но предста́ к ним а́нгел, и рече́:/ рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите,// воскресе́ние же апо́столом рцы́те.
Благослове́н еси́, Го́споди,/ научи́ мя оправда́нием Твои́м./
Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дша/ ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху,/ а́нгел же к ним рече́, глаго́ля:/ что с ме́ртвыми Жива́го помышля́ете?// Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/
Поклони́мся Отцу́,/ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху,/ Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с серафи́мы зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./
Жизнода́вца ро́ждши,/ греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́,/ ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́;/ па́дшия же от жи́зни/ к сей напра́ви,// из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа,// сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Благослови́ся И́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Ипакои́, глас 2:
По стра́сти ше́дша во гроб жены́,/ во е́же пома́зати те́ло Твое́, Христе́ Бо́же,/ ви́деша а́нгелы во гро́бе, и ужасо́шася:/ глас бо слы́шаху от них, я́ко воскре́се Госпо́дь,// да́руя ми́рови ве́лию ми́лость.
Седа́льны:
Седальны новомучеников, глас 4:
Новому́ченицы Росси́йстии,/ кро́вию свое́ю ве́ру запечатле́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ Це́рковь Ру́сскую в Правосла́вии утверди́ти,/ зе́млю на́шу от скверн очи́стити,/ лю́ди во благоче́стии сохрани́ти// во о́бщее всех спасе́ние.
И́же в земли́ Росси́йстей новому́ченик и испове́дник Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Ру́сская украси́вшися, Христе́ Бо́же, те́ми вопие́т Ти:/ лю́дем щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.
Седален новомучеников, глас 6:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими,/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник// ны́не соверша́еши све́тло.
Богородичен из Минеи, глас 8:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х Тя без се́мени ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́, и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти,// покланя́ющимся ве́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.
Степе́нна, глас 2:
1 антифо́н:
Хор: На не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, к Тебе́, Спа́се,// спаси́ мя Твои́м осия́нием. (Дважды)
Поми́луй нас согреша́ющих Тебе́ мно́го,/ на вся́кий час, о Христе́ мой,// и даждь о́браз пре́жде конца́ пока́ятися Тебе́. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свято́му Ду́ху, Е́же ца́рствовати подоба́ет,/ освяща́ти, подвиза́ти тварь:// Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.
2 антифо́н:
А́ще не Госпо́дь бы был в нас,/ кто дово́лен цел сохране́н бы́ти от врага́,// ку́пно и человекоуби́йцы? (Дважды)
Зубо́м их не преда́ждь, Спа́се, Твоего́ раба́:// и́бо льво́вым о́бразом на мя подвиза́ются врази́ мои́. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь:/ вся бо созда́нная,/ я́ко Бог сый си́лою,// соблюда́ет во Отце́, Сы́ном же.
3 антифо́н:
Наде́ющиися на Го́спода, уподо́бишася горе́ святе́й:// и́же ника́коже дви́жутся прило́ги вра́жиими. (Дважды)
В беззако́нии рук свои́х да не про́струт боже́ственне живу́щии:// не оставля́ет бо Христо́с жезла́ на жре́бии Свое́м. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость:/ отсю́ду благода́ть апо́столом,// и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, и проро́цы зрят.
Проки́мен и чте́ние Ева́нгелия:
Диакон: Во́нмем. Прему́дрость во́нмем. Проки́мен, глас вторы́й: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,/ и сонм люде́й обы́дет Тя.
Хор: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,/ и сонм люде́й обы́дет Тя.
Диакон: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.
Хор: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,/ и сонм люде́й обы́дет Тя.
Диакон: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́,/
Хор: И сонм люде́й обы́дет Тя.
Диакон: Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Иерей: Я́ко Свят еси́ Бо́же наш и во святы́х почива́еши и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Диакон: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Диакон: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Диакон: Вся́кое дыха́ние.
Хор: Да хва́лит Го́спода.
Диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию Свята́го Ева́нгелия, Го́спода Бо́га мо́лим.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим Свята́го Ева́нгелия.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.
Иерей: От Ма́рка Свята́го Ева́нгелия чте́ние.
Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Диакон: Во́нмем.
Ева́нгелие у́треннее воскре́сное 2-е (Мк., зач. 70: гл.16, стт.1-8):
Иерей: Во вре́мя о́но, мину́вши суббо́те, Мари́а Магдали́на и Мари́а Иа́ковля и Саломи́а купи́ша арома́ты, да прише́дша пома́жут Иису́са. И зело́ зау́тра во еди́ну от суббо́т приидо́ша на гроб, возсия́вшу со́лнцу, и глаго́лаху к себе́: кто отвали́т нам ка́мень от две́рий гро́ба? И воззре́вша ви́деша, я́ко отвале́н бе ка́мень: бе бо ве́лий зело́. И вше́дша во гроб, ви́деша ю́ношу седя́ща в десны́х, оде́яна во оде́жду белу́: и ужасо́шася. Он же глаго́ла им: не ужаса́йтеся: Иису́са и́щете Назаряни́на распя́таго: воста́, несть зде: се, ме́сто, иде́же положи́ша Его́: но иди́те, рцы́те ученико́м Его́ и Петро́ви, я́ко варя́ет вы в Галиле́и: та́мо Его́ ви́дите, я́коже рече́ вам. И изше́дша бежа́ша от гро́ба: имя́ше же их тре́пет и у́жас: и ни кому́же ничто́же ре́ша: боя́ху бо ся.
По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.
И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца,
и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?
И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.
И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.
Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.
Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.
И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
Хор: Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
После Евангелия:
Воскре́сная песнь по Ева́нгелии, глас 6:
Хор: Воскресе́ние Христо́во ви́девше,/ поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су,/ еди́ному безгре́шному,/ Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́,/ и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем,/ и́мя Твое́ имену́ем./ Прииди́те вси ве́рнии,/ поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию:/ се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру./ Всегда́ благословя́ще Го́спода,/ пое́м Воскресе́ние Его́:/ распя́тие бо претерпе́в,// сме́ртию смерть разруши́.
Псало́м 50:
Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския, тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
После 50 псалма:
Глас 8:
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху./ Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче,/ у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́,/ храм нося́й теле́сный весь оскверне́н:/ но я́ко щедр, очи́сти// благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь./ На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице,/ сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́,/ и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х:/ но Твои́ми моли́твами// изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.
Глас 6:
Поми́луй мя, Бо́же,/ по вели́цей ми́лости Твое́й,/ и по мно́жеству щедро́т Твои́х// очи́сти беззако́ние мое́.
Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный,/ трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго:/ но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́,/ я́ко Дави́д вопию́ Ти:/ поми́луй мя, Бо́же,// по вели́цей Твое́й ми́лости.
Диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мир Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Сил безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О́льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших: святи́теля Михаи́ла, пе́рвого митрополи́та Ки́евскаго, первосвяти́телей Моско́вских и всея́ Руси́: Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Мака́рия, Фили́ппа, И́ова, Ермоге́на и Ти́хона, митрополи́тов Моско́вских Филаре́та, Инноке́нтия и Мака́рия. Святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, новому́чеников и испове́дников Це́ркве Ру́сския: Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго, Вениами́на, митрополи́та Петрогра́дского, Петра́, митрополи́та Крути́цкаго, Иларио́на, архиепи́скопа Вере́йскаго, святы́х ца́рственных страстоте́рпцев, преподобному́чениц вели́кия княги́ни Елисаве́ты и и́нокини Варва́ры, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, преподо́бных оте́ц ста́рцев О́птинских, святы́х пра́ведных Иоа́нна Кроншта́дтскаго и Алекси́я Моско́вскаго, святы́х блаже́нных Ксе́нии Петербу́ржския и Матро́ны Моско́вския, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны (и свята́го имяре́к, егоже есть храм и егоже есть день) и всех святы́х. Мо́лим Тя, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас.
Хор: Го́споди, поми́луй. (12 раз)
Иерей: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Кано́н: (обычно читается в сокращении)
Песнь 1:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла;/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь,// сла́вно бо просла́вися.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Мирски́й князь Бла́же, ему́же написа́хомся,/ за́поведи Твоея́ не послу́шавше, кресто́м Твои́м осуди́ся:/ прирази́ся бо Ти я́ко сме́ртну:/ отпаде́ же вла́сти Твоея́ держа́вою,// и немощны́й обличи́ся.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Изба́витель ро́да челове́ческаго,/ и нетле́нному животу́ Нача́льник/ в мир прише́л еси́:/ Воскресе́нием бо Твои́м раздра́л еси́ сме́ртныя пелены́,// Е́же славосло́вим вси: сла́вно бо просла́вися.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Превы́шши яви́лася еси́, Чи́стая Присноде́во,/ вся́кия неви́димыя же и ви́димыя тва́ри:/ Зижди́теля бо родила́ еси́,/ я́ко благоволи́ воплоти́тися во утро́бе Твое́й,// Его́же со дерзнове́нием моли́, спасти́ ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Невеще́ственная дре́вле ле́ствица,/ и стра́нно оледене́вший путь мо́ря,/ Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,// е́же пое́м вси: я́ко просла́вися.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Си́ла Вы́шняго, Ипоста́сь Соверше́нная, Бо́жия Му́дрость,/ вопло́щшися, Пречи́стая, из Тебе́,// к челове́ком бесе́дова: я́ко просла́вися.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. [5]
Тропарь: Иису́се Бо́же, ка́ющася приими́ ны́не и мене́,/ я́ко блу́днаго сы́на, все житие́ в ле́ности жи́вша,// и Тебе́ прогне́вавша.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Е́же ми дал еси́ пре́жде,/ зле расточи́х Боже́ственное бога́тство,/ удали́хся от Тебе́, блу́дно жив:// благоутро́бне О́тче, приими́ у́бо и мене́ обраща́ющася.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Объя́тия ны́не Оте́ческая просте́р,/ приими́ Го́споди и мене́, я́коже блу́днаго, Всеще́дре,// я́ко да благода́рно просла́влю Тя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: На мне Бо́же, всю показа́в благосты́ню,/ пре́зри мои́х мно́жество согреше́ний, я́ко благоде́тель,// боже́ственными Ма́тере Твоея́ мольба́ми.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Го́споди, Бо́же наш, при́сно прославля́яй вся святы́я,/ ны́не и нас, недосто́йных, сподо́би сыно́вне просла́вити святы́х сро́дников на́ших,// новому́чеников и испове́дников Росси́йских.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Кровьми́ ва́шими, священному́ченицы, я́ко в Чермне́м мо́ри, потопи́ли есте́ безбо́жныя мучи́тели,/ Це́рковь же Ру́сская, ва́ми крася́щися,// похвалы́ побе́дныя, я́ко земля́ обетова́нная мед и млеко́, вам источа́ет.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Егда́ даде́ся вам благода́ть не то́чию во Христа́ ве́ровати,/ но и по Нем страда́ти,/ немо́кренно пучи́ну кро́вных мук проидо́сте, святи́и му́ченицы,/ ве́рным сыново́м росси́йским о́браз я́вльше,// и со дерзнове́нным испове́данием во врата́ Небе́сная внидо́сте.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Приими́ песнь хвале́бную, от недосто́йных уст возноси́мую,// препросла́вленная Ма́ти Бо́жия.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Су́шу глубороди́тельную зе́млю/ со́лнце наше́ствова иногда́:/ я́ко стена́ бо огусте́ обапо́лы вода́/ лю́дем пешемореходя́щим, и богоуго́дно пою́щим:// пои́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.
Песнь 3:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Процвела́ есть пусты́ня, я́ко крин, Го́споди,/ язы́ческая неплодя́щая це́рковь,/ прише́ствием Твои́м,// в не́йже утверди́ся мое́ се́рдце.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Тварь в стра́сти Твое́й изменя́шеся,/ зря́щи Тя в нище́тне о́бразе от беззако́нных поруга́ема,// основа́вшаго вся Боже́ственным манове́нием.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: От пе́рсти по о́бразу мя руко́ю Твое́ю созда́л еси́:/ и сокруше́нна па́ки в персть сме́ртную за грех,// Христе́ соше́д во ад, совоскреси́л еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Чи́ни удиви́шася а́нгельстии, Пречи́стая,/ и челове́ческая устраши́шася сердца́ о Рождестве́ Твое́м:// те́мже Тя, Богоро́дицу, ве́рою чтим.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: И́же вре́мене превы́шший вся́каго,/ я́ко вре́менем Творе́ц,// из Тебе́, Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Чре́во простра́ннейшее небе́с воспои́м,// и́мже Ада́м на небесе́х ра́дуяся, живе́т.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Весь вне быв себе́,/ умовре́дно прилепи́хся страсте́й обрета́телем:// но приими́ мя, Христе́, я́коже блу́днаго.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Блу́днаго гла́су поревнова́в, вопию́:/ согреши́х, О́тче, я́коже о́наго у́бо,// и мене́ обыми́ ны́не, и не отри́ни мене́.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Объя́тия Твоя́ просте́р Христе́,/ ми́лостивно приими́ мя,// от страны́ да́льныя греха́ и страсте́й обраща́ющася.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: До́брая в жена́х, обогати́ и мене́ до́брых ви́ды,/ грехи́ мно́гими обнища́вшаго Чи́стая,// я́ко да сла́влю Тя.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Егда́ бу́ря нече́стия на Це́рковь Ру́сскую воздви́жеся,/ вы, святи́и новому́ченицы, страда́ньми ва́шими со тща́нием укроти́сте ю/ и по́двиги ва́шими Правосла́вие утверди́сте.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Му́ки ве́лия за Це́рковь Христо́ву претерпе́сте, святи́и новому́ченицы,/ моли́те утверди́тися ей незы́блемей и непоколеби́мей до сконча́ния ве́ка.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Страда́ньми и испове́данием Христа́, святи́и сро́дницы на́ши,/ вше́дше в Небе́сная селе́ния, я́ко дре́вле Изра́иль в зе́млю обетова́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в любви́ сохраня́йте моли́твами ва́шими.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Небе́сных круго́в вы́шшая/ и сла́вою Боже́ственною преукраше́нная, Де́во Ма́ти Бо́жия,/ спаси́ ду́ши на́ша.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся,/ утверди́, Го́споди, Це́рковь,/ Ю́же стяжа́л еси́// честно́ю Твое́ю Кро́вию.
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Ты еси́ Бог наш и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Конда́к новому́чеников, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь...»:
Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию/ и со А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и си́ла, и кре́пость/ на́шему Бо́гу// во ве́ки веко́в. Ами́нь.
И́кос:
Кра́сный ли́че, светоза́рнии и боже́ственнии свети́льницы,/ Све́ту вели́кому предстоя́ще при́сно, богоблаже́ннии му́ченицы,/ и отту́ду испуща́емыми невече́рняго Божества́ сия́нии, всегда́ просвеща́еми и обожа́еми,/ ве́рою па́мять ва́шу соверша́ющия боже́ственную просвети́те,/ и омраче́ния и страсте́й и бед и зло́бы изба́вите,// моля́щеся непреста́нно о всех нас.
Седа́лен новому́чеников, глас 2:
Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ му́ченически по́прище земно́е сконча́вшии и страда́ньми дерзнове́ние ко Го́споду приобре́тшии,/ моли́теся Ему́, вас укре́пльшему,/ да и мы, егда́ на́йдет на ны испыта́ния час,// му́жества дар Бо́жий восприи́мем. (Дважды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Седа́лен Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1, подо́бен: «Гроб Твой...»:
Объя́тия О́тча отве́рсти ми потщи́ся,/ блу́дно ижди́х мое́ житие́,/ на бога́тство неиждива́емое взира́яй щедро́т Твои́х Спа́се,/ ны́не обнища́вшее мое́ се́рдце не пре́зри./ Тебе́ бо Го́споди, во умиле́нии зову́:// согреши́х, О́тче, на не́бо и пред Тобо́ю.
Песнь 4:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щься,/ и спасл еси́ всего́ мя челове́ка./ Тем зову́ Ти:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Предстои́ши суди́щу я́ко суди́мь, Бо́же мой,/ не вопия́ Влады́ко, суд износя́ язы́ком:/ и́мже стра́стию Твое́ю, Христе́// вселе́нней соде́лал еси́ Спасе́ние.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Стра́стию Твое́ю, Христе́,/ врагу́ оскуде́ша ору́жия,/ проти́вным же е́же во ад схожде́нием Твои́м, гра́ды разруши́шася,// и мучи́телева де́рзость низложе́на бысть.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Тя приста́нище спасе́ния, и сте́ну недви́жиму,/ Богоро́дице Влады́чице, вси ве́рнии све́мы:// Ты бо моли́твами Твои́ми избавля́еши от бед ду́ши на́ша.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Се превознесе́ся Боже́ственная Гора́ до́му Госпо́дня,// превы́шше сил, Богома́терь я́вственнейше.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Зако́нов есте́ственных кроме́,/ Еди́на Де́во ро́ждши влады́чествующаго тва́рию,// сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Бога́тство благи́х, е́же дал ми еси́ Небе́сный О́тче,/ расточи́х зле, стра́нным гра́жданом порабоще́н./ Те́мже вопию́ Ти: согреши́х Ти,/ приими́ мя я́ко блу́днаго дре́вле,// просте́р объя́тия мне Твоя́.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Вся́кой зло́бе порабо́тихся,/ прини́кнув окая́нно страсте́й де́лателем,/ и себе́ вне бых несмотре́нием,/ уще́дри мя Спа́се, Пренебе́сный О́тче,// прибега́юща ко мно́гим Твои́м щедро́там.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Вся́каго студа́ испо́лнихся,/ не сме́я воззре́ти на высоту́ небе́сную:/ и́бо безслове́сно прини́кнув греху́,/ ны́не же обра́щься вопию́ умиле́нием:// согреши́х Ти, приими́ мя, Всецарю́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Челове́ком по́моще, упова́ние тве́рдое всем христиа́ном,/ прибе́жище Чи́стая спаса́емым:/ спаси́ мя Де́во, ма́терними Твои́ми мольба́ми,// и бу́дущия жи́зни сподо́би.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Всем конце́м земли́ яви́ся чу́до смотре́ния Твоего́, Влады́ко,/ кро́вию бо новому́ченик, я́ко водо́ю, угаси́л еси́ в Росси́йстей земли́ пла́мень нече́стия и развраще́ния// и спасл еси́ лю́ди Твоя́.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Сла́ву Бо́жию унасле́довасте, новому́ченицы, просия́вшии в земли́ на́шей,/ отве́ргшеся бо себе́ и страх сме́ртный препобеди́вше,// любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти му́жественне сохрани́ли есте́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: По́двигом до́брым подвиза́вшиися, святи́и новому́ченицы Росси́йстии,/ к покая́нию и доброде́тельному житию́ подви́гните на́с,// да и мы ва́шими моли́твами сподо́бимся прославля́ти Го́спода во Ца́рствии Его́.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: На Твой наде́ющеся покро́в, Ма́ти Бо́жия,// со святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими прославля́ем милосе́рдие Твое́.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Покры́ла есть Небеса́ доброде́тель Твоя́, Христе́,/ из киво́та бо проше́д святы́ни Твоея́ нетле́нныя Ма́тере,/ в хра́ме сла́вы Твоея́ яви́лся еси́/ я́ко Младе́нец руконоси́м,// и испо́лнишася вся́ Твоего́ хвале́ния.
Песнь 5:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком был еси́, Христе́ Бо́же;/ Тобо́ю, бо Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́,/ от но́щи неве́дения// приведе́ние и́мамы.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Я́ко ке́дры, Христе́, язы́ков шата́ние сокруши́л еси́ во́лею, Влады́ко:/ я́ко изво́лил еси́ на кипари́се, и на пе́вке, и ке́дре,// пло́тию совозвыша́емь.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: В ро́ве, Христе́, преиспо́днем положи́ша Тя бездыха́нна ме́ртва:/ но Твое́ю я́звою забве́нныя ме́ртвыя, и́же во гробе́х спя́щия, уя́звен// с Собо́ю воскреси́л еси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Моли́ Сы́на Твоего́ и Го́спода, Де́во Чи́стая,/ на Тя упова́ющим мир дарова́ти, плене́нным избавле́ние,// от сопроти́вных настоя́ний.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: О́блацы весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́:/ я́ко Отроча́ даде́ся,/ И́же сый пре́жде век,// от Де́вы вопло́щься Бог наш.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́,/ и дря́хлость греха́ разруши́:// напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щься Вы́шний.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Порабо́тихся гра́жданом стра́нным,/ и в страну́ тлетво́рную отыдо́х, и испо́лнихся студа́:// ны́не же обраща́яся зову́ Ти Ще́дре, согреши́х.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Оте́ческая Твоя́ благоутро́бия ны́не отве́рзи ми,/ от злых обрати́вшуся, Небе́сный О́тче,// и не отри́ни мене́, име́яй премно́гую ми́лость.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Не сме́ю воззре́ти горе́ на высоту́,/ без числа́ Христе́ прогне́вав Тя:/ но ве́дый Твоя́ щедро́ты ми́лостивныя, взыва́ю:// согреши́х Ти, очи́сти, и спаси́ мя.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Всесвята́я Де́во благода́тная,/ очище́ние всем ро́ждшая,/ мои́х согреше́ний тя́жкое бре́мя// Твои́ми моли́твами облегчи́.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Дерзнове́нно, святи́и, испове́дали есте́ Го́спода пред отсту́пники и гони́тели:/ с на́ми Бог, взыва́юще, разуме́йте и покаря́йтеся,// стра́ха ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с на́ми Бог.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святи́и новому́ченицы Росси́йстии,/ лю́ди богобо́рныя, враждо́ю и уби́йствы ды́шущия,// и мир стране́ на́шей и ве́рным лю́дем да́руйте.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Предстоя́ще Христу́, власть иму́щу суди́ти всему́ ми́ру,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ очи́стите нас от грехо́в на́ших моли́твами ва́шими,// да не с ми́ром осужде́ни бу́дем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яния злых,/ не мо́жем терпе́ти ско́рби своея́, взыва́ху новому́ченицы,/ Ты же, Богороди́тельнице, просте́рла еси́ им покро́в Свой// и спасла́ еси́ от сете́й вра́жиих.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Я́ко ви́де Иса́ия обра́зно/ на престо́ле превознесе́на Бо́га,/ от а́нгел сла́вы дориноси́ма,/ о, окая́нный, — вопия́ше, — аз:/ прови́дех бо воплоща́ема Бо́га,// Све́та Невече́рня, и ми́ром влады́чествующа.
Песнь 6:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:// от тли Бо́же, мя возведи́.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Я́ко злоде́й Пра́ведник осуди́ся/ и со беззако́нными на дре́ве пригвозди́ся,// пови́нным оставле́ние Свое́ю да́руя кро́вию.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Еди́нем у́бо челове́ком,/ пе́рвым Ада́мом дре́вле в мир вни́де смерть,// и Еди́нем Воскресе́ние Сы́ном Бо́жиим яви́ся.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Неискусому́жно, Де́во, родила́ еси́,/ и ве́чнуеши Де́ва, явля́ющи И́стиннаго Божества́,// Сы́на и Бо́га Твоего́ о́бразы.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Естество́ челове́ческое рабо́тающее греху́,/ Влады́чице Чи́стая, Тобо́ю свобо́ду улучи́:// Твой бо Сын, я́ко а́гнец, за всех закала́ется.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери,/ прогне́вавшия рабы́ изба́ви:// Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Глубина́ согреше́ний содержи́т мя при́сно,/ и треволне́ние грехо́в погружа́ет мя:/ окорми́ мя ко приста́нищу жи́зни, Христе́ Бо́же,// и спаси́ мя Царю́ сла́вы.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Бога́тство Оте́ческое расточи́х лю́те,/ и обнища́в студа́ испо́лнихся,/ порабоще́н непло́дными помышле́ньми./ Те́мже Ти вопию́:// Человеколю́бче уще́дри, и спаси́ мя.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Гла́дом иста́явша вся́ких благ,/ и устрани́вшася от Тебе́ Всеблаги́й,/ уще́дри обраща́ющася мя ны́не,// и спаси́ Христе́, пою́ща Твое́ человеколю́бие.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Спа́са и Влады́ку ро́ждшая Христа́,/ спасе́ния мя Отрокови́це сподо́би,/ обнища́вша от вся́ких благ, Де́во Чи́стая,// да пою́ Твоя́ вели́чия.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Во́лны безбо́жнаго нече́стия тща́хуся потопи́ти кора́бль Це́ркве Ру́сския,/ Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спасл еси́ ше́ствующия на нем моли́твами страстоте́рпцев Росси́йских, вопию́щих:// Го́споди Сил, из смертоно́сныя глубины́ возведи́ ны.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Безбо́жнии Ка́иновы вну́цы святы́ни церко́вныя поруга́нию и огню́ преда́ша,/ оби́тели разори́ша, хра́мы я́ко ово́щная храни́лища соде́яша,/ христолюби́выя лю́ди в темни́цы заключи́ша и уму́чиша./ Вы же, страстоте́рпцы, с любо́вию учи́ли есте́:// сие́ бысть по грехо́м на́шим, лю́дие, пока́йтеся.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Увы́ нам, увы́, вопия́ху испове́дницы Росси́йстии,/ ви́дяще, я́ко безу́мнии богобо́рцы святы́ни земли́ на́шея разори́ша,/ оби́тели я́ко узи́лища темни́чная соде́яша,/ хра́мы Бо́жии в скве́рная и позо́рищная места́ обрати́ша/ и кровь христиа́нскую в них пролия́ша./ Сего́ ра́ди опустоши́шася сердца́ нечести́вых// и живо́т их а́ду прибли́жися.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Изведи́ нас из ро́ва поги́бели/ и уврачу́й на́ша грехо́вныя я́звы, Пресвята́я Ма́ти Де́во,// да неосужде́нно сподо́бимся при́сно прославля́ти новому́ченики Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Возопи́ к Тебе́ ви́дев ста́рец очи́ма спасе́ние,/ е́же лю́дем прии́де от Бо́га,// Христе́, Ты Бог мой.
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Ты бо еси́ Царь ми́ра и Спас душ на́ших и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Конда́к Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 3, подо́бен: «Де́ва днесь...»:
Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно,/ в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство./ Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́:/ согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый,/ приими́ мя ка́ющася// и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.
И́кос:
Спа́су на́шему на всяк день уча́щу Свои́м гла́сом,/ писа́ния услы́шим о блу́дном, и целому́дренном па́ки./ И сего́ ве́рою подража́ем до́брое покая́ние,/ Ве́дущему та́йная всех, смире́нием се́рдца воззове́м:/ согреши́хом Ти, О́тче ще́дрый,/ и никогда́же досто́йни есмы́ нарещи́ся ча́да, я́коже пре́жде./ Но я́ко естество́м сый человеколюби́в, Ты приими́,// и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.
Песнь 7:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Богопроти́вное веле́ние/ беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть;/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,// Сый благослове́н и препросла́влен.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Не терпе́л еси́, Влады́ко, за благоутро́бие/ сме́ртию челове́ка зре́ти му́чима,/ но прише́л и спасл еси́ Твое́ю кро́вию, челове́к быв:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог оте́ц на́ших.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Ви́девше Тя, Христе́, оболче́на во оде́жду отмще́ния,/ ужасо́шася вра́тницы а́довы:/ безу́мнаго бо мучи́теля раба́, Влады́ко, прише́л еси́ уби́ти:// Сый благослове́н и Препросла́влен, Бог оте́ц на́ших.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Святы́х Святе́йшую Тя разуме́ем,/ я́ко Еди́ну ро́ждшую Бо́га Непреме́ннаго,/ Де́во Нескве́рная, Ма́ти Безневе́стная:/ всем бо ве́рным источи́ла еси́ нетле́ние,// Боже́ственным Рождество́м Твои́м.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Зря́ще в нощи́ у́бо Иа́ков,/ я́ко в гада́нии Бо́га воплоще́нна,/ из Тебе́ же све́тлостию яви́ся пою́щим:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Зна́мения я́же в Тебе́, неизрече́ннаго проявля́я сня́тия, со Иа́ковом бо́рется:/ и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая:// Пребоже́ственный отце́в Бог, и Препросла́влен.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Сла́достем теле́сным приклони́хся всеокая́нно,/ и порабо́тихся весьма́ стра́стным изобре́тением,/ и стра́нен бых от Тебе́ Человеколю́бче./ Ны́не же зову́ блу́днаго гла́сом:// согреши́х Христе́, не пре́зри мене́, я́ко еди́н ми́лостив.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Взыва́ю, согреши́х, ника́коже воззре́ти дерза́я на высоту́ небе́сную, Всецарю́,/ я́ко в безу́мии еди́н Тя прогне́вах,/ отве́ргся Твои́х повеле́ний./ Те́мже я́ко еди́н Благи́й,// не отве́ржи мене́ от Твоего́ лица́.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Апо́стол, Го́споди, и проро́к, и преподо́бных,/ и честны́х му́ченик, и пра́ведных мольба́ми/ прости́ ми вся, я́же согреши́х,/ прогне́вав Христе́ бла́гость Твою́,// я́ко да песносло́влю Тя во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Херуви́м я́вльшися, и серафи́м Богоро́дице,/ и всех светле́йшая небе́сных во́инств,/ с си́ми умоли́, Его́же воплоти́ла еси́ Боже́ственное Сло́во Всенепоро́чная, Безнача́льнаго Отца́,// я́ко да благ ве́чнующих вси сподо́бимся.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: О́троцы в Вавило́не дре́вле, я́ко основа́ние,/ новому́ченицы же Росси́йстии ны́не, я́ко увенча́ние,/ с ли́ки страстоте́рпец при́сно взыва́ют:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ новому́ченицы же Росси́йстии, тем подража́юще,/ гоне́ния безбо́жных в ничто́же вмени́ша,/ те́мже ны́не согла́сно с ни́ми воспева́ют:// благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Днесь торжеству́ет Це́рковь Ру́сская,/ святи́и бо новому́ченицы, сро́дницы на́ши,/ к ликостоя́нием святы́х, от ве́ка Бо́гу благоугоди́вших, присовокупи́вшеся,/ согла́сно с ни́ми воспева́ют хвале́бную песнь:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Предстоя́щи Ти Кресту́ Сы́на Твоего́, Богома́ти,/ ору́жие про́йде ду́шу Твою́,/ те́мже и попече́ние сугу́бое о возлюби́вших Его́ прия́ла еси́,/ и́же Тя сыно́вне велича́ют:// благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Тебе́ во огни́ ороси́вшаго о́троки Богосло́вившия,/ и в Де́ву нетле́нну все́льшагося Бо́га Сло́ва пои́м,/ благоче́стно пою́ще:// благослове́н Бог оте́ц на́ших.
Песнь 8:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Кро́вию Твое́ю, Христе́,/ очервле́но пло́ти Твоея́ зря́ще одея́ние,/ тре́петом ужаса́хуся мно́гому Твоему́ долготерпе́нию а́нгельстии чи́ни, зову́ще:// благослови́те вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Ты мое́ сме́ртное оде́ял еси́, Ще́дре,/ в безсме́ртие воста́нием Твои́м./ Те́мже веселя́щеся благода́рственно воспева́ют Тя/ избра́ннии лю́дие, Христе́, зову́ще Тебе́:// поже́рта бысть вои́стинну смерть побе́дою.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Ты, И́же Отцу́ неразлу́чнаго,/ во утро́бе богому́жно пожи́вша безсе́менно зачала́ еси́,/ и неизрече́нно родила́ еси́, Богороди́тельнице Пречи́стая:// те́мже Тя спасе́ние всех нас све́мы.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю, и с челове́ки поживе́,/ И́же бла́гостию несравне́нный и си́лою,/ Ему́же пою́ще вси ве́рнии зове́м:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Вои́стинну Тя, Чи́стую пропове́дающе, сла́вим Богоро́дицу:/ Ты бо еди́на родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна,/ Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь,// и превозно́сит во вся ве́ки.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Сше́дый на зе́млю спасти́ мир,/ во́льною нището́ю за милосе́рдие мно́гое,/ обнища́вшаго мя ны́не от вся́каго благодея́ния,// я́ко ми́лостивый, спаси́.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: От Твои́х за́поведей удали́вся,/ порабо́тихся всеокая́нно лестцу́:/ обраща́ющагося же ны́не,/ я́ко блу́днаго дре́вле припа́дающа Тебе́,// приими́ Пренебе́сный О́тче.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Тлетво́рными помышле́ньми объе́мся омрачи́хся,/ и от Тебе́ удали́хся, весь вне себе́ быв Ще́дре.// Те́мже в покая́нии припа́дающа Тебе́ спаси́.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая,/ низве́рженных исправле́ние еди́на, испра́ви и мене́// вся́кими греха́ми сокруше́ннаго всего́ и смире́ннаго.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Зако́ны Христо́вы возлюби́ша новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ безбо́жная же повеле́ния отри́нуша/ и, ре́вностию о Бо́зе связу́емии,/ Бо́гу побе́дную песнь воспева́ху:// да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Егда́ земля́ Росси́йская тьмо́ю безбо́жия и Ка́иновым озлобле́нием объя́та бысть,/ тогда́ мно́зи христолюби́вии лю́дие на го́рькия рабо́ты изгна́ни бы́ша/ и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́жественне претерпе́ша,/ ве́рою же, наде́ждею и любо́вию совоку́плени,/ досто́йную воспева́ху песнь:// да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.
Тропарь: А́нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно прие́мляй,/ не отри́ни, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас, недосто́йных,/ но сподо́би вку́пе с ни́ми воспева́ти:// да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Своего́,/ скорбя́ше Пречи́стая Ма́ти и держа́вную по́мощь ве́рным лю́дем простира́ше,/ Сы́на же Своего́ усе́рдно моля́ше, взыва́ющи:// да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.
Нестерпи́мому огню́ соедини́вшеся,/ Богоче́стия предстоя́ще, ю́ноши,/ пла́менем же неврежде́ни,/ Боже́ственную песнь поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода// и превозноси́те во вся ве́ки.
Диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.
Песнь Пресвято́й Богоро́дицы:
Хор: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода,/ и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́,/ се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный,/ и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя;/ а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости,/ я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.
Честне́йшую Херуви́м/ и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м,/ без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую,// су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Песнь 9:
Кано́н воскре́сный, глас 2:
Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти,/ собра́ти расточе́нная,// тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Я́ко в раи́ насажде́но на ло́бнем, Спа́се,/ требога́тое дре́во Твоего́ пречи́стаго Креста́,/ кро́вию и водо́ю Боже́ственною,/ я́ко от исто́чника Боже́ственнаго,/ ребра́ Твоего́, Христе́, напоя́емо,// живо́т нам прозябло́ есть.
Припев: Сла́ва Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.
Тропарь: Низложи́л еси́ си́льныя, распны́йся, Всеси́льне,/ и е́же ни́зу лежа́щее во а́дове тверды́ни,/ естество́ челове́ческое возне́с,/ на О́тчем посади́л еси́ престо́ле.// С Ни́мже Тебе́ гряду́щу покланя́ющеся, велича́ем.
Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Троичен: Еди́ницу Тричи́сленную, Тро́ицу Единосу́щную/ правосла́вно пою́ще ве́рнии, сла́вим:/ непресеко́мо Пребоже́ственное Естество́,/ трисве́тлую, невече́рнюю зарю́,// Еди́ну нетле́нную нам свет возсия́вшую.
Кано́н Богоро́дицы, глас 2:
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному,/ Сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая:/ и сие́ воскреси́, до а́да попо́лзшееся.// Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Тропарь: Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко,/ приими́ ми́лостивно Моли́твенницу,/ Ма́терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лнятся:// да Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.
Кано́н Неде́ли о блу́дном сы́не, глас 1:
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Виждь Христе́ печа́ль се́рдца, виждь мое́ обраще́ние,/ виждь сле́зы Спа́се, и не пре́зри мене́,/ но обыми́ па́ки благоутро́бия ра́ди,/ мно́жеству спаса́емых Пречи́стая,// я́ко да пою́ благода́рно ми́лости Твоя́.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Я́ко разбо́йник вопию́: помяни́ мя,/ я́ко мыта́рь умили́вся, бию́ в пе́рси, и зову́ ны́не: очи́сти,/ я́коже блу́днаго приими́ мя Всеще́дрый, от всех зол мои́х, Всецарю́:// я́ко да пою́ Твое́ кра́йнее снизхожде́ние.
Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.
Тропарь: Е́же иногда́ соде́лал еси́ весе́лие блу́днаго, Бла́же, обраще́нием во́льным,/ сие́ ны́не сотвори́ и на мне окая́нном,/ простира́я ми честна́я Твоя́ объя́тия.// Да спа́сся песносло́влю кра́йнее Твое́ снизхожде́ние.
Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Богородичен: Све́тлыми моли́твами Твои́ми Де́во,/ мы́сленная моя́ очеса́ омраче́нная зло́бою, просвети́, молю́ся,/ и к путе́м покая́ния введи́ мя,/ я́ко да до́лжно Тя песносло́влю,// па́че сло́ва Сло́во воплоти́вшую.
Кано́н новому́чеников, глас 6:
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Безсме́ртныя трапе́зы и жи́зни ве́чныя во Ца́рствии Бо́жием/ наслажда́ются ны́не новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ испо́лнися бо на них обетова́ние Госпо́дне:// побежда́ющим дам се́сти со Мно́ю на Престо́ле Мое́м.
Припев: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии, моли́те Бо́га о нас.
Тропарь: Да просла́вятся с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских жены́ богому́дрыя земли́ на́шея,/ я́же, мироно́сиц восприе́мша чин и му́жески Христу́ после́довавша,/ страда́ния за и́мя Его́ претерпе́ша/ и ве́рно отце́м, муже́м и бра́тиям на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, послужи́ша./ Сего́ ра́ди ны́не в жи́зни ве́чней вку́пе с ни́ми// трапе́зы безсме́ртныя наслажда́ются.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропарь: Жизнода́вче Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и испове́дников Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными ве́рныя рабы́ Твоя́, за и́мя Твое́ пострада́вшия:/ святи́тели и иере́и, мона́хи и мирски́я,/ ста́рыя, ю́ныя и всяк во́зраст, имену́емыя и неимену́емыя,// я́ко и́стинныя сы́ны и дру́ги Бо́жия.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Я́ко взбра́нная Воево́да во́инства новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ держа́вный покро́в и ми́лостивное заступле́ние яви́ла еси́, Пресвята́я Де́во, земли́ на́шей,/ опустоша́емей ско́рбными и безбо́жными наведе́нии./ Сего́ ра́ди ны́не мо́лим Тя:// прости́ лю́ди согре́шшия и сохрани́ Святу́ю Русь.
Катава́сия Сре́тения, глас 3:
Хор: В зако́не се́ни и писа́ний/ о́браз ви́дим, ве́рнии:/ всяк му́жеский пол, ложесна́ разверза́я, свят Бо́гу./ Тем Перворожде́нное Сло́во, Отца́ Безнача́льна,/ Сы́на Первородя́щася Ма́терию неискусому́жно,// велича́ем.
После канона:
Ектения́ ма́лая:
Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Тя хва́лят вся си́лы небе́сныя и Тебе́ сла́ву воссыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Диакон: Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
Диакон: Я́ко Свят Госпо́дь Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
Диакон: Над все́ми людьми́ Бог наш.
Хор: Свят Госпо́дь Бог наш.
Ексапостила́рий воскре́сный второ́й:
Ка́мень узре́вша отвале́н, мироно́сицы ра́довахуся,/ ви́деша бо ю́ношу седя́ща во гро́бе,/ и той тем рече́: се Христо́с воста́л есть,/ рцы́те с Петро́м ученико́м:/ на го́ру приспе́йте Галиле́йскую, та́мо вам яви́тся,// я́коже предрече́ друго́м.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Свети́лен новому́чеников:
Я́ко отре́бие ми́ру бы́ша, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша,/ искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша,// свиде́тельствующе о Све́те И́стиннем, Иису́се Христе́, Го́споде на́шем.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Свети́лен Неде́ли о блу́дном сы́не, подо́бен: «Жены́ услы́шите...»:
Бога́тство, е́же ми дал еси́, благода́ти, окая́нный отше́д,/ непотре́бно зле ижди́х, Спа́се, блу́дно пожи́в,/ де́моном льсти́вно расточи́х./ Те́мже мя обраща́ющася,// я́коже блу́днаго приими́, О́тче ще́дрый, и спаси́.
Хвали́тны псалмы́, глас 2:
Хор: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода./ Хвали́те Го́спода с небе́с,/ хвали́те Его́ в вы́шних.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Хвали́те Его́ вси а́нгели Его́,/ хвали́те Его́ вся си́лы Его́.// Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.
Стихиры воскресные, глас 2:
На 8. Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан:// сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.
Стихира: Вся́кое дыха́ние и вся тварь/ Тя сла́вит, Го́споди,/ я́ко Кресто́м смерть упраздни́л еси́,/ да пока́жеши лю́дем, е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.
Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́,// хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.
Стихира: Да реку́т иуде́е,/ ка́ко во́ини погуби́ша стрегу́щии Царя́?/ Почто́ бо ка́мень не сохрани́ Ка́мене жи́зни?/ Или́ Погребе́ннаго да дадя́т,/ или́ Воскре́сшему да покло́нятся,/ глаго́люще с на́ми:/ сла́ва мно́жеству щедро́т Твои́х,// Спа́се наш, сла́ва Тебе́.
На 6. Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его́,// хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.
Стихира: Ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся,/ а́нгел седя́й на ка́мени гро́бнем,/ той нам благовести́, рек:/ Христо́с воскре́се из ме́ртвых, Спас ми́ра,/ и испо́лни вся́ческая благоуха́ния:// ра́дуйтеся лю́дие и весели́теся.
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем,// хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.
Стихира: А́нгел у́бо е́же ра́дуйся,/ пре́жде Твоего́ зача́тия, Го́споди, Благода́тней принесе́:/ а́нгел же ка́мень сла́внаго Твоего́ гро́ба/ в Твое́ Воскресе́ние отвали́:/ ов у́бо в печа́ли ме́сто,/ весе́лия о́бразы возвеща́я:/ сей же в сме́рти ме́сто,/ Влады́ку Жизнода́вца пропове́дуя нам,/ те́мже вопие́м Ти:// Благоде́телю всех, Го́споди, сла́ва Тебе́.
Стихиры новомучеников, глас 8, подобен: «О, пресла́внаго чудесе́...»:
На 4. Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це,// хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.
Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дняя времена́ возсиява́ют му́ченицы/ и пре́лести мрак отгоня́ют,/ ве́ра христиа́нская ны́не возвыша́ется/ и па́дает нече́стие,/ ра́дуются ве́рнии/ и пра́здник новоявле́нным составля́ют,/ вопию́ще Христу́ Бо́гу:// му́чеников похвала́ и побе́да Ты еси́, Всеси́льне.
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния.// Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.
Стихира: Ве́ры броня́ми,/ и щито́м благода́ти,/ и креста́ копие́м вооружи́вшеся,/ сопроти́вным си́лам непобеди́ми бы́сте/ и, я́ко Боже́ственнии храбо́рницы,/ де́монская ополче́ния победи́вше,/ со А́нгелы лику́ете,/ ве́рныя же заступа́ете, и освяща́ете,// и спаса́ете, призыва́емии.
На 2. Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,// я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.
Стихира: О, пресла́внаго чудесе́!/ Чуде́с светлостьми́/ со́лнца светле́йше/ при́сно святи́и сро́дницы на́ши/ све́тят конце́м Ру́сския земли́,/ от невече́рняго Све́та облиста́еми,/ и́хже сия́нии/ о́блацы от страны́ на́шея отгоня́ются ва́рварстии// и де́мони побежда́ются.
Стихира новомучеников, глас 6:
Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,// удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.
Стихира: Новоявле́нныя зве́зды днесь/ на церко́вней показа́шася тве́рди,/ во мно́зех ме́стех бы́вшии му́ченицы Христо́вы,/ и́хже ублажа́юще, мучениколю́бцы,/ по до́лгу им прирце́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, благоче́стия утвержде́ние и нече́стия обузда́ние;/ ра́дуйтеся, Росси́йския Це́ркве сла́во и безбо́жных посрамле́ние;/ ра́дуйтеся, о́брази терпе́ния и за Христа́ страда́ния./ Ста́ните, непобеди́мии, посреде́ нас у́мне,/ от бед и искуше́ний избавля́юще,// и моли́теся о спасе́нии душ на́ших.
Стихира Недели о блудном сыне, глас 6:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Стихира: О́тче Благи́й, удали́хся от Тебе́, не оста́ви мене́,/ ниже́ непотре́бна покажи́ Ца́рствия Твоего́:/ враг вселука́вый обнажи́ мя и взят мое́ бога́тство,/ душе́вная дарова́ния блу́дно расточи́х./ Воста́в у́бо обра́щься к Тебе́ вопию́:/ сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х,/ мене́ ра́ди на Кресте́ пречи́стеи Твои́ ру́це простры́й,/ да лю́таго зве́ря исхити́ши мя,/ и в пе́рвую оде́жду облече́ши мя,// я́ко еди́н Многоми́лостив.
Богородичен, глас 2:
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Богородичен: Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во,/ Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся,/ Ада́м воззва́ся,/ кля́тва потреби́ся,/ Е́ва свободи́ся,/ сме́рть умертви́ся, и мы ожи́хом./ Тем воспева́юще вопие́м:/ благослове́н Христо́с Бог,// благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.
Иерей: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.
Славосло́вие вели́кое:
Хор: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди Царю́ Небе́сный, Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди, Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас; взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу; седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ еди́н Свят, Ты еси́ еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́. Ами́нь.
На всяк день благословлю́ Тя, и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.
Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.
Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. (Трижды)
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой: я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
Тропа́рь воскре́сный, глас 2:
Хор: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да,/ разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди,/ вся от сете́й врага́ изба́вивый;/ яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м,/ посла́л еси́ я на про́поведь,/ и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней,// Еди́не Многоми́лостиве.
Ектения́ сугу́бая:
Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: Преосвяще́ннейшем епи́скопе) имяре́к, и всей во Христе́ бра́тии на́шей.
Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.
Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́, и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных.
Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих настоя́теля, бра́тии и прихо́жан свята́го хра́ма сего́.
Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости.
Иерей: Я́ко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Ектения́ проси́тельная:
Диакон: Испо́лним у́тренюю моли́тву на́шу Го́сподеви.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.
Хор: Го́споди, поми́луй.
Диакон: Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим.
Хор: Пода́й, Го́споди. (На каждое прошение)
Диакон: А́нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим.
Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим.
До́брых и поле́зных душа́м на́шим и ми́ра ми́рови у Го́спода про́сим.
Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим.
Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве про́сим.
Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́, и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Я́ко Бог ми́лости и щедро́т и человеколю́бия еси́ и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И ду́хови твоему́.
Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.
Хор: Тебе́, Го́споди.
Иерей: Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь.
Диакон: Прему́дрость.
Хор: Благослови́.
Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Хор: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век ве́ка.
Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.
Хор: Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, Упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.
Отпу́ст:
Иерей: Воскресы́й из ме́ртвых Христо́с, И́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере...
Многоле́тие:
Хор: Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Кири́лла,/ Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́,/ и Господи́на на́шего Преосвяще́ннейшаго (или: Высокопреосвяще́ннейшего) имяре́к,/ епи́скопа (или: митрополи́та, или: архиепи́скопа) титул его,/ богохрани́мую страну́ на́шу Росси́йскую,/ настоя́теля, бра́тию и прихо́жан свята́го хра́ма сего́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,// Го́споди, сохрани́ их на мно́гая ле́та.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Стихи́ра ева́нгельская воскре́сная втора́я, глас 2:
С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м,/ и недоумева́ющимся,/ ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние,/ яви́ся ка́мень взят,/ и Боже́ственный ю́ноша утоля́я мяте́ж душ их,/ воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь./ Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́,/ ученико́м в Галиле́ю тещи́,/ и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых,// я́ко Жизнода́вца и Го́спода.
Чтец: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.
Псало́м 5:
Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающия беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющия лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.
Псало́м 89:
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися земли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отврати́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. У́тро я́ко трава́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исчезо́хом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Твоего́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Твоего́, и от стра́ха Твоего́, я́рость Твою́ исчести́? Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.
Псало́м 100:
Ми́лость и суд воспою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му моего́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щия преступле́ние возненави́дех. Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя земли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя земли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающия беззако́ние.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Тропа́рь воскре́сный, глас 2:
Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ ад умертви́л еси́ блиста́нием Божества́./ Егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся Си́лы Небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Тропа́рь новому́чеников, глас 4:
Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́// до сконча́ния ве́ка.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко прозябла́ еси́ цвет нетле́ния Де́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́ и научи́ мя оправда́нием Твои́м.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́.
Трисвято́е по О́тче наш:
Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.
Чтец: Ами́нь.
Конда́к воскре́сный, глас 2:
Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и ад, ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тварь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и мир, Спа́се мой, воспева́ет Тя при́сно.
Го́споди, поми́луй. (40 раз)
Окончание часа:
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.
Го́споди поми́луй. (Трижды)
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Честне́йшую Херуви́м и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.
И́менем Госпо́дним благослови́, о́тче.
Иерей: Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.
Чтец: Ами́нь.
Иерей: Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви стопы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.
Конда́к, глас 8:
Хор: Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злы́х,/ благода́рственная воспису́ем Ти́ раби́ Твои́, Богоро́дице;/ но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.
Иерей: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.
Хор: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (Трижды) Благослови́.
Отпу́ст:
Иерей: Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами пречи́стыя Своея́ Ма́тере, преподо́бных и Богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.
Хор: Го́споди, поми́луй. (Трижды)
[1] Богослужебные тексты Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской даны по последованию, опубликованному на официальном сайте Издательства Московской Патриархии «Новые богослужебные тексты»: http://nbt.rop.ru/?q=texts/sluzhba/301
[2] По традиции, новозаветные паримии читаются при открытых царских вратах
[3] Одна из стихир по указанию настоятеля — из числа вечерних литийных стихир храмового святого (как правило, первая), либо та, которая поется по 50-м псалме на полиелейной утрене. В том случае, если храмовый святой не имеет указанных песнопений (например, шестеричная служба), может быть пропета стихира с «Господи, воззвах» или из другого цикла стихир.
[4] Существует практика петь стихиры «Земле́ Ру́сская...», «Це́рковь Ру́сская...», «Собо́ре святы́х ру́сских...», «Но́вый до́ме Евфра́фов...» как одну стихиру (подряд, без стихов) на «Славу»:
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже Боже́ственный// ве́лий сонм святы́х просла́ви.
Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да Твоя́/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.
Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем// и о почита́ющих вас любо́вию.
Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.
[5] В тех храмах, где предписание о соединении канона с пением библейских пророческих песней остается трудноисполнимым, допустимо стихи из песней Священного Писания заменять особыми припевами, сообразуясь с содержанием канонов. Каноны воскресных дней периода пения Постной Триоди, выражающие покаянные чувства, можно петь с припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя» (см.: Розанов В. Богослужебный Устав Православной Церкви. С. 406–407; ср.: Скабалланович М. Толковый Типикон. Вып. 2. С. 265). Канон в Неделю Торжества Православия с припевом: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», а канон в Неделю Крестопоклонную с припевом: «Слава, Господи, Кресту Твоему Честному».
(Богослужебные указания: http://www.patriarchia.ru/bu/2024-02-25#ln-note-11













