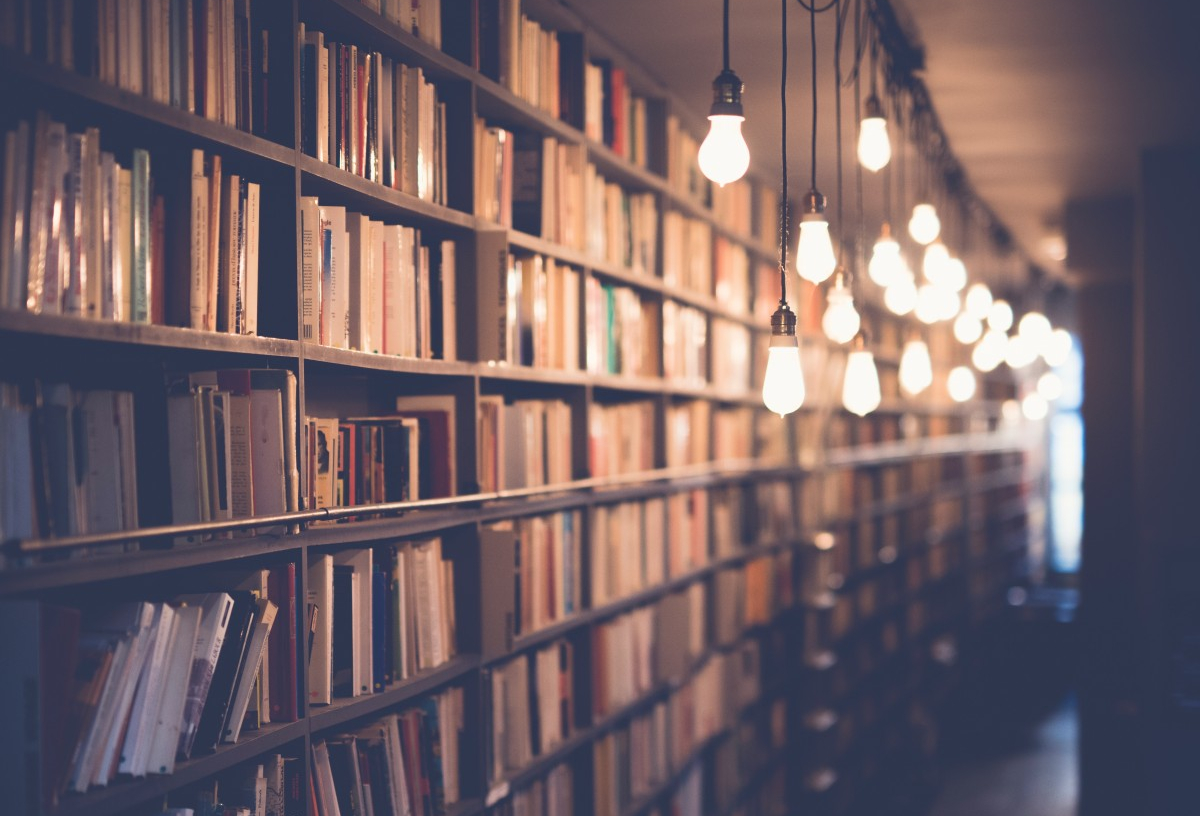
Гость программы — Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН, главный библиотекарь московской библиотеки № 180 имени Н. Ф. Федорова.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Валериане Николаевиче Муравьеве. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук, главный библиотекарь Московской библиотеки имени Николая Федоровича Федорова, 180-й библиотеки, доктор филологических наук Анастасия Георгиевна Гачева. Анастасия Георгиевна нередкий гость в нашей программе и на Радио ВЕРА, я ее очень благодарю за то, что она соглашается, приходит и всегда рассказывает нам много интересного. Есть формальный повод поговорить сегодня о нашем герое, ему исполнилось в этом году 140 лет со дня рождения, это 1885 год. Валериан Николаевич Муравьев —мыслитель, философ очень оригинальный, его часто упоминают в ряду русских космистов — направление, которое связано с Николаем Федоровым. Но думаю, только к космизму его нельзя отнести, он был участником имяславческого кружка вместе с Алексеем Федоровичем Лосевым, ну и многое другое, о чем сегодня Анастасия Георгиевна нам расскажет. Анастасия Георгиевна выпустила в 2011 году потрясающий двухтомник — «Избранные сочинения Валериана Муравьева», на сегодняшний день это, по-моему, наиболее полное академическое, снабженное комментариями, научными статьями, издание. Я бы хотел задать вопрос: Муравьев — это же фамилия очень известная в русской культуре, был декабрист Муравьев-Апостол, Муравьев-«вешатель», знаменитый путешественник Муравьев, паломник в Святую землю, автор травелогов православных, самые разные Муравьевы. В каком отношении Валериан Николаевич находится к этой замечательной аристократической фамилии?
А. Гачева
— Конечно, он представитель этого древнего дворянского рода, и в его творчестве тема семейно-родовых преданий занимает огромное место. Именно поэтому он всегда противился всякому революционному противостоянию, всяким разрывам истории, всякому историческому, культурному и духовному нигилизму: он понимал ценность семейно-родовой преемственности, которая для русского дворянства была неразрывно связана с тем, о чем писал Федор Иванович Тютчев, когда пытался определить смысл дела Николая Михайловича Карамзина, знаменитого русского писателя, историка, воспитателя царской семьи, у него есть такая формула — «И до конца служить России». Вот в роде Муравьевых, как вы уже сказали, были самые разные деятели, принадлежащие к разным политическим спектрам, выбиравшие разное поприще, но все они были объединены идеей служения России. Это объясняет во многом то, что Валериан Муравьев — блестящий дипломат, он на дипломатическом поприще с начала XX века, в 1907 году занимал должность секретаря Гаагской мирной конференции, потом работал в политическом кабинете министра иностранных дел, в том числе был начальником политического кабинета министра иностранных дел уже во Временном правительстве. Это объясняет то, что он остался в Советской России в отличие от многих других деятелей русской политики, истории, культуры, которые были по разным причинам выброшены за пределы России после революции. То есть для него служение России в разные эпохи ее истории, даже тогда, когда страна идет ложными путями, проходит через эпохи кризисов и катастроф, важно оставаться в стране и важно трудиться на благо страны. И вот эта тема России, ее прошлого, настоящего, будущего — очень важна для Муравьева, начиная с первых его публицистических статей. У него был образ «неведомой России», он печатался в «Московском еженедельнике», в журнале «Русская мысль», затем он был одним из авторов знаменитого сборника «Из глубины». Потом, в 20-е годы, его наследие во многом ушло под спуд, в то, что Николай Тихонов называл произведениями, «упокоившимися в могиле стола». Но тема России, причем России не только такой, какой она являет себя в реальном историческом и державном строительстве, а, как он назвал, «чаемой, неведомой Россией».
А. Козырев
— В этих сборниках отражена судьба России и позиция той части интеллигенции, которая предупреждала о возможном крахе, связанном с потерей корней, с потерей религиозного сознания русской интеллигенции и, в целом, русским народом. И вот в третьем сборнике появляется Валериан Муравьев. Его нет в первых двух сборниках. Вы сказали о том, что он был крупным дипломатом, политическим деятелем. Кто позвал его, как он там оказался? И чему была посвящена его статья в этом сборнике?
А. Гачева
— При том, что он на дипломатическом поприще, в 1910-е годы он уже в России, и он — участник Санкт-Петербургского религиозно-философского общества. Его имя есть в списках общества, он присутствует на многих собраниях. Более того, опыт наблюдения, активного слушания и участия в заседаниях религиозно-философского общества Петербургского во многом отразился в его одном из главных произведений 20-х годов — философской мистерии «София и Китоврас», где София, героиня мистерии, является председательницей религиозно-философского общества, члены которого ищут и пытаются создать рецепты идеального строя жизни, идеального социального строительства. Но вообще он был близок к «Русской мысли», близок Струве. Он общается и с Николаем Бердяевым уже в московский период своей жизни, потому что с 1918 года он уже в Москве. Он входит в состав Вольной академии духовной культуры бердяевской, вообще много общается с Бердяевым и Ильиным. То есть его общение с кругом участников сборника «Из глубины» идёт ещё с конца 1910-х годов.
А. Козырев
— Сборник ведь не вышел, да? Он пролежал на складе.
А. Гачева
— Да, он пролежал три года на складе и вышел в 1918 году. Вот интересно, почему его статья называется «Рёв племени». Что там главное? Как он говорит: «Ревут племена и народы». Ведь, собственно, что для него важно? Я уже сказала, что он огромное значение придаёт вот этой исторической непрерывности, и в то же время у него постоянно тема народной души, ищущей высшей правды. Он очень много изучал и читал по русской истории...
А. Козырев
— То есть рёв — это плач, да?
А. Гачева
— Рёв — это не плач, рёв как некий голос.
А. Козырев
— Взыскание, да?
А. Гачева
— Взыскание, как некое вопрошание, которое сопряжено с мощной активностью, как львиный рык. Он много размышляет об истории Киевской Руси эпохи Владимира, где у него возникает тема богатырства и народных исканий. Он очень много интересовался народными религиозными движениями и постоянно писал о том, что русская душа, народная душа чает некоей высшей правды. Ему вообще была близка идея Государства правды, которую потом в Евразийстве будет развивать Николай Алексеев, когда он будет говорить о том, что в конечном итоге державное строительство должно двигаться не к идеократии, а к эйдократии — к строительству Государства правды. Для него в русской революции, с одной стороны, встретилась вот эта стихия народной души, но во многом, слепая: с одной стороны, чающая правды, с другой — заблуждающаяся, ищущая последнего слова, но глубинно при этом религиозная, и ищущая действия, то есть не мыслящая, но действующая, стремящаяся осуществлять, в этом для него стихия народной души заключается. И интеллигенции — умствующей, во многом оторвавшейся от своих корней (тут он близок к Достоевскому), безрелигиозной во многом, отщепенческой, которая, увлекаясь ложными идеями строительства нового мира, секулярного строительства, классовой борьбы, в некотором смысле соблазняет народ. И вот тут встретилась, как он говорит, в русской революции душа действующей, взыскующей высшей правды и умствующей, мыслящей интеллигенции. И вот эти идеалы интеллигенции, которые она так безответственно вбрасывала, о которых она спорила в философских кружках, народ берет на вооружение и, так сказать, проверяет действием. И он говорит, что народ, после свершившейся революции, может сказать интеллигенции, уничтожившей свое государство, буквально словами Смердякова: «Ты самый законный убивец и есть».
А. Козырев
— Вот вы упомянули о том, что он переехал в Москву — видимо, это было связано с тем, что Ленин перевел столицу в Москву, а Муравьев был политический деятель, он рассчитывал как-то продолжить свою службу, служение России. Он общался с Ильиным Иваном Александровичем и Николаем Александровичем Бердяевым. Известно, что Ильин был резким противником советской власти, и даже на допросах, когда его высылали из России, он называл эту власть болезнью. У Муравьева был несколько другой акцент, вы уже сказали о том, что он старался служить России, своему народу, независимо от того, какая была власть. Может быть, здесь к Бердяеву он как бы примыкает, когда говорит, что «Третий Рим превращается в Третий Интернационал».
А. Гачева
— Даже не то что он превращается в Третий Интернационал, а то, что Третий Интернационал, по большому счету, не вносит ничего нового в историческое и социальное действие, потому что он и есть оскопленный, секуляризованный Третий Рим, об этом, собственно, Муравьев пишет Троцкому. Я должна сказать несколько слов, как он вообще оказался в Москве, это тоже интересный вираж его судьбы. Вот вы сказали об Ильине, который резко отрицательно относился к большевизму, но ведь и Муравьев поначалу резко отрицательно относился к большевизму. Известен эпизод его биографии, когда он, как только совершилась революция и началось Белое движение, едет в Ставку, пытается сам собирать на борьбу с большевизмом. Буквально через три дня после Петроградского восстания он едет в Ставку, чтобы прощупать возможности вооруженного сопротивления. Дальше, как он говорил на допросах, кстати, сохранились протоколы его допросов...
А. Козырев
— Его же чуть не расстреляли в 20-м году.
А. Гачева
— Да, его чуть не расстреляли как раз по делу «Национального» и «Тактического центра». И вот он в протоколах допросов говорит о том, что, когда он оказался в Ставке и стал общаться с деятелями, возглавлявшими Белое движение, он понял, что у них нет никакой собирающей общей идеи, нет перспективного видения России, что это только идея реставрации. И он понял, что с таким настроем Белое движение не победит, в чём оказался абсолютно прав. И он начал действовать по тому пути, по которому всегда шли деятели русской культуры, начиная от славянофилов, Достоевского, Тютчева и деятелей начала XX века, того же Сергия Булгакова, который пошёл в Государственную Думу и многих других, которые стремились расширить духовный и творческий горизонт той власти, того строя, того правительства, которое здесь и сейчас при тебе существует. Как в знаменитой формуле: «Времена не выбирают, в них живут и умирают». В них не только живут и умирают, в них ещё и действуют.
А. Козырев
— И он пошёл в советские чиновники?
А. Гачева
— Он не пошёл в советские чиновники, потому что комиссия по изучению опыта Первой мировой войны, в которой он работал, не имела какого-то политического оттенка, это, скорее, была чисто историческая вещь, они действительно исследовали этот опыт. Он хотел в дипломатию вернуться, об этом он мечтал. Более того, когда он с Троцким спорил (а он познакомился с Троцким в конце 1919 года на одном из заседаний военно-исторической комиссии), и вот тут развернулся их мировоззренческий спор, после которого он написал ему большое письмо, сохранилось несколько версий этого письма, они все опубликованы у нас во втором томе. Там он, с одной стороны, критикует большевистскую власть, в том числе за отношение к спецам, за отношение к образованной творческой интеллигенции и бывшим дворянам, которые готовы остаться в стране и работать на её благо. С другой стороны, он говорит об узком идейном масштабе большевизма. Вот это главная его мысль, он говорит о том, что вы разрываете с традицией, вы выстраиваете атеистический рай. Неслучайно во многих своих, ранних особенно, вещах, у него есть письма о социализме, о большевизме, он сравнивает этот новый строй с кинокефалами, с песоглавцами, знаменитый этот апокриф о Бове Королевиче. У него в ранних редакциях философской мистерии «София и Китоврас» есть совершенно апокалиптический образ распадшейся страны — Кремль, поросший травой, мёртвый, молчащий Кремль. Люди на свалках, борящиеся за свою пищу, вот эти кинокефалы, разъезжающие в чёрных куртках на мотоциклах, это очень сильные образы. И почему он идёт всё-таки на сотрудничество с властью? Потому что советская власть начинает собирать страну. То есть, с одной стороны, распад Гражданской войны, и он в 1918 году в газете «Заря России» на протяжении полугода пишет публицистические статьи, где буквально бичует этот распад, пишет: «Мы не граждане», очень резкие статьи. А потом уезжает на несколько месяцев в своё бывшее имение «Онег», где пишет философские сочинения, а потом возвращается работать в военно-исторической комиссии.
А. Козырев
— По-моему, с Рахманиновым тоже связано это имение.
А. Гачева
— Да, это бывшее имение Рахманиновых новгородское, которое купил его отец. Он возвращается, начинает работать в военно-исторической комиссии, и в споре с Троцким абсолютно прямо ему говорит, что необходимо расширить фундамент строительства этого нового мира, включив в него ценности русской религиозной философии и русской державной и национальной идеи.
А. Козырев
— Это же и евразийцы говорили, что, конечно, нужно смотреть в будущее, менять индустриализацию, но необходимо всё-таки отойти от космополитической и чуждой русскому духу идеологии марксизма и обратить внимание на православие. Это, видимо, была какая-то общая тенденция у умных людей, которые понимали, что Россию пытаются свернуть с её магистрального исторического пути, связанного с духовной традицией, с Церковью. А у Муравьева с Церковью какие были взаимоотношения?
А. Гачева
— С одной стороны, он, безусловно, религиозный человек, но, с другой стороны, это такая свободная религиозность. У него есть замечательный текст, во многом исповедальный, который называется «Человек в жизни», там он пишет о своих духовных исканиях. Он говорит: «Я искал жизнь в исканиях и блужданиях, в страстных поисках веры и идеалов. Я искал в литературе, поэзии, науке, философии, в религии, атеизме. Я был идеалистом, верующим, материалистом и позитивистом, мистиком, скептиком, агностиком. Через науку вернулся к проникновенной истине и так далее. Искал в социальной науке, искал в Церкви, вопрошал католичество, входил в ограду Православной Церкви. Был правоверным православным, был имяславцем, заглядывал в осуждаемую Церковью ересь». Кстати, у него очень интересное было отношение к истории ереси и маргинальных движений внутри Церкви и в народной религиозности. Он считал, что там дух свободного искания, который ставит вопросы перед церковным, историческим и культурным сознанием.
А. Козырев
— Это народная вера, ведь и Владимир Соловьев интересовался, и Андрей Белый, они ездили в «хлыстовские корабли». Вот этот текст, который вы цитируете, мне как-то внутренне очень напомнил Даниила Андреева, который испытал, кстати говоря, в православном храме священномученика Власия на Арбате, такое откровение после всенощной, на него что-то снизошло. И это такой тоже дух не церковного, конечно, мистицизма, но всё-таки очень духовное состояние, когда человек ясно достаточно видит и смысл жизни, и цели, которые он в этой жизни преследует, и то, что эти цели отнюдь не исчерпываются земными целями, карьеры, какой-то службы. Мне кажется, это один из самых сильных исповедальных текстов в «Русской мысли» — «Человек в жизни», хотя он, я так понимаю, незаконченный, фрагментарный?
А. Гачева
— Он не фрагментарный, может быть, мы просто не знаем финальной версии, потому что архив Муравьёва довольно сильно пострадал при его последнем аресте. При этом всё равно у него христианский стержень, безусловно, проглядывает во всех его работах, во всех его сочинениях и текстах. То есть при том, что он был до верующим, при том, что он был искателем этой последней правды, всё-таки христианство, Новый Завет и последняя книга Нового Завета — «Откровение» Иоанна Богослова — это некий фундамент его мысли. Другое дело, что для многих русских религиозных философов, от славянофилов до Николая Фёдорова, Владимира Соловьёва, Бердяева, Булгакова, был важен дух свободных исканий внутри Церкви. И, конечно, они чаяли преодоления того инвалидного состояния Церкви, которое было связано в том числе с утратой Патриаршества, со Священным Синодом, тема огосударствления Церкви очень его беспокоила. У него, например, в философской мистерии «София и Китоврас» есть такой знаменитый диалог...
А. Козырев
— Давайте мы в следующей части поговорим об этом диалоге, тем более, что это один из самых интересных текстов в русской литературе, и вам принадлежит заслуга его реконструкции, публикации по архивным источникам.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук, главный библиотекарь Библиотеки имени Николая Федорова Анастасия Георгиевна Гачева. Мы говорим сегодня о Валериане Николаевиче Муравьеве, которому в этом году исполняется 140 лет со дня рождения. И вот среди текстов, — а тексты разные очень, некоторые из них мы уже вспомнили, публицистику вспомнили, — есть один текст, который мы раньше не знали, он пришел к нам только в 10-е годы ХХI века. Так часто бывает, что главный текст, написанный человеком, при жизни никто не прочитал, а спустя много лет, уже после смерти, а кончина его трагическая была в 30-м году, и вот спустя 80 лет вдруг является текст очень большой, очень важный, который называется не роман, не трактат, не монография, а мистерия «София и Китоврас». Почему мистерия? Почему вот такой редкий жанр?
А. Гачева
— Ведь Муравьев — наследник Серебряного века во многом. Тема мистерии, безусловно, в культуре Серебряного века и в трудах Андрея Белого и Вячеслава Иванова активно присутствует.
А. Козырев
— Владимир Соловьев, мистерия-шутка «Белая лилия». Но, опять-таки, добавлю, что там мистерия-шутка, а тут без шутки.
А. Гачева
— Дело в том, что для Муравьева тема мистерии — это тема религиозного мироотношения и тема всеобщего участия людей, живущих в истории, то есть это восприятие истории как мистерии, я бы так сказала. Мы знаем, что мистерии Средневековья вовлекали в это действо всех, то есть буквально все участники, как на литургии. Духовные собратья Муравьева, его друзья Александр Горский и Николай Сетницкий, с которыми он в 20-е годы в Москве сотрудничает и которые развивают идеи Николая Федорова об активном творческом крестьянстве, об активной апокалиптике, об истории как преображении, вот для них мистерия воспринимается как ступень к литургии. То есть мы движемся, как Горский это хорошо формулирует в 10-е годы, что искусство идёт от трагедии через мистерию к литургии.
А. Козырев
— К литургии — в смысле вселенской, космической литургии, то есть не просто литургии, которая совершается как Таинство внутри храма, да?
А. Гачева
— Да. Они во многом всю человеческую историю воспринимают как предварительное действие к вселенской литургии, это важная тема, потому что здесь Муравьёв примыкает к нашей отечественной религиозной философской традиции, которая связана с темой оправдания истории, видения истории как работы спасения. Этого очень много у Достоевского, когда он говорит на открытии памятника Пушкину: «Россия призвана изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону», когда он даже наш русский социализм определяет как всесветное единение во имя Христово.
А. Козырев
— А почему Китоврас? В русском лубке существует такое животное.
А. Гачева
— Нет, это не совсем в лубке, я сейчас скажу, а сейчас закончу мысль. То есть вот эта идея преображения истории, поэтому мистериальное начало как бы историю разворачивает к религиозному делу, поэтому и текст сам, слово, тоже должно нести мистериальное значение. Тут во многом имяславческие сюжеты, конечно, прочитываются. Муравьев много об этом пишет, вы уже сказали, что он член имяславческого кружка. Для него религиозный кризис 20-х годов, вот эта борьба с Церковью, воинствующая антирелигиозность с разрушением храмов, монастырей, топтанием икон во многом связана с тем, что в 10-е годы происходила борьба с имяславием, когда вывозили монахов с Афона, топтали бумажки с именем Божиим и так далее. То есть фактически слово теряло сакральность.
А. Козырев
— Вообще верующему человеку было страшно видеть вот эти парады безбожников, когда на Красной площади какие-то клоуны шли...
А. Гачева
— У Муравьева это есть в мистерии «София и Китоврас», как раз в четвертом видении Царства пресвитера Иоанна.
А. Козырев
— Как с Иверской часовней, да? Она должна была распахнуться, и оттуда должен был выйти, условно говоря, Савонарола со словами: «Что вы делаете?»
А. Гачева
— Скорее, может быть, Патриарх Гермоген или митрополит Филипп, которые не боялись. Вот эти величайшие деятели, как Фёдоров говорил, духовные собиратели русской земли. И это знаменитое красное шествие, которое шло по нашей улице Горького, по Тверской, к Иверской часовне, и как раз София рассказывает Китоврасу об этом красном шествии, и говорит: «Я ждала, что вот раскроются, распахнутся двери часовни, выйдет на паперть подвижник и начнет вдохновенную проповедь, и они будут смеяться и кричать ему слова хулы, но голос его будет звучать громче их смеха и крика, и так властна будет его речь, так искренна и вдохновенна, что кощунственные крики замрут». То есть он чает этой умоперемены.
А. Козырев
— Вообще такой речью ведь была смерть Патриарха Тихона, когда миллион человек пришел к Донскому монастырю и провожали в последний путь святителя, которого сажали, закрывали под арестом, а оказалось, что все равно верующая Русь, православная Русь жива. Это уже было после того, видимо, как он написал этот текст. Удивительно, даже что-то пророческое есть в его описании. И все-таки Китоврас, почему Китоврас? Кто это?
А. Гачева
— Знаменитый апокриф наш, повесть о «Соломоне и Китоврасе». Вообще Муравьев, помимо того, что он политик, дипломат и философ, он еще, между прочим, талантливый исследователь литературы. Для Серебряного века, начиная с Соловьева, этот синтез очень характерен, вот эта многорегистровость русских деятелей, и ему это тоже было свойственно. Он очень много занимался, читал исследования по истории и филологии XIX века, публикации древнерусских памятников, в том числе апокрифических сюжетов. И вот эта повесть о «Соломоне и Китоврасе» рассказывает о странном существе, на самом деле это бывший демон, принявший облик человека-кентавра. Китоврас — это человек-конь, это кентавр, но в очень такой, я бы сказала, нежной, ласковой народной окантовке. Китоврас на русское ухо звучит почти уменьшительно-ласкательно.
А. Козырев
— Хорошее имя для кота, кстати. Может, кто-то заведет и назовет так своего кота.
А. Гачева
— Да-да. Он помогает царю Соломону в строительстве Иерусалимского храма. И что очень интересно в этом сказании о «Соломоне и Китоврасе»: он — демон, на которого надето кольцо с именем Божьим, и поэтому он служит Творцу, он служит Соломону, то есть он демон, который строитель, демон-созидатель, который пытается преодолеть свою демоническую природу и встать на службу добра. Это очень характерная тема, которая в русской культуре связана с традицией апокатастасиса, с этим чаянием спасения и прощения не только людей, не только великих грешников, но и демонов.
А. Козырев
— Он, видимо, думал, что большевики могут стать такими китоврасами, да?
А. Гачева
— Вообще у него образ Китовраса появляется еще в 10-е годы. Дело в том, что этим образом очень интересовались деятели Серебряного века, и вообще образ Китовраса есть на вратах Софийского собора в Новгороде, и он в народных преданиях есть. Чем он еще интересен: он такой немножко оборотень — днем существует в царстве людей, а ночью в царстве зверей. Но что интересно, прежде всего, для Муравьева, у него есть такая запись в мистерии: «Китоврас — побежденное, служащее зло». Ведь мы понимаем, что самая большая проблема, о которую спотыкается христианство, эта вера в возможность преображения жизни, всецелого оцерковления жизни, исполнения заповеди «Да любите друг друга», исполнения фактически первосвященнической молитвы Спасителя: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, Я в Тебе, так они да будут в Нас едины» — собственно, на этом стоит эта идея истории как работы спасения, чаяния, всеобщей гармонии и так далее. А вот о ложную направленность человеческого сердца: самолюбие, своеволие, гордыню, противоборство спотыкается всякое чаяние идеального строя жизни. Муравьев это очень хорошо понимает, поэтому он видит опасность социального строительства, и в статье «Рев племени» пишет, что «хотели строить совершенное общество при несовершенных людях». Достоевский еще об этом писал, что «правила-то есть, да люди к правилам не подготовлены вовсе и чуть что готовы побежать нагишом». Вот это Муравьев чувствовал, и поэтому для него эта тема очень важная, как и для Достоевского в «Житии великого грешника», который обращается на Божьи пути. Это тема отступнических сил, в некотором смысле тема Антихриста, который противостоит Христу, но возможно ли спасение Антихриста, если Антихрист покается и обратится на Божьи пути? Вот эта тема преодоления зла через внутреннее перерождение самих носителей была ему очень важна.
А. Козырев
— То есть восстановление.
А. Гачева
— Но восстановление не механическое внешнее, вот это для него важно, а через внутренний порыв. Поэтому именно этот Китоврас, на которого надето кольцо с именем Божьим, который в начале мистерии уже в человеческом облике, в виде господина в крылатке и котелке, встречается у храма Христа Спасителя, а потом у Исаакиевского собора (в разных вариантах по-разному) с молодой женщиной Софией. Китоврас говорит ей о том, что она является воплощением Софии — Премудрости Божьей, выясняет, что она является искательницей высшей правды, и она хочет такого царства, такого идеала, в котором сошлись бы небо и земля, и в котором все было бы преображено, то есть чаяние апокатастасиса в ней есть. И он начинает как бы быть ее Вергилием по разным царствам, которые воплощают разные представления человечества об идеальном строе.
А. Козырев
— Ну, небо и земля в Советской России не сошлись, а вот то, что на Красной площади он видит и купола древних соборов, и мавзолей Ленина, и советские символы, я помню, как он это переживает в тексте и видит во всем этом грани нашей русской истории. Может быть, Муравьев один из первых, кто сказал о континуальности русской истории, о том, что русская история выражает себя в совершенно, казалось бы, посторонних чужих, но которые становятся своими, да?
А. Гачева
— Да. Более того, он очень хорошо понимал, что в конечном итоге сам ход русской истории переварит большевизм и превратит его во что-то глубинно национальное, поэтому он стремится расширить духовный горизонт строителей нового мира.
А. Козырев
— Как у нас боролись с религией, а теперь руководитель компартии заявляет: «Кто не православный, тому нечего делать в КПРФ», да?
А. Гачева
— Ну, это идеи христианского социализма, о которых говорили и Достоевский, и Сергий Булгаков. Более того, у него в дневнике есть очень интересный текст, помимо мистерии «София и Китоврас». Он, как я уже сказала, в 19-м году, а затем в 20-м, после того, как был арестован по делу Тактического центра, 4 месяца сидел в тюрьме, а сначала был приговорен к расстрелу, который заменили на заключение, затем его освободили, помиловали, и он еще четыре месяца жил в своем имении «Онега». Там он писал философский дневник, где завязи очень многих его сочинений, в том числе очень много размышлений о мире, Церкви, истории, человеке, соборности, путях России в истории. Там есть очень интересное представление о Церкви как образе совершенного строя жизни, он размышляет о том, что соборность, коллективизм большевиков — это такая безрелигиозная соборность.
А. Козырев
— Эгрегор такой.
А. Гачева
— Да. Но он имеет шанс, тут он близок к Николаю Сетницкому, который в книге «О конечном идеале» говорит, что любой дробный идеал, кроме идеалов, несущих в себе абсолютное зло типа фашизма, вот эти дробные идеалы несут в себе частичку правды и чаяния правды, могут быть доращены до целостного идеала, и он так хотел дорастить большевизм.
А. Козырев
— Вот «София и Китоврас» — мистерия, которую он писал, наверное, сидя за пишущей машинкой в советских учреждениях, где он заведовал какими-то отделами, но эта книга не была опубликована и вряд ли у нее был шанс быть опубликованной в 20-е годы в Советской России. А вот другая книга — «Овладение временем» была опубликована и даже имела определенный серьезный след, поскольку имела подзаголовок, я сейчас боюсь ошибиться...
А. Гачева
— «Овладение временем как основная задача организации труда», она так называлась.
А. Козырев
— Научная организация труда — это была тема очень важная, естественно, она была связана с производством, с тем, что нельзя терять время, надо эффективно его использовать, повышать производительность труда. Наверное, для Муравьева это было связано не только с чисто позитивистскими моментами экономии времени, труда, мышления, что звучит очень воодушевляюще. Можем ли мы овладеть временем так, чтобы, например, оказываться в будущем или бывшее делать не бывшим? Вот что вкладывал Валериан Муравьев в идею овладения временем?
А. Гачева
— Конечно, название сугубо современное для его эпохи, потому что лозунг о владении временем, экономии времени, как вы уже сказали, был главным. «Время», «энергия», «система» — эти формулировки пестрили на страницах журналов, и «Организации труда», и журнала «Время».
А. Козырев
— Он же даже работу, по-моему, нашел после этой книги?
А. Гачева
— Да, нашел работу, я сейчас скажу об этом. Но, конечно, он не это сюда вкладывал. Если мы обратимся к черновым наброскам этой книги, более того, во многом эта книга вырастает из диалогов о времени, которые составляют суть, большой пласт в мистерии «София и Китоврас». Дело в том, что сама философская мистерия, он долго искал жанр произведения, сначала это должен был быть роман, потом все-таки он перешел к форме философского диалога, взятого у Соловьева и у романтиков, у Одоевского и других. Там был такой диалог о времени. И когда он начинал работать над книгой «Овладение временем», в его набросках звучит это знаменитое: «Времени больше не будет», апокалиптическое. На самом деле, должна была книга называться не «Овладение временем», а «Преодоление времени». Это как раз понимание того, что смертный строй бытия, в котором время течет, не может повернуться вспять, всякий момент последующий вытесняет предыдущий, отсюда постоянное взыскание того, чтобы остановить мгновенье. Еще Карамзин говорил: «Я бы воскликнул: „Остановись, мгновенье!“, если бы мог одновременно воскликнуть: Воскресните, мертвые!» То есть тема преодоления времени для него апокалиптическая, тема пресуществления, пресотворения всего бытия в Царство Христово, где времени больше не будет, где будет полнота времен, он отсюда исходит. Кроме того, если мы обратимся к тому, что в это время в науке происходит: идеи Эйнштейна, идеи Минковского, теория множеств Георга Кантора, которую он трактует религиозно. И у него там есть интересное размышление об идеальной Омеге, которая есть Церковь, которая есть полнота всего сущего.
А. Козырев
— Вот я хотел вспомнить Николая Михайловича Осоргина в Париже, профессора-литургика и регента великого, уже ушедшего от нас, он говорил в лекциях: «В Церкви времени нет, для Церкви времени нет». Потом пояснял, что Церковь живет в особом времени, циклическом, где воспроизводится время Христа, праздники. Может быть, это перекликается с идеей, что времени больше не будет, это устремляет нас к какому-то апокалиптическому свершению. А времени нет — значит мы сейчас уже можем переместиться в то, что предваряет это вечное, обратив внимание на вечное. То есть сюда Муравьев вкладывал религиозный смысл, прежде всего, а не то, что «мы, большевики, владеем всем временем, пространством».
А. Гачева
— Но при этом тут что важно понимать. С одной стороны, он вкладывал этот религиозный смысл, но, как я уже сказала, он все-таки во многом последователь идеи Николая Федорова и такой философ активного христианства. И как для философа активного христианства, человечество в истории должно исполнить дело Божье. Мы знаем, что Федоров считал, что человечество должно во всей совокупности своих культурных, научных и творческих сил соучаствовать в преображении мира, вот в этом акте «воскрешения мёртвых и жизни будущего века», о котором мы в «Символе Веры» каждый день вспоминаем и на литургии, и в домашней молитве, «Символ Веры» всегда с нами. Для Федорова слова апостола Павла о том, что «вера — это осуществление чаемого» были важны, и Муравьев именно так мыслит. На самом деле, это было огромное дерзновение его в советскую эпоху, которая все время выдвигала тему организации труда — вернуть нас к подлинному пониманию труда, который есть религиозный долг человека. Об этом писал Сергий Булгаков в книге «Философия хозяйства», где он говорит: «Мир как хозяйство, а что такое хозяйство для человека, что такое труд человека на планете Земля — это исполнение божественной заповеди обладания землей». То есть человек не просто какой-то пилигрим в бытии, перекати-поле или паразит-захребетник природы, который ресурсы Земли истощает, в этом смысле Муравьев был резким критиком капиталистической системы хозяйствования. То есть человек должен возделывать бытие и тема возделывания ему очень близка, поэтому тема труда у него соединяется, как у отца Павла Флоренского, с идеей культуры, понятой тоже религиозно, как возделывание мира. Он с Флоренским, кстати, тоже общается в начале 20-х годов.
А. Козырев
— Идея такой антиэнтропийности культуры, все-таки второй закон термодинамики гласит, что энергия вырождается, превращается в тепловую, мир разрушается, жизнь исчезает, а задача культуры в том, чтобы этот процесс запустить в обратную сторону.
А. Гачева
— В обратную сторону, да. Причем интересно, как Муравьев ищет какие-то общие понятные для своей эпохи слова, и поэтому в книге «Овладение временем» у него есть идея всеобщей космократии, пантократии, перехода от символической культуры, которая только рисует образы преображения мира, это искусство, литература, даже политика, а есть реальные сферы: медицина, биология и так далее. Он, кстати, интересовался идеями евгеники, хотя понимал ее религиозно, своеобразно, и в этом смысле спорил с Кольцовым, который говорил об улучшении человеческой породы. Муравьев говорил, что человек не порода скота, а человек по образу и подобию Божию создан. Так вот, для Муравьева очень важно расширить горизонт строителей нового мира, поэтому он говорит: «да, космократия, да, владение временем», но понимает под этим вот это религиозное действие, христианство, выходящее за границы храма, монастыря, которое одушевляет религиозным идеалом преображения, возделывания себя, вот этим Христовым: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», все сферы дела и творчества человека, то есть он фактически говорит о христианизации политики, экономики, дипломатии, культуры. Об этом очень много в мистерии «София и Китоврас», в диалогах этого много, и в прикровенном виде это есть и в книге «Овладение временем». И, конечно, он на языке эпохи говорит. Я, например, работала с рукописями Муравьева, вот у него есть первоначальный пласт текста, где звучат темы теократии, соборности, культуры, труда как осуществления соборности. Он это все переписывает, теократию превращает в космократию, соборный в коллективный, мессианский в какой-нибудь общечеловеческий и так далее, но пытается все равно донести по принципу Sapienti sat. То же самое делает и Флоренский, его знаменитый реферат, который он написал для словаря «Гранат», где он пишет: «Основным законом мира Флоренский считает второе начало термодинамики — закон Хаоса, действующий во всех областях мироздания. Миру падшему противостоит Логос — начало эктропии. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием». И мы понимаем, что этот Логос для него — Божественный Логос, это слово, творящее мир и собирающее его. То есть опять мы к имяславческой проблематике выходим и к религиозному оправданию культуры, которая тесно связана и с темой имяславия, и с темой преображения мира.
А. Козырев
— Мне почему-то вспоминается музыка Свиридова к фильму «Время — вперед», помните? Там есть такой знаменитый фрагмент, с которого программа «Время» начиналась. Это на самом деле такие пляски смерти, это румба, и неслучайно в фильме там есть изображение учителя анатомии, который скелет показывает, и вот этот скелет пляшет. То есть когда мы пытаемся время совершенно неосознанно разогнать и отнестись к нему как к чистому прогрессу, мы получаем вот такие печальные итоги. Свиридов очень хорошо в свое время говорил: «Время — это Кронос, пожирающий своих детей». То есть время без религиозного разрешения времени действительно превращается в Кронос или в Молох.
А. Гачева
— Абсолютно точно, и Муравьев это хорошо чувствовал. Вообще он все 20-е годы работал в советских учреждениях, сначала в библиотеке ВСНХ, потом в Центральном институте труда, он был ученым секретарем ЦИТа. Но он постоянно и в своих писаниях, и в своих выступлениях стремится расширить этот горизонт, внести религиозное начало в человеческое действие, в труд и культуру. Он очень хорошо это понимает. Более того, сознание неполноты, ущербности и провальности человеческого действия без религиозных оснований, того, что Достоевский называл: «добродетель без Христа», и творчества, действий без Христа, он осознал, у него есть замечательный текст: «Заметки о Новом Афоне и монашестве». В 1926 году он едет в Сухум по путевке, и из Сухума он движется в Новый Афон. Мы знаем, что монастырь разорён, он ходит по этому разорённому пространству, спрашивает, где монахи, выясняется, что афонские монахи ушли в горы. Он встречает одного из монахов монастыря, который ему рассказывает о том, что сейчас происходит на Новом Афоне, и говорит о том, что продолжается хозяйство, здесь колхоз теперь создан, апельсины выращивают. И в письмах друзьям, этот текст построен как некое письмо друзьям в Москве, он размышляет о религиозных основаниях культуры, о том, что русские монастыри демонстрировали как раз подлинный образ христианского труда на земле, потому что труд здесь не отделён от молитвы, от смирения и в то же время от ответственности, от религиозного преображения. Он описывает, как прекрасно выглядел Новый Афон, монастырь еще до разорения, где были виноградники, апельсиновые деревья и так далее, то есть это был кусочек рая на земле. Потом он напишет в 1927-1928 году пьесу «Советник смерти» (он ещё писал художественные произведения), очень сильное произведение о таком новом Гегезии, когда интеллигент-профессор — апологет самоубийства. В общем, он тоже представитель философского кружка, это очень характерные вещи, когда в 20-е годы на дому собирались философские собрания. И вот на одном из философских собраний он читает доклад о самоубийстве и потом пытается это осуществить, уезжает как раз в Сухум и в Сухуме пытается сброситься со скалы. И когда он уже был готов сброситься со скалы, он встречает мальчика, и мальчик этот на некоторое время удерживает его от самоубийства, потому что между ними разворачивается диалог. Он спрашивает этого мальчика: «А что ты хочешь делать, кем ты хочешь быть?» Мальчик говорит: «Я буду агрономом, на Афоне буду апельсины сажать». И вот эту фразу: «апельсины на Афоне» он произносит перед тем, как бросится в пропасть. Я очень долго думала о том, почему он эту фразу произносит. На самом деле апельсины на Афоне без Афона, без монастыря — это вот то безрелигиозное строительство мира, которое тупиково.
А. Козырев
— На Соловках арбузы выращивают.
А. Гачева
— И он как бы уходит, он в некотором смысле выражает протест против такого ущербного строительства жизни и истории, лишенного религиозного основания.
А. Козырев
— Ну что же, мы сегодня затронули очень разные аспекты творчества Валериана Николаевича Муравьёва, это и политическая публицистика, и мистерия, и философские, проективистские работы, но которые в основе своей имеют религиозный и космологический характер. И даже его художественную прозу, поскольку он был ещё и писатель. Благодаря нашей сегодняшней гостье Анастасии Гачевой, мы увидели, насколько это многогранный был человек, и насколько богата наша русская культура. Нельзя сказать, что Валериана Муравьёва широко знают, он не входит в школьную программу, о нём, наверное, не сняты фильмы пока, поэтому пускай ваш труд выльется в то, чтобы популяризация таких выдающихся людей, искателей религиозных, людей-исповедников, поскольку его жизнь закончилась трагически и мученически — он был арестован, умер от тифа в тюрьме, — стала известной нашим соотечественникам, и чтобы мы богатели, прирастали богатством, открывая вот такие удивительные имена нашего прошлого. Я благодарю вас за то, что вы пришли в студию. В эфире программы «Философские ночи» на Радио ВЕРА были Анастасия Гачева и я, ведущий Алексей Козырев. До новых встреч в эфире!
Все выпуски программы Философские ночи
28 января. О пророчествах пророка Давида о Христе в Псалтири

О пророчествах пророка Давида о Христе в Псалтири — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 января. О благоразумии и бодрствовании в молитвах

О благоразумии и бодрствовании в молитвах — настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
Все выпуски программы Актуальная тема
28 января. О личности и мировоззрении Василия Ключевского

Сегодня 28 января. В этот день в 1841 году родился историк Василий Ключевский.
О его личности и мировоззрении — настоятель московского храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема













