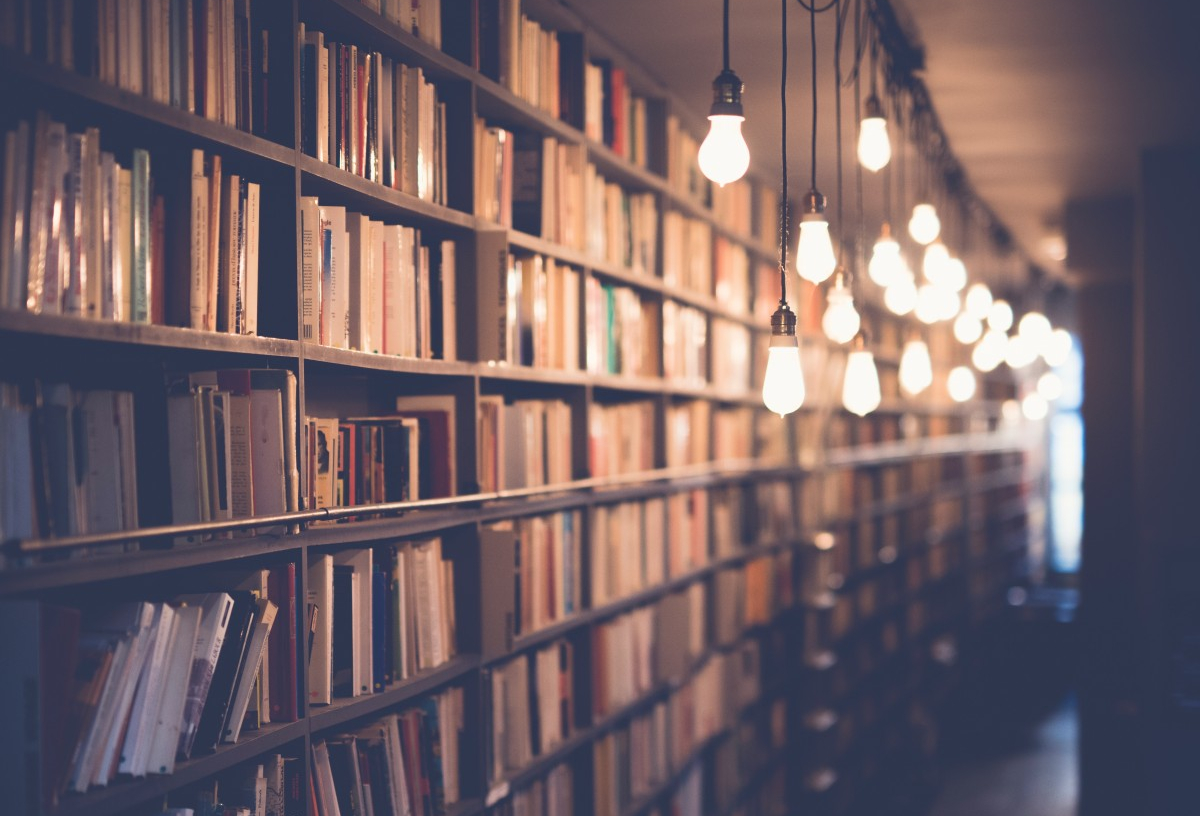
Гость программы — Дмитрий Трибушный, иерей, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Донецке и научный редактор издательства ПСТГУ Егор Агафонов.
Ведущий: Алексей Козырев
Все выпуски программы Философские ночи
- «Философия труда и заботы»
- «Вера в Бога и познание себя». Игумен Дионисий (Шлёнов)
- «Кто такие православные зумеры»
Алексей Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о святом Иустине (Поповиче), его философии и богословии. У нас сегодня в гостях иерей Дмитрий Трибушный, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Донецка и научный редактор издательства ПСТГУ Егор Агафонов. Здравствуйте.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Здравствуйте.
Егор Агафонов:
— Добрый вечер.
Алексей Козырев:
— Поводом для нашей сегодняшней встречи является книга, которая вышла недавно в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета «Человек Христов. Преподобный Иустин (Попович), богослов и чудотворец Челийский». Составителем этой книги является отец Дмитрий, который чудесным образом оказался у нас сегодня в гостях в Москве. Вы служите в Донецке, я понимаю, что сегодня приехать сюда — это уже поступок, это не так просто. Но мне кажется, очень символично, что оказавшись здесь, прибыв из разных институций, городов, мы решили поговорить о сербском святом, богослове, можно сказать, нашем современнике. Это человек 20-го века, человек прошлого века, который во многом разделил его судьбу. Я надеюсь, отец Дмитрий нам сегодня расскажет о его непростой биографии, потому что значительную часть жизни он прожил в социалистической Югославии, где богословские взгляды отнюдь не приветствовались, где свободы богословской мысли не было. И в то же время такой удивительный человек, который оставил после себя много творений и который, прожив достойную жизнь, через небольшой промежуток после своей христианской кончины был прославлен Сербской Православной Церковью в лике святых. Насколько я знаю, и в наших святцах, Русской Православной Церкви его имя, имя святого преподобного Иустина также присутствует. То есть это святой, которого мы почитаем, которому мы молимся и которого мы читаем. Книги его мы можем сегодня читать. Передо мной еще одна его книга, вышедшая в издательстве «Никея» — «Философские обрывы» или «Философские пропасти» иногда переводят название этого сочинения. Эта книга, в названии которой есть слово «философия». Значит, преподобный Иустин был еще и философ. Его ведь нарекли в монашестве в честь мученика Иустина, насколько я знаю.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Иустин был философом, совершенно верно.
Алексей Козырев:
— Как получилось так, что человек, живший в такую непростую, богоборческую, я бы сказал, эпоху, не только богоборческую, но и эпоху, когда были две страшные войны — он застал и Вторую мировую — стал, во-первых, удивительным по своей духовной судьбе, а во-вторых, интеллектуалом во Христе, я бы так сказал? Наверное, отец Дмитрий начнет.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Для меня отец Иустин это один из героев Достоевского. Это человек, который воплощает в себе одновременно двух Карамазовых. С одной стороны, это Иван Карамазов, с другой стороны, это Алексей Карамазов. Это такой герой из ненаписанной книги Достоевского.
Алексей Козырев:
— Ну, так про Соловьева так же говорили, что он совмещает и Алешу и Ивана.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Мне кажется, что Соловьев являет того героя, который был промежуточным, того, которого чуть-чуть успели описать. Отец Иустин — это то, что Достоевский хотел написать, но не успел. Потому что в нем уже есть та твердость духа, которой традиционно нет у героев Достоевского, которых мы условно называем положительными. У Достоевского мир устроен так, что если София, она с недостатками, занимается определенной деятельностью. Если князь Мышкин, он должен быть эпилептиком и проиграть. Если Алеша, он с метаниями, с поисками. Он все время искал того, кто не будет обладать свойствами двойственности, дуализма.
Алексей Козырев:
— Целостность личности.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Отец Иустин такая целостная личность, которая одновременно включает в себя уникальное ощущение бездны мира, то, что книга называется «Философские обрывы» это очень важно. В двух этих словах выражается, наверное, мировоззрение отца Иустина: философский и обрывы. У него острое ощущение бездны, которая скрывается рядом снами. При этом философия для него такой мост, это любовь к подлинной Софии, к подлинной мудрости, которая позволяет через этот мост перейти. Наверное, никто как отец Истин, не выразил две эти интуиции. С одной стороны, интуиция бездны, пустоты, а с другой стороны, интуиция того, что весь мир пронизан Богом, сияет Богом, и весь мир это в определенном смысле, не пантеистическом, это Бог. Поэтому отец Иустин это удивительное явление того, как человек умеет синтезировать в себе разнородные начала и приводить их к целостности. Самое важное слово для отца Иустина — единство, это представитель единства жизни и мысли, единства противоположностей и так далее. Отец Иустин в этом плане уникальное явление в мировой культуре и в отечественной культуре, потому что он тот, кто попытался воцерковить выдающиеся интуиции русской мысли, которые до сих пор под знаком вопроса.
Алексей Козырев:
— Давайте сначала немножко о его биографии расскажем. Он же ведь из крестьянской семьи сербской.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Он из простой семьи.
Алексей Козырев:
— Там восемь детей было, по-моему, у его родителей.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— У него уникальная судьба в том, что он родился и умер в один день, в день Благовещения. Это особый знак от Бога.
Алексей Козырев:
— И мирское имя у него было...
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Благой.
Алексей Козырев:
— Благой, то есть в честь Благовещения.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— В честь Благовещения. И это было имя заклинательного порядка. Там все дети рождались и умирали, и предполагалось, что это имя его спасет. Оно его действительно, не имя, конечно, но Господь через это имя его спас. Получилось так, что он получил хорошее начальное образование и потом его отправили учиться в Петроград. И когда он учился в Петрограде, это было совсем недолго, он очень сильно полюбил русскую культуру, эта любовь сохранилась у него до конца жизни.
Алексей Козырев:
— Это было прямо перед революцией 17-го года.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Перед революцией. Он успел немножко здесь побывать.
Егор Агафонов:
— 15-16-й год, меньше года он пробыл в Петрограде, в Петроградской духовной академии.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Меньше года, да. Но очень полюбил Россию, и для него Россия навсегда стала второй родиной. Дальше его Господь повел в Оксфорд, и в Оксфорде он себя проявил очень интересным образом. Он вел подвижническую жизнь такую, что американские монахи смотрели на него с восхищением, для них это был такой пустынник древности. Чтобы не зависеть материально от стипендии, которую предоставляла Великобритания, он зарабатывал своим трудом. И в это время, он усиленно поглощает высочайшие образцы европейской культуры. Опять возникает двойственность. С одной стороны, он преклоняется перед высотой европейской культуры, для него есть всегда гиганты духа в Европе. С другой стороны, тот дух европейский, который он замечает в этот период, вызывает в нем большой страх и сомнение. Как человек, воспитанный, влюбленный в Достоевского, он во многом продолжает линию Достоевского, где с одной стороны есть всемирная отзывчивость, а с другой стороны, критическое восприятие Запада. Это критическое восприятие Запада приводит к тому, что оно отражается в его письменной итоговой работе, ее не принимают, и ему приходится возвращаться в Сербию, впоследствии он защитится в Афинах.
Алексей Козырев:
— Она была Достоевскому посвящена?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— О Достоевском, да. Здесь два момента есть. Все-таки отец Иустин вырабатывает уже тогда свой стиль, он совершенно не академический. Для человека, который привык к четкому выражению мысли, к четкой однозначной подаче идей, отец Иустин будет соблазном, потому что это текст на грани между философией и поэзией, с повторениями, с эмоциональной включенностью. Опять же, для человека, который знаком с русской религиозной мыслью, это Флоренский или «Свет невечерний», то есть литература личностная, литература, которая имеет эмоциональный оттенок. Мог же Лосев написать в «Диалектике мифа», что он хотел познать небо, даже женился на астрономии, и все равно у него много загадок. Представить такой стиль в академической работе, наверное, мог не каждый. Поэтому отец Иустин остался не понятым в этом плане мыслителем. Наверное, сейчас, когда разрабатываются новые жанры, теоэстетика и еще что-то, его стиль, может быть, был бы более приемлемым. А так он оказался не у дел и свою диссертацию защитил впоследствии в Афинах. Причем, интересный момент в том, что перед защитой у него диссертацию украли со стола, ему пришлось ее восстанавливать, только после этого он получил желанную степень. А степень ему была важна не для того, чтобы ей гордиться, но у него была очень важная мысль, что в современном мире тебя проще услышат, если у тебя есть ученая степень.
Алексей Козырев:
— Ну, это богословская степень была? Магистр богословия?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Доктор, по-моему, богословия. Хочу обратить внимание, что все его ученики ближайшие, получили по несколько образований. У него было к образованию очень уважительное отношение, оно не всегда встречается у монашествующих, некоторые считают, что это препятствие. Но такие люди, как отец Иустин (Попович) или Софроний (Сахаров) считали, что образование должно быть фундаментальным. Если ты хочешь понять мир, если мир тебя услышит, то для этого нужно иметь базу и мост, который соединяет с миром. Не было в нем отрицания знания. Что интересно, когда он получил свою степень, то восхищался крестьянкой, которая научила его вере, может быть, более глубоко. Он шел в паломничество и хотел подвезти ее, она сказала, мне нечего принести святому, я принесу только то, что пешком к нему иду. Его это удивило, он сказал: Иустин, Иустин, ты учился, получил степень, но этой простой вере ты не научился. И в нем впоследствии будет соединяться интеллектуальное начало, колоссальная эрудиция с верой простого человека. Впоследствии этот человек, который был одним из основателей Сербского богословского общества, знаменитым преподавателем, человеком, который издавал книги, с приходом к власти коммунистов он был арестован и приговорен к расстрелу. Чудом, благодаря тому, что один из тех, кто решал его вопросы, был его ученик, он был освобожден из темницы, и оказался без преподавания, без зарплаты, без пенсии, без ничего. Его приютил монастырь Челие. Для тех людей, кто приходил в монастырь Челие, он был вначале просто обычный батюшка, духовно одаренный, простой старец, как в России. А для интеллектуалов это было место паломничества к человеку, который с тобой говорило о Гюго, который интересовался судьбой Солженицына. То есть это был человек, который соединял в себе высокую простоту, высокую интеллектуальность, которая не поедает простоту.
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях отец Дмитрий Трибушный и Егор Агафонов. Мы говорим о святом Иустине (Поповиче), о богослове, философе, духовном отце, старце 20-го века. У меня такой вопрос, отец Дмитрий. Достоевский. Некоторые верующие люди говорят, это какой-то низший этап, он может привести человека к вере, но Константин Леонтьев писал о Достоевском, что это розовое христианство, где вы видели таких старцев в монастырях, как старец Зосима, что, якобы, Оптинские монахи посмеивались, когда обсуждали роман «Братья Карамазовы». Не было же Иустину (Поповичу) мелко и розово слишком это христианство, написал он о нем свою книжку. Не только святой Иустин, но, например, митрополит Антоний (Храповицкий) с которым, наверное, Иустин (Попович) пересекался в Сремски-Карловцах, тоже написал о Достоевском очень хороший труд. Как вы считаете, Достоевский может быть путем к подлинной вере?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Я в этом глубоко убежден, отец Иустин как раз был таким героем Достоевского в жизни, потому что в нем было видении отца Зосимы, видение мира. И оно было не книжным, оно было живым. Это был такой отец Зосима 20-го века, но с определенной коррективой, что отец Иустин принадлежал к аскетической восточно-христианской традиции. Но при этом мог прочитать Достоевского так, что Достоевский избавлялся от того, за что его ругал собственно Леонтьев. Достоевский в интерпретации отца Иустина, конечно, это не розовое христианство. Не случайно Зандер говорил о том, что та книга, которую отец Иустин написал о Достоевском, это прекрасная введение, прежде всего, не столько в Достоевского, сколько в христианскую традицию, как таковую. Интерпретация отца Иустина это интерпретация Достоевского как христианского мыслителя. Одна из его жизненных задач заключалась в том, что он своего любимого автора прочитывал через призму традиций, и считал, что Достоевский прекрасный выразитель православной христианской традиции. Не просто ступень, не просто розовое христианство, он находил в нем как раз то, что является выражением христианства как такового.
Алексей Козырев:
— У Зандера, кстати, тоже была книжка о Достоевском «Тайна добра». И в своем время мне подарил ее отец Борис Бобринской с автографом Зандера ему и его супруге. Так что у меня такая реликвия в моей библиотеке хранится. Зандер был профессиональный философ, он преподавал философию на Дальнем Востоке, в Харбине, поэтому, наверное, его высокая оценка книги святого Иустина что-то значит.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Она очень много значит, потому что он первый обратил внимание на отца Иустина, как на мыслителя и выделил очень важный момент, который является спорным. Он подчеркнул, что у отца Иустина есть такая симметрия, отец Иустин много говорит о присутствии ничто в творении, он все время подчеркивает эти бездны пропасти. Во многом творчество отца Иустина стало ответом на критику Зандера. В дальнейшем отец Иустин больше говорит не только об обрывах и о безднах, а о переполненности светом человека. Для меня отец Иустин это софиологический мыслитель.
Алексей Козырев:
— А можно я Егору задам вопрос, Егору Агафонову, который не только редактор ПСТГУ и редактор этой замечательной книжки «Человек Христов» преподобного Иустина (Поповича), но и редактор серии в издательстве «Никея». Правильно я говорю?
Егор Агафонов:
— Да, совершенно верно. Серия «Неопалимая купина» называется.
Алексей Козырев:
— Где издаются современные богословы. В этой серии вышел книжка «Отец Сергий Булгаков»
Егор Агафонов:
— Собственно говоря, с этой книги и началась серия «Неопалимая купина». Сборник «Чаша Грааля».
Алексей Козырев:
— «Чаша Грааля» называется. По-моему отец Савва (Мажуко) составлял.
Егор Агафонов:
— Верно.
Алексей Козырев:
— Который тоже был нашим гостем здесь в этой передаче. В этой же серии вышла книга преподобного Иустина «Философские обрывы». Как вы считаете, почему в первых книгах этой серии вы взяли этих двух авторов, на чем основывался это выбор и похожи ли они, тот же отец Сергий Булгаков и святой Иустин?
Егор Агафонов:
— Я не буду преувеличивать значение сознательного выбора в книгах серии, потому что не всегда серии планируются сознательным образом, часто работаешь с теми текстами, которые более готовы на данный момент, чем какие-то другие, которые ты планировал. Не стоит преувеличивать это соседство и придавать ему какое-то таинственное значение. Совершенно очевидно, что и отец Сергий Булгаков и преподобный Иустин являются фигурами, условно говоря, первого ряда православного богословия 20-го века. Они очень разные. Для меня, может быть, не столь очевидна, как для отца Дмитрия, та психологическая направленность преподобного Иустина, о которой он говорил. Может быть, я более традиционно к нему отношусь и таких тонкостей не вижу. Но то, что это фигуры равновеликие по своему философскому дарованию, по творческому дерзновению, по смелости, с которой они вторгаются в философские вопросы, это совершенно очевидно. Отец Дмитрий сейчас замечательно сказал о свойствах богословия преподобного Иустина. Я бы хотел добавить со своей стороны еще одну черту, без которой его совершенно нельзя понять, это его феноменальный профетический дар. Это действительно, пророк и по необычности своих текстов, и по необычайной духовной энергетики, и по яркости образов, и, по большому счету, пророком мы, скорее, назовем не того, кто предсказывает нам будущее, а того, кто открывает нам причины настоящего. И в этом смысле отец Иустин в своих трудах как раз проявляет необыкновенную, феноменальную глубину. И если мы вернемся к этой книге «Философские обрывы», которые можно перевести и как обрывы и как пропасти, как было в разных переводах. Это действительно одна из самых выдающихся книг отца Иустина, написанная им в межвоенные годы. Он писал эту книгу переполненный ощущениями, с одной стороны, закончившегося мира, мира, закончившегося с Первой мировой войной. А с другой стороны, весь исполненный неясных, но катастрофических и тяжелых предчувствий о том, что в Европе происходит агония гуманизма, о которой говорил и его старший учитель и друг Николай Сербский, Николай (Вельямирович), и о чем он сам говорило постоянно. Он не мог не чувствовать, что эта агония гуманистического понимания человека не может не разразиться какой-то страшной катастрофой. И именно в этой книге предчувствие катастрофы, предчувствие не просто тупика, а именно страшного обрыва, в который готова сорваться европейская цивилизация, европейская культура, которая переводит вертикаль в горизонталь, и отказывается во многом, не всегда, конечно, но отказывается именно от вертикальной иерархии ценностей. О том, что это не может не закончиться катастрофой, он говорит глубоко и ясно в этой книге. Она была написана перед Второй мировой войной, хотя не была опубликована в Югославии, ее опубликовали уже после войны в Германии в начале 50-х годов, до этого времени она была только в рукописи. Но сами его интенции оказались совершенно пророческими, потому что то, какие страдания перенесла Европа в целом и родная для преподобного Иустина Сербия в годы Второй мировой войны, я думаю, что об этом хорошо известно.
Алексей Козырев:
— Ну, да там есть все новации, Усташи...
Егор Агафонов:
— Усташский террор в независимом государстве Хорватия, бесконечные войны между разными группами партизан, немцев, все это было крайне трудно и весьма кроваво.
Алексей Козырев:
— А обращение преподобного Иустина к светской культуре. Обычно считают, что богослов должен христианские догматы рассматривать, говорить о Троице, Символ Веры истолковывать. А архимандрит Федор (Бухарев) писал, вы помните, о романе Чернышевского «Что делать?» и о романе Тургенева «Отцы и дети». Не кажется ли вам, что преподобный Иустин в чем-то похож на этот тип христианского мыслителя, когда, например, он касается Метерлинка. Ну что такое Метерлинк? Для нас это «Синяя птица», это спектакль, который все мы в детстве смотрели во МХАТе.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Все мы «шли вереницей».
Алексей Козырев:
— Шли вереницей за «Синей птицей». Мы даже не знали, что все это происходит в ночь на Рождество, потому что в советской постановке это был вырезано. Но Метерлинк не христианский автор, это автор, у которого есть много христианских символов, коннотаций, но чем дальше, тем больше он отходит от христианства, он отходит от Христа. Это важно для преподобного Иустина, он чувствует ту бездну, в которую скатывается не просто европейская культура, но лучшие в этой культуре. Насколько эта культура должна быть важна для богослова? Ну, культура и культура, это в министерство культуры обращайтесь, а у нас Церковь, мы здесь молимся, у нас здесь иконы, здесь вечные смыслы, чего нам эта культура? А вот преподобный Иустин об этой культуре пишет. Зачем она ему?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Я сейчас попробовал вспомнить какого-то хорошего богослова, который не интересуется культурой, и что-то сходу не вспомнил. Один из величайших богословов 20-го века, которого часто изображают сейчас на иконах рядом с отцом Иустином, хотя он не прославлен в лике святых, отец Думитру Стэнилоаэ, будучи пожилым человеком, ходил на Тарковского, для него это было нормально в Румынии пойти посмотреть на Тарковского, дать свой анализ «Сталкера». Также для отца Иустина культура была с одной стороны миром, в котором он живет, потому что это было его пространство. С другой стороны, для него это была лакмусовая бумага на состояние мира. Помните, у Гессе в «Игре в бисер» рассказывается о том, что раньше император определял состояние империи по состоянию музыки. Для отца Иустина такой музыкой был и Метерлинк. И что интересно, у отца Иустина при всей его ортодоксальности мы находим добрые слова Камю. Казалось бы, православный священник, богослов такого уровня должен был просто Камю разгромить, не оставить от него камня на камне. Но у отца Иустина было крайне жалостливое сердце, и он сопереживал Камю, сопереживал Ницше. Известна история, которая приводится в книге, когда он сказал, что если бы не нашел Христа, то стал бы, как этот безумный взбалмошный Ницше, и заплакал. Для него Ницше был, с одной стороны, диагноз европейской культуры, диагноз гуманизму. Но с другой стороны, для него Ницше был не враг, а тот, кого он оплакивал, у него было колоссально любящее сердце. Поэтому я уверен в том, что богослов не может не жить в культуре. Богословский корректив культуре или богословская параллель, которая пересекается с культурой, это попытка посмотреть на культуру глазами Христа, проложить путь, который идет от вечности к культуре, и открыть вечное в культуре. Я глубоко убежден в том, что если ты богослов, то ты с культурой связан органично, ты в ней присутствуешь, ты в ней живешь, потому что так же убежден в том, что культуре невозможно приобщиться, как невозможно приобщиться мысли. Ты либо есть в мысли, либо тебя нет. Нельзя научить мыслить, по большому счету, но и нельзя жить в культуре, если ты к ней не причастен. Поэтому быть богословом это означает быть причастным Кресту, Который с одной стороны есть горизонтальная линия культуры, а с другой стороны вертикальная линия культа, это взаимосвязанные вещи. Иустин не был бы Иустином, если бы не было Достоевского. Отец Иустин как раз и показал, что мышление богослова крестообразное, иначе ты не богослов.
Алексей Козырев:
— Можно, наверное, смотреть снизу вверх, а можно сверху вниз. Как Вячеслав Иванов смотрел из культуры на Бога и говорил в переписке «Из двух углов», что культура это память о великих посвящениях, о великих инициациях, и, в общем-то, он, наверное, обрел Бога в конце своей жизни, он комментировал Библию, издавал псалмы, был членом Папского комитета по культуре в Ватикане. Но все-таки это был человек культуры, который от классической филологии, от Эсхила шел к алтарю. А может быть, наверное, и другой взгляд, взгляд богослова на культуру, который уже имея в душе своей Христа, понимая, что вся история человечества это история Боговоплощения, смотрит на культуру, соизмеряя ее с этим. Наверное, это взгляд преподобного Иустина.
Егор Агафонов:
— Если позволите, я немножко добавлю, два слова к тому, что сказал отец Дмитрий об отношении преподобного Иустина к культуре. Это совершенно верно, и надо сказать, что в какой-то мере, стараясь воспроизвести отношение Христа к культуре, не к культуре как к какому-то комплексу мертвых артефактов, но к культуре как образу жизни живого человека и живого человечества. Воспроизводя это отношение, преподобный Иустин не мог не сострадать. Для него любое явление культуры всегда было, в первую очередь, не каким-то отвлеченным понятием, идеей, с которой нужно спорить. Даже не соглашаясь с идеей, как таковой, он всегда видел за ней страдающее человеческое сердце. И именно по завету своего любимого Достоевского разделенность этого человеческого страдания всегда лежала в основании отношения преподобного Иустина к культуре в целом и к каждому конкретному человеку, ее творящему. Вот пример о Ницше, который привел отец Дмитрий, сейчас вспомнил, он очень хорошо, ярко это показывает.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Я кстати, убежден, что Достоевский находится в раю. И моя убежденность строится на том, что даже если бы Достоевский не был бы в раю, то отец Иустин не позволил бы ему остаться ему где-то в другом месте, он его бы вытянул в любом случае. Я знаю точно про одного человека, что он в раю, это Достоевский, потому что есть отец Иустин. У меня абсолютная убежденность в этом.
Алексей Козырев:
— Мы сегодня говорим об удивительном богослове, о святом преподобном Иустине (Поповиче), святом Сербской Православной Церкви и святом Вселенской Православной Церкви.
Егор Агафонов:
— В 2010-м году он был канонизирован Вселенской Православной Церковью, а через три года прославлен и включен в список и месяцеслов Русской Православной Церкви также.
Алексей Козырев:
— Давайте после небольшой паузы вернемся в студию и продолжим наш разговор о святом Иустине (Поповиче).
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наши сегодняшние гости Иерей Дмитрий Трибушный и научный редактор издательства ПСТГУ, Свято-Тихоновского православного университета Егор Агафонов. Мы сегодня говорим о преподобном Иустине (Поповиче), сербском богослове. «Человек Христов» — так называется книжка, которая совсем недавно вышла в издательстве ПСТГУ и где собраны, я так понимаю, не только тексты святого Иустина, причем избранные, поскольку он очень много написал, но и воспоминания о нем, какие-то свидетельства.
Егор Агафонов:
— Совершенно верно. Это книга трехчастная, она начинается жизнеописанием преподобного Иустина, который составил досточтимый отец Дмитрий, за ним идет подборка замечательных, интересных и очень живых воспоминаний, заканчивается это очень небольшой, скромной, но яркой подборкой афоризмов преподобного Иустина. Ему была очень свойственна афористичность и яркость мышления и выражения своих мыслей. Поэтому никто как он не подходит для такого рода подбора кратких выдержек. И конечно, это даже в малейшей степени не может представить собой всего наследия отца Иустина, оно огромно. На русский язык переведено не так уж много. А огромное собрание сочинений преподобного Иустина, издание его до сих пор не завершено, им ведал недавно почивший ученик преподобного Иустина, покойный владыка Афанасий (Евтич). Он как раз курировал это издание. Далеко не все еще в этом двадцатитомном издании вошло, что было написано и создано преподобным Иустином. Даже в Сербии на данный момент нет полного издания творений преподобного Иустина как такового, хотя есть уже двадцать книг большого формата и объема.
Алексей Козырев:
— Вы говорите про афоризмы, я не могу удержаться, чтобы не прочитать два афоризма, пользуясь статьей отца Дмитрия в замечательном «Христианском чтении». Это святой Иустин говорит: «Человек на 99% с Неба и лишь на 1% от земли», «Чем меньше Бога в человеке, тем меньше человека в человеке». Как просто и в то же время как глубоко.
Егор Агафонов:
— Прошу прощения, если я немножечко вместо отца Дмитрия скажу фразу из его стихотворения. Надо сказать, что мы забыли упомянуть, что отец Дмитрий помимо своего священнического, писательского, проповеднического служения, еще и, с моей точки зрения, замечательный поэт. Я хотел бы вспомнить одну замечательную строку из его стихотворения. «Что человечит человека?» Получается, что по мысли преподобного Иустина, «Бог человечит человека».
Алексей Козырев:
— Да. Отец Дмитрий вспомнил здесь софиологию отца Сергия Булгакова. И вообще мысль, которую вы высказали в начале нашей передачи, что отец Иустин испытал влияние русской религиозной философии. Часто о ней говорят, как чуть ли не о ереси, что ведет к гностицизму, к каким-то соблазнам теософии, пантеизму. Но ведь оно может и к святости вести, как мы видим, да? Поскольку человек, который читал... Читал он Соловьева, Булгакова или про эти интуиции?..
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Точно он читал Флоренского, потому что из Флоренского у него в текстах бывают прямо скрытые периоды. Не потому что это плагиат, а он все воспринимал как свое, у него было это чувство такого вселенского родства. Например, когда отец Иустин говорит о том, что в западном понимании любящие находятся друг напротив друга, а в восточном понимании они становятся единым и целым, это явный Флоренский, он практически его дословно цитирует. По поводу Соловьева, конечно, сложнее, по поводу Соловьева и другой мысли. Но интересный момент в том, что отец Иустин, который был пылкий, яркий обличитель ереси, никогда не высказывался негативно о Булгакове. Я ни разу не встретил у него ничего отрицательного с точки зрения отношения к мысли Булгакова. Наоборот какие-то теплые высказывания.
Егор Агафонов:
— Простите, вы говорили. что он публиковал его статьи в своем журнале, который издавал в Сербии перед Второй мировой войной. Публиковались статьи Булгакова.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Да, публиковал. Но мне кажется, что здесь какое-то духовное родство. Я считаю, то, что делает отец Иустин как оригинальный мыслитель, это в какой-то степени софиологический корректив. Мы знаем, что Зеньковский говорил о том, что проблематике закона абсолютной софиологии мешает само понятие софиологии. Отец Александр Шмеман говорил, что надо убрать понятие София, оно мешает самому Булгакову. То есть его опыт не нуждается в понятии София. Тот же опыт сияния Бога, присутствия Бога в мире, который характерен для софиологических мыслителей, я к таким отношу Максима Исповедника, Паламу, отца Иустина, из тех, кто прославлен в лике святых. Это те мыслители, которые пытаются связать три начала: Бог, человек и мир, и пытаются, как Зандер говорил, найти этот союз «и». И для отца Иустина характерно софиологическое восприятие мира, как присутствие Божие, как Богоявление, как этой небесной красоты. И здесь либо сродство мыслителей, либо действительно влияние русской философии. Я помню первое впечатление, когда читал отца Иустина, я подумал, что что-то Соловьевское. Ведь отец Иустин совершил колоссальный подвиг, он ввел в рамки православного мышления два понятия, которые критикуют — Богочеловечество и всеединство. Никогда в рамках догматического богословия не присутствовало понятие Богочеловечества. И даже когда Соловьев говорил о Богочеловечестве, это критиковалось. Никогда не было понятия всеединство, потому что его связывают обычно с пантеизмом. Если Зеньковский говорит о всеединстве у Франка, то у него это с некоторым критическим оттенком. Отец Иустин взял смелость такие пререкаемые понятия в своем Иустиновском смысле ввести в систему христианского богословия, и догматического богословия, которое является наукой. По Булгакову опять же он говорил, что это строгая наука, бухгалтерия религиозного опыта, отец Иустин ввел в эту строгую бухгалтерию такие пререкаемые понятия. Он, конечно, был знаком с русской мыслью. В какой степени, это еще предстоит уточнить. Есть замечательный ученый в Сербии Богдан Лубардич, он этим занимается специально, он показывает, что действительно отец Иустин во многом зависел от русской религиозной философии. Он ее воцерковил, он убрал, может быть, некоторые острые углы. У него очень много интуиций рассеянных. Например, у него интуиция единотелесности. Космос есть продолжение человеческого тела. Эта тема начинается от философии хозяйства, она есть у Карсавина, ее развивает отец Иустин. Отец Иустин говорит о том, что ощущение единой души, мы подходим к теме «души мира». Тот же Зеньковский, который очень критически относится к Булгакову, говорит о том, что понятие души мира является необходимым понятием. Но для Зеньковского душа мира это Церковь, и это очень близко к отцу Иустину. Такие интуиции спорные, характерные для русской мысли и не только, у него присутствуют в неразвернутом виде. Для меня он абсолютно софиологический мыслитель, но с таким ортодоксальным коррективом.
Егор Агафонов:
— Видите, как он воцерковляет эту терминологию. Как внутри его личной подвижнической жизни с одной стороны, и существования мыслительной парадигмы догматического богословия, использование таких терминов проходит своеобразное воцерковление.
Алексей Козырев:
— В Новом Завете тоже есть учение о всеединстве, оно теологическое, эсхатологическое, «Будет Бог все во всем», говорит апостол. Поэтому всеединство можно понимать не как данность, а как...
Егор Агафонов:
— Заданность.
Алексей Козырев:
— Заданность, и не Бог везде, а все в Боге, все мыслится с точки зрения Бога. И тогда, наверное, это возможно церковно оправдать и церковно промыслить.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— В этом плане очень важна мысль отца Иустина. потому что даже само внимание к Булгакову в современном мире подчеркивает, насколько актуальны его мысли. Тот же Булгаков сформулировал много вопросов богословия как минимум. Вопрос личности, вопрос кеносиса в троичной жизни, социальные вопросы, софиология войны, очень много актуальных вопросов. Но, опять же, отец Сергий Булгаков это такая стереотипная фигура, которого используют, я недавно думал, как упражнение для школьного богословия. Что отец Сергий Булгаков написал не так?
Алексей Козырев:
— Груша для битья.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Да. Оттачивают свою мысль, тренируются. Вот здесь у него не так написано, здесь у него не так. Я это увидел в себе самом, и меня это тоже испугало. Я сейчас пишу о Булгакове и для меня важно, чтобы не превратить его в грушу для битья. А отец Иустин параллельно Булгакову разрабатывал те же интуиции, но был более аккуратен в своих формулировках. Для Булгакова мир творится из Самого Бога, то для отца Иустина мир это есть такая новизна во Христе. Но при этом его выражение: человек на 99% с неба. Ведь получается, если довести эту мысль до конца, то субстанция, которая определяет бытие человека, является Бог, эту мысль можно считать пантеистической. Но в мировоззрении отца Иустина этим просто подчеркивается, что человек это не автономное существо, это не автономная субстанция, человека не может быть без Бога, человек это не монада, которая заключена в себе самом.
Алексей Козырев:
— Меня поразила мысль о Боговоплощении, которая им была высказана. Что само Боговоплощение уже было заложено в плане Творения, потому что мы часто воспринимаем Боговоплощение как средство борьбы с грехопадением человека.
Егор Агафонов:
— Реактивное действие. Реакция на падение Адама.
Алексей Козырев:
— Человек пал, Адам пал в первородном грехе, и поэтому Бог посылает Искупителя, чтобы исправить эту счастливую ошибку, кто-то из католиков, есть выражение такое felix culpa — счастливая ошибка. Но на самом деле, воплотился ли бы Бог в Иисусе Христе, если бы не было грехопадения? Это большой вопрос.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Спор о Софии, одна из глав посвящена этому вопросу. И в споре о Софии молодой Владимир Лосский четко и однозначно выступает против этой идеи. Потом он становится более мягким, называет ее праздной и нереальной. Но что интересно, не менее острый критик любого отступления от ортодоксии, отец Георгий Флоровский допускает эту идею. А патристика подчеркивает, что мысль о том, что Бог воплотился бы, даже если бы не было грехопадения, характерна для Максима Исповедника, Никодим Святогорец ее поддерживал, и Никодим Святогорец опирается на Паламу. Эта же мысль проходит у Булгакова, и она очевидно проходит у отца Иустина. Эта традиция нам подчеркивает некую сообразность Творца и творения. Как раз на той тонкой грани, чтобы не сказать, что мир это есть отражение Творца, продолжение Творца. Но, тем не менее, для отца Иустина весь мир изначально создан для того, чтобы Бог воплотился. Я могу сказать, у меня есть свое толкование, которое строится на том, что любовь требует полного воплощения, и таким полным воплощением было вочеловечение. Вне зависимости от того, было бы грехопадение или нет, чтобы быть в любимом и быть любимым, то есть то, что мы желаем, жить жизнью любимого... Помните одна их книг у Софрония (Сахарова) называется «Его жизнь это моя жизнь».
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Это одна из идеальных формул любви. Я на этой формуле, продолжая отца Иустина, строю свое понимание необусловленного Боговоплощения. Если ты любишь, ты желаешь жить жизнью другого, и мы никогда не живем полной жизнью другого. И только Господь может позволить жить абсолютно полной жизнью другого. Поэтому я глубоко убежден в том, что эта идея является идеей православной. Мы не отрицаем историчность воплощения Христа, искупительный момент, но та мысль, которую я условно называю софиологической, от Максима Исповедника или раньше и до отца Иустина, и подчеркивает это единство, которое возникает в результате творения мира, Господь дарует это единство. Оно онтологически отстоящее природы, но когда Господь создает человека, Он создает его для единства, чтобы мы были вместе с Ним.
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». Мы сегодня с нашими гостями, иереем Дмитрием Трибушным и Егором Агафоновым, говорим о личности, о творчестве, о книгах преподобного Иустина (Поповича), сербского святого, богослова 20-го века. В последней части нашей программы мне хотелось бы спросить, каково место сегодня его книг, его текстов, его образа мыслей среди прихожан сербских, а может быть, ваших прихожан. Читают в вашем приходе Иустина (Поповича), знают это имя?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Благодаря батюшке точно знают. А второй момент, у нас уже поступают сообщения: батюшка, будет ли книга об отце Иустине, как ее найти, как ее заказать? То есть у нас уже есть очередь, разрабатывается операция по доставке книги из Москвы в Донецк, интерес есть. Я убежден в том, что интерес к отцу Иустину надо еще пробуждать, надо обращать внимание на это имя, потому что не все его понимают, не все его чувствуют. Мне бы хотелось, чтобы на него обратила внимание больше и академическая наука. Но я могу сказать точно, что у нас на приходе его читают, читают и «Философские обрывы», читают его толкования на Священное Писание, тоже абсолютно своеобразное. У нас изучают его жизнь как образец христианской жизни. Это не святой для богословов, это не святой для ученых умов, это святой, который в какой-то момент для меня открылся с другой стороны. Думал, вот он сидит в монастыре Челие, как его воспринимали окружающие люди. И вдруг я нахожу воспоминания монахини Олимпиады, дневник, и вижу, что для людей он был просто старцем. Того он исцелил от пьянства, тому что-то предсказал. Это был народный старец. И был, и остается, и соединяет в себе народного старца, который для всех, и утонченного интеллектуала. Поэтому я глубоко убежден, что он нужен всем.
Егор Агафонов:
— Философ при первоначальном значении этого слова — Любомудр.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Любомудр.
Алексей Козырев:
— У меня почему-то такая параллель в сознании возникла с Нектарием Эгинским. Меня как-то занесло на Эгину в Грецию и оказалось, что этот святой почитается не только греками, но очень много и сербов, и русских паломников приезжают на этот остров. Он жил несколько раньше, в 1920-м году преставился. Но тоже такой не от мира сего, бедный, неустроенный, не имеющий роскошной рясы, умерший от рака в какой-то местной больнице.
Егор Агафонов:
— Тоже человек Христов.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Мы ему служим молебен раз в месяц.
Алексей Козырев:
— Святому Нектарию?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Да молимся.
Алексей Козырев:
— Удивительно, что сегодня открывается это общеправославное богатство. Мы не делим на поместные квартиры, это русский святой, это греческий, а это сербский, но открывается богатство святости, которое свойственно всему миру Православия.
Егор Агафонов:
— Возвращаясь к вашему вопросу о том, насколько знают у нас преподобного Иустина, я хотел бы нашим слушателям сказать о замечательной возможности, которая предоставляется им сейчас для того, чтобы узнать о нем побольше. В нашем Свято-Тихоновском университете сейчас проходит русско-сербский фестиваль «Сербское утешение русскому сердцу». Во время этого фестиваля проходит достаточно большое количество событий, открыто несколько выставок, целый кинолекторий, презентация книги отца Дмитрия, о которой мы говорим сегодня, прошла также на нем. Но я бы хотел особенно обратить ваше внимание на то, что в рамках кинолектория будут показаны два замечательных фильма прекрасного сербского режиссера и священника Ненада Илича, который так же приезжает в Москву на показы своих фильмов, это будет возможность встретиться с автором на показах. Будет показан фильм «Святой Николай Сербский» 24 октября, а 26 октября в малом зале Дома кино будет показан замечательный фильм, такое киножитие «Авва Иустин», посвященный преподобному Иустину (Поповичу). Все проходы на наши мероприятия бесплатные, для этого надо только зарегистрироваться на сайте фестиваля, который легко можно назвать по названию «Сербское утешение русскому сердцу». Всем, кто захочет познакомиться с преподобным аввой Иустином поближе, я крайне рекомендую посетить эти кинопоказы и встречу со священником и режиссером Ненадом Иличем.
Алексей Козырев:
— Это возможно сейчас, 2022 год, когда мы находимся в студии и записываем эту передачу. Если кто-то будет слушать ее повтор, я надеюсь, эти фильмы будут доступны.
Егор Агафонов:
— В принципе, их и сейчас можно найти в интернете, они есть на ютубе, но в данном случае наши показы имеют не только свою озвучку, но самое главное — встреча с режиссером.
Алексей Козырев:
— Да, это очень важно. Планируете ли вы что-то еще издавать? И вообще, если оценить книжное наследие преподобного Иустина, мы говорили сегодня большей частью о «Философских обрывах» и о книжке, которая является визитной карточкой, если так можно назвать, здесь фотографии, афоризмы.
Егор Агафонов:
— Введение в Иустинологию.
Алексей Козырев:
— Введение. А если представить, что он успел сотворить как богослов?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Корпус его наследия, я повторюсь, невероятно обширен. У него есть огромная догматика, догматическое богословие, которое издано на русском языке, переведено. Он автор многотомных житий святых, они на русский не переведены, но по большому счету они во многом повторяют жития святых Дмитрия Ростовского, поэтому, может быть, не являются вполне самостоятельным произведением. Они были очень важны для Сербии. В наследии отца Иустина осталось достаточно много комментариев на Евангелие, не на все Евангелия он успел сделать, но на несколько Евангелий и на некоторое число апостольских посланий, тоже не все переводы на русский язык еще сделаны. И прошлый год у нас был годом Достоевского, у нас была идея издать под одной обложкой обе книги преподобного Иустина о Достоевском, ту диссертацию, которую мы упоминали, которая позже им была издана, и вторую его книгу. Но к сожалению трудности издательские, которые нас не оставляют со времен начала коронавируса, пока заставили эту идею отложить. Я надеюсь, что мы все-таки к ней вернемся, потому что действительно тексты преподобного Иустина о наследии Достоевского, наверное, одно из лучших, что было о нем написано.
Алексей Козырев:
— Я так подумал, есть мало святых философов. Конечно, блаженный Августин, если мы будем историю Церкви рассматривать, а из наших современников я даже не знаю. Флоренский пока не прославлен. Может быть, Михаил Александрович Новоселов святой.
Егор Агафонов:
— Да, он прославлен и канонизирован.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Философ Леонов-Новоселов.
Алексей Козырев:
— Да, он был толстовец, потом пришел в Церковь, он такой больше был аскет и учитель монастырского православия. Поэтому действительно к святому Иустину стоит обратиться философам в поисках...
Егор Агафонов:
— Какого-то покровителя.
Алексей Козырев:
— Да, покровителя, современного покровителя.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Есть еще один человек, о котором у нас в русской культуре совсем не известно. Хайдеггер его назвал вторым мыслителем 20-го века. Это отец Думитру Стэнилоаэ. Я не знаю происхождение этой фразы Хайдеггера, но я ее встречал в источниках, это тоже священник. В отличие от отца Иустина он женатый священник, который прошел через лагеря Чаушеску, через тюрьмы и оставил тоже достаточно интересное наследие. И в ближайшие годы, возможно, он будет прославлен в лике святых. Что интересно, когда отец Иустин не был прославлен в лике святых, и в издательском мире, и вообще в православном мире он всегда воспринимался как святой. Изображения были абсолютно все иконописные с нимбами. И на книгах, которые даже в России выходили до его прославления, всегда было написано «преподобный Иустин». То есть до того, как стал святым, его уже почитали как святого. На фресках он изображается со вторым мыслителем 20-го века, с отцом Думитру Стэнилоаэ.
Егор Агафонов:
— Они составляют некую пару сейчас. А ко второму нимб можно будет пририсовать в любой момент.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Такое единство у них есть.
Егор Агафонов:
— Раз зашла речь про замечательное наследие отца Думитру, я хотел бы обнадежить тех людей, которые продолжают читать богословские книги. В нашей серии «Неопалимая купина», мы очень надеемся, что в начале следующего года выйдет первый полноценный сборник трудов отца Думитру на русском языке. До этого были публикации отдельные журнальные, но мы надеемся, что наша книга наследия отца Думитру будет первой.
Алексей Козырев:
— Кто переводил эти афоризмы? Это ваша работа, отец Дмитрий?
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Нет, я собирал их из разных источников. У нас достаточно много переведено отца Иустина. Достаточно сказать, что было фактически два параллельных собрания сочинений его. То, что издавал Фонов в «Паломнике», и был проект издательского отдела Московской патриархии, там выходила его догматика. Поэтому у нас есть даже две версии переводов одних и тех же текстов. Люди работали по отдельности, поэтому много и других текстов, которые в разных переводах существуют. У нас достаточно большой русский отец Иустин (Попович).
Алексей Козырев:
— Я прочитал предисловие владыки Марка Берлинского к «Философским обрывам», и понял насколько это непросто, и сам язык преподобного Иустина непростой, и сам перевод с сербского, близкого языка, но все-таки другого, где «слово» обозначает «буква», «логос» не всегда переведешь как «слово». Где слово «образ Божий» в человеке по-сербски это «лик». Многообразие это разноликость. Удивительная слово, которое тоже понятно русскому читателю, но есть свои нюансы. Поэтому большая сложность передать эту музыку, обаяние мысли, все-таки мыслил-то он по-сербски.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Многие его и не понимают, из-за чего? Когда его открываешь, думаешь, сейчас будут четкие мысли, по-моему, один из курсов лекций Адорно начинается с того, что Адорно говорит: я не дам вам сейчас никакой мысли, я дам вам путь к мысли, но не дам какие-то конкретные идеи, конкретные высказывания. От отца Иустина иногда ожидают четкой догматической системы, четкое высказывание. Отца Иустина интересно еще читать, это красиво. Сейчас популярна становится теоэстетика. Это теоэстетика, которая тоже связана, кстати, с Флоренским. Флоренский замечательно сказал: «Православие не доказуется, православие показуется». Отец Иустин — это явленное показанное православие. Если ты хочешь понять, что такое православие, ты должен открыть эту книгу, чтобы увидеть этот свет, который идет изнутри. Это православие. Отец Иустин это не только «что», но еще и «как», единство формы и содержания, явленная красота небесная через человеческое слово, он был прекрасным поэтом по своему существу.
Алексей Козырев:
— Я думаю, что теперь наши слушатели просто должны открыть книги преподобного Иустина (Поповича) и проверить на своем читательском и духовном опыте то, что сегодня сказали наши гости, отец Дмитрий Трибушный и Егор Агафонов. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность прибыть в нашу студию, что мы сегодня сделали, на мой взгляд, очень важную программу о преподобном Иустине (Поповиче), соединяющем в своей мысли святость, духовный опыт, философию и богословие.
Егор Агафонов:
— Спасибо.
Иерей Дмитрий Трибушный:
— Спасибо вам.
«Первый снег»

Фото: Anasatsia Zolotukhina/Unsplash
Первый снег мы всегда воспринимаем как чудо милости Божией. Своей белизной он напоминает нам о дне нашего духовного рождения во святом крещении, когда мы облеклись в белоснежные, светоносные одежды Христовой благодати. Покрывая мрачную, мёрзлую землю, снег молча учит нас покрывать любовью и великодушием недостатки ближних. Быстро тая, снежный покров говорит нам о ненавязчивости, такте и деликатности — неотъемлемых качествах просвещённой благодатью и нравственно зрелой христианской души.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу

1 января. О доверии Богу как любящему Небесному Отцу — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.
Все выпуски программы Актуальная тема
1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей

1 января. О вере, мужестве апостола Павла и примере для нас в перенесении трудностей и скорбей — клирик московского храма Святителя Николая в Хамовниках священник Алексий Долгов.
Все выпуски программы Актуальная тема













