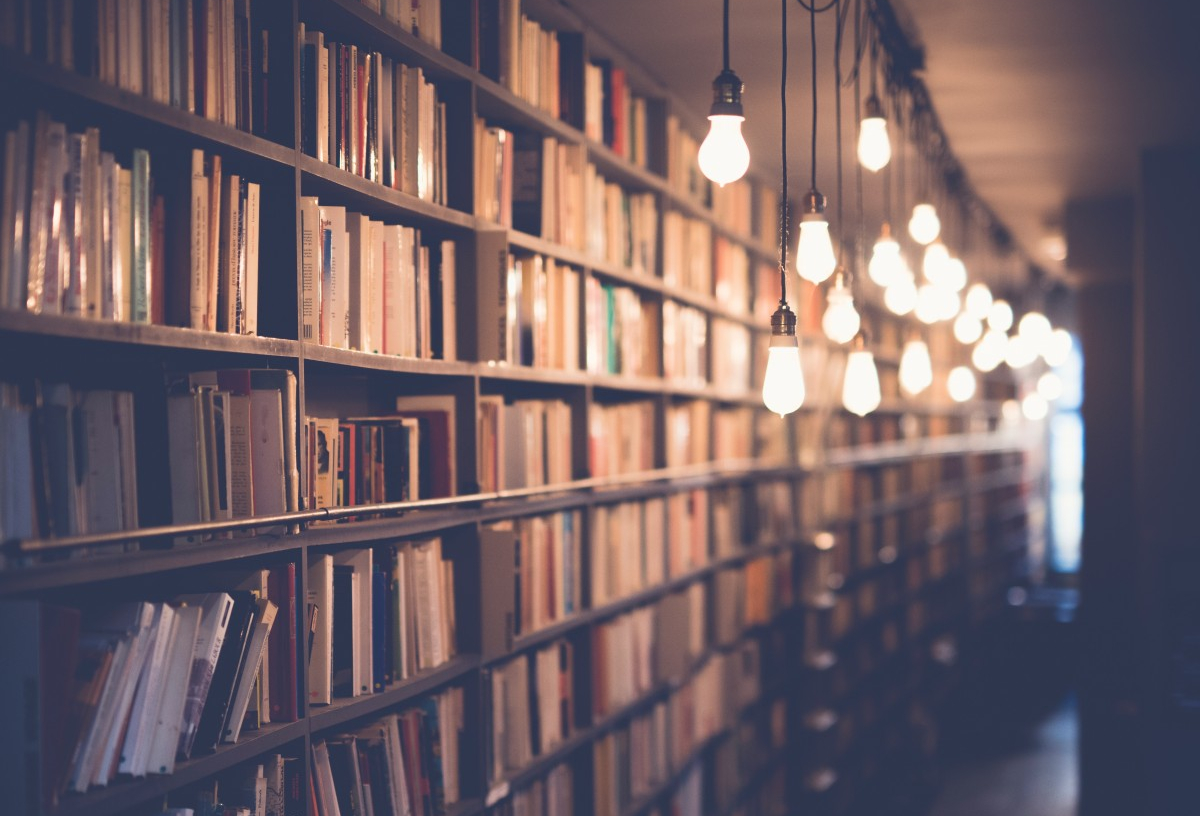
Гость программы — Олег Евгеньевич Погудин, народный артист Российской Федерации, певец, актер.
Ведущий: Алексей Козырев
Алексей Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о том, как философия сочетается с исполнительским искусством певца и актера. У нас сегодня в гостях народный артист России, певец Олег Евгеньевич Погудин. Здравствуйте, Олег Евгеньевич.
Олег Погудин:
— Здравствуйте, Алексей Павлович.
Алексей Козырев:
— Я очень рад, что вы пришли к нам в студию. Я недавно был на двух ваших концертах, один из них великопостный, молитва, где вы исполняли песни иеромонаха Романа, в основном, а другой был — монография, посвященная творчеству Булата Окуджавы. И тоже это как-то очень современно прозвучало, видимо, вы продумали последовательность песен, это был разговор о сегодняшнем дне, о том, что с нами происходит. Не просто ваше признание в любви выдающемуся поэту, но и некое послание нам, послание слушателям. Я очень рад, что вы пришли на философский эфир, может быть, это несколько неожиданное амплуа.
Олег Погудин:
— Неожиданное, неожиданное.
Алексей Козырев:
— Хотя почему-то, слушая и ваши концерты, и читая и слушая ваши интервью, я вижу, что вы часто упоминаете слово «философия», говорите о философском отношении к жизни, о сущности человека. В «Парсуне» было ваше замечательное интервью. Вы интересуетесь философией, у вас был какой-то период или вы постоянно обращаетесь к философским текстам?
Олег Погудин:
— Был период, когда я обязан был интересоваться философией, к сожалению, по большей части марксистско-ленинской.
Алексей Козырев:
— Когда учились.
Олег Погудин:
— Когда учился, да. ВУЗ театральный, который я заканчивал, как и все театральные ВУЗы страны на тот период проходили по разряду идеологических учебных заведений, естественно, философию марксистско-ленинскую нам преподавали. Поскольку педагоги, профессора были очень хорошие, то преподавали ее достаточно интенсивно.
Алексей Козырев:
— Наверное, не только философию, но и эстетику марксистско-ленинскую.
Олег Погудин:
— Да все подряд, естественно диамат, истмат, потом политэкономия и все это, понятно, в каком варианте. Закончилась наша официальная философская программа выдуманным и вымороченным совершенно предметом, это был уже 90-й год, последний семестр, само название не столько философское, сколько литературное. Вот оцените: «Курс кратких проблем теории социализма». Это совершенно необходимая для актеров дисциплина научная, но так или иначе. Вернусь к тому, что я сказал чуть выше. Педагоги, профессора были замечательные, сильные. Я сейчас вспомню имя прекрасного Юрия Матвеевича Шора. И потому, помимо официальной всей парадигмы, которую мы обязаны были проходить — на актеров часто смотрели сквозь пальцы, от нас не требовали фундаментального знания в этом плане — так вот помимо официальной части нам все-таки досталась, слава Богу, в каком-то объеме философии классической, я имею в виду античной и философия нового времени. То есть для меня именно Аристотеля, Платона или даже Анаксимандра.
Алексей Козырев:
— И Сократ, куда без них.
Олег Погудин:
— В основном, понятно, Сократа, Аристотеля, Декарта, Гегеля, Канта, Шопенгауэра, Шпенглера. Это не пустые слова, они даже обличены каким-то значением, какими-то смыслами. Но я даже не близко, не то, что дилетант в философии, я даже, должен сказать, совершенный профан.
Алексей Козырев:
— А вот в этот ряд Станиславского можно поставить? Он для вас философ театра или просто это великий режиссер, который изменил по своему представлению искусство актера.
Олег Погудин:
— Тут ключевое слово «великий». И оно в себя включает в любом случае философское отношение к своему делу и к жизни. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, конечно, у любого человека, который склонен думать.. Не все склонны думать, не все любят это занятие.
Алексей Козырев:
— Это противоестественно даже.
Олег Погудин:
— Ну почему?
Алексей Козырев:
— Естественно не думать. Есть, пить, одеваться. А вот когда человек начинает задумываться, это уже...
Олег Погудин:
— Мы с вами вступаем, на самом деле, в диалог. Сейчас, как о сократики и платоники и неоплатоники и так далее, начнем говорить о диалектике, может быть, даже найдем истину, в конце концов, придем к ней, по крайней мере, мы с вами согласимся с какими-нибудь выводом. Я не считаю, что не думать естественно. И не хочу сейчас говорить пошлости какие-то, тем более в присутствии профессионала, ученого и педагога. Повторюсь, в области философии я вынужден и должен называть себя профаном, за исключением одной, может быть, области. Опять-таки я буду говорить здесь не о философии, я могу сказать «религиозная философия». Но тогда необходимо было бы оговорить о Соловьеве, Бердяеве, Булгакове, Трубецком, Флоренском. Моей не только компетентности, но даже начитанности не хватит, чтобы всерьез говорить об этих именах. Хотя единственный философ, обаянию которого в свое время я подчинился и уделил достаточно серьезное внимание, то есть о котором я могу хоть как-то отдалено рассуждать, это Владимир Соловьев. Но опять-таки встреча моя с Соловьевым произошла под художественным вектором в связи с Достоевским, в первую очередь.
Алексей Козырев:
— «Три речи» о Достоевском?
Олег Погудин:
— Да. И в связи с русскими символистами. Это замечательная совершено статья, и стихи оттуда я цитирую до сих пор. Они мне доставляют определенное наслаждение, как и выводы философа, в культурном плане, в художественном даже, даже я бы сказал в художественной критике, так и с точки зрения каких-то философских заключений. Но вернусь опять к тому, что хотел сказать. Единственная область, которая в философии или в любомудрии, я уже тут употреблю это слово, мне как-то знакома и знакома милостью Божией на практике уже в течение трех десятилетий, это собственно говоря, православие. Православие, понятное дело, нельзя рассматривать как философию. Но, безусловно, с философской точки зрения и внутренней философии, которой православие обладает, мы тоже можем об этом говорить и рассматривать его. В этом плане, конечно, философия не только проникает в мое творчество, то есть то, что я выношу на сцену, но и во многом определяет его. Это вполне естественно. Я думаю, что любой состоявшийся артист, тем более артист-одиночка, в руках которого весь процесс сценического делания, когда происходит концерт или спектакль, такой артист просто обязан философствовать, обязан понимать и постигать какие-то вещи в своем творчестве не только эмоционально, не только интуицией, не только профессией и художественно, но в том числе и рационализируя и мудрствуя в хорошем плане.
Алексей Козырев:
— Леонтьев называл себя одиноким мыслителем, Константин Николаевич. И для философа, конечно, это одиночество есть, скорее, достоинство. Бердяев пишет об одиночестве в смысле познания.
Олег Погудин:
— Кант.
Алексей Козырев:
— Да. А вот артист всегда член какого-то целого — театра, хора, действа.
Олег Погудин:
— Нет, не всегда, бывают солисты.
Алексей Козырев:
— Но они все равно поют в театре.
Олег Погудин:
— Не бывает артиста без партнера, это однозначно, даже если ты один стоишь на филармонической сцене. Представьте себе, например, такую ситуацию, совершенно стерильную, когда ты вокализируешь акапелла, и нет даже музыкантов, все равно есть зритель. Если же мы вернемся, мы можем молиться в одиночестве, можем петь молитвословия, песнопения сами, это, мне кажется, очень радостное и достойное дело, мне когда это приходит на сердце и когда это является естественной потребностью. Мало того даже, собственно говоря, у апостола написано: «Счастлив ли кто из вас, да поет». Но даже в этом случае существует партнер, мы не в какое-то пустое пространство обращаем свое пение, а к Богу или к святым. То есть партнер существует всегда, артист не может существовать вне партнера, это бессмыслица.
Алексей Козырев:
— Другой значимый.
Олег Погудин:
— Да.
Алексей Козырев:
— Когда начинался ковид, мы сделали передачу об одиночестве, когда мы вступали в самоизоляцию, хорошо это или плохо. Действительно, это философское понятие, но один — все равно с Богом. Когда человек абсолютно один, у него нет другого, он не выживет просто в этой ситуации.
Олег Погудин:
— Да, я согласен.
Алексей Козырев:
— Для вас иногда бывают такие минуты, когда хочется побыть одному, вы любите одиночество или скорей человек общения?
Олег Погудин:
— Я не люблю одиночество, я совершенно экстраверт. Но есть моменты... Актеры, и певцы соответственно тоже, мы работаем над своим телом, поэтому иногда необходимо отдыхать, не в смысле в бытовом, а просто собирать себя по частям обратно, потому что ты достаточно много отдал, и для того, чтобы быть способным даже не только работать, а как-то себя адекватно воспринимать в этом мире, необходимо себя собрать. И вот момент «себя собрать» почти всегда включает в себя момент затворения в своей келье, одиночества, но не как идеи. Одиночество как идея для меня одно из самых ужасных, что можно представить себе. Одиночество как инструмент, как необходимый короткий временной период, я его благословляю, конечно, оно необходимо.
Алексей Козырев:
— У католиков есть такое понятие — ретрит или ретрет.
Олег Погудин:
— Это понятие есть не только у католиков, оно, по-моему, даже в рыночной экономике существует.
Алексей Козырев:
— Да, да. Куда-то на время уехать, вместе помолиться, почитать Евангелие, пообщаться.
Олег Погудин:
— Вы сказали вместе.
Алексей Козырев:
— Вместе, да. Опять, такие общежительные монастыри в православии. В монастырь человек вроде бы уходит от мира, но он уходит в братию, он живет вместе с братиями, делит с ними свои труды, свои молитвы, свои...
Олег Погудин:
— В киновии, насколько я понимаю, там вообще нет личного имущества, там такое реальное общежитие.
Алексей Козырев:
— Да, да. В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, певец, актер, народный артист России Олег Евгеньевич Погудин. Мы говорим сегодня о философии исполнительского искусства, о философии вокала. И вот здесь вы упомянули имя князя Евгения Трубецкого. Трубецких было много, даже в русской философии можно троих насчитать. У него есть замечательный очерк «Умозрение в красках». В трех очерках о русской иконе это первый очерк, и это стало своего рода метафорой для описания того, что такое русский космос, русская мысль, русская философия. Оказывается, можно философствовать не только в слове, не только на бумаге, не только в тексте, можно философствовать и в иконе. А вот в голосе можно философствовать?
Олег Погудин:
— Наверное, тут надо договариваться о терминах. Ведь период, 1915 год время написания этой работы...
Алексей Козырев:
— Да.
Олег Погудин:
— ... это Серебряный век. Если относительно моего художественного восприятия. Соответственно это период художественного взгляда на происходящие события, на перспективы того, что будет, на историю, в том числе и на науку даже, во всяком случае, на гуманитарные науки и на философию в частности. Как нам определить Флоренского, кто он — философ, богослов, священник, инженер, художник, литератор?
Алексей Козырев:
— Поэт.
Олег Погудин:
— Ну, литератор, в том числе и поэт. Это личность возрожденческого, космического характера.
Алексей Козырев:
— Ну, и время называется русский религиозный ренессанс или третье славянское возрождение, по разному.
Олег Погудин:
— Да. Вот что здесь очень важно. Опять-таки надо договариваться о терминах. Философия как наука это одно. Философию можно представить как искусство, вполне себе. Философия в поисках чистого разума или онтологических поисков или метафизического поиска первопричины. Или философия творчества, допустим, это тоже философия, но она немножко другого плана, это не чистые какие-то размышления и любомудрие, поиск каких-то ответов сущностных. Это вполне может быть утилитарная какая-то вещь — метод, набор инструментов для постижения каких-то конкретных целей. Допустим, мы можем говорить о философии творчества, можем говорить о философии, да можем говорить о чем угодно, о философии цвета. Мы будем, скорей, рассуждать об образах, а может быть о целях, чего мы хотим достичь, о результатах. А это все философия. Философия, действительно, мать всех наук, действительно, еще с античных времен.
Алексей Козырев:
— Философией цвета занимался Скрябин, один из композиторов той эпохи.
Олег Погудин:
— Да. И практики, которые этим занимались, в том числе и гениальные, безусловно.
Алексей Козырев:
— А если говорить о сцене и о вокальном искусстве, то два великих имени в эту эпоху возникают. Это Шаляпин и Вертинский. Это совершенно разного рода актеры, певцы, но для меня они сыграли колоссальную роль в моей жизни, потому что когда я был еще школьником и ничего не знал про церковь, про веру, у меня было восемь пластинок Шаляпина, кто-то подарил отцу и я их слушал на дешевом проигрывателе «Юность». В том числе и молитвы, и «Верую» я выучил с диска Шаляпина.
Олег Погудин:
— Скажите, философия это, искусство это, провидение, что это?
Алексей Козырев:
— И «Ныне отпущаеши» Строкина тоже выучил с диска Шаляпина, когда еще не знал, что это Символ веры, что это читается в самый ответственный момент литургии верных. А потом я познакомился с Вертинским уже в старших классах школы, в десятом, наверное, классе. Это меня сначала оттолкнуло, потом привлекло. Я вообще не понимал, как так можно, так многообразно, так ярко, так сочно и так вызывающе в какие-то моменты петь. Я считаю, что это не меньшее достижение Серебряного века, чем философия Бердяева или Франка или Булгакова. Вот как это объяснить?
Олег Погудин:
— Волшебной силой искусства. Но для чего искусство существует, оно дает нам возможность постичь то, что мы не можем постичь другими методами, в том числе научными. Я вернусь к началу нашего разговора, мы говорили о Станиславском. Ведь Константин Сергеевич связан и с Шаляпиным и с Вертинским интересными очень подробностями. Свою систему Константин Сергеевич фактически возводил к Шаляпину. Он говорил о том, что подсмотрел эту систему у Шаляпина. А Вертинского он не принял.
Алексей Козырев:
— Не принял.
Олег Погудин:
— По причине его картавости. И потом, я думаю, что это единственное свидетельство, когда Станиславский признал неправильность этого решения. Мы не будем сейчас сопоставлять величие Шаляпина и Вертинского, они, конечно, разновеликие, не равновеликие. Шаляпин, безусловно, это имя вселенского масштаба, мирового, по крайней мере для культуры всемирной одно из важнейших. Александр Николаевич Вертинский — имя, допустим, для меня тоже из самых важнейших. Это фантастическая реализация артиста в эпохе, в искусстве, в истории, и даже, если хотите, философская реализация артиста.
Алексей Козырев:
— Он еще и поэт вдобавок.
Олег Погудин:
— Об этом не будем говорить о Вертинском-поэте рядом с Шаляпиным-певцом. Вертинский — поэт скромного дарования. Вертинский — сочинитель скромного дарования. Вертинский великий артист, и это удивительная вещь и для вашего покорного слуги вещь одна из самых важных, которая меня поддерживает. Есть подтверждение правды, подтверждение точной победительной реализации не только в каких-то свершениях, артефактах, записях, есть еще и то, что в нашей профессии одновременно и проклятие и бесконечно притягательная черта — уникальность, уникальность каждого события. Сегодняшний концерт никогда не повторится, кто был на этом концерте, если этот концерт состоялся на высоком художественном уровне, простите партикулярные высказывания, он счастливейших из людей. Потому что больше этого не будет никогда, он бывает чем-то совершенно уникальным.
Алексей Козырев:
— Я подтверждаю, я был на двух ваших концертах Окуджавы, это совершенно разные концерты.
Олег Погудин:
— Так должно быть. Ну серьезно, в художественном делании так должно быть, в нашем представленческом, артистическом. С другой стороны, потом спустя годы, десятилетия, как например, в случае с Вертинским и с Шаляпиным, мы собираем образ из очень многих разных источников. Вы, кстати, очень точно сказали, у меня была такая же точно реакция на записи Александра Вертинского, когда услышал их первый раз — отторжение. Понятно, эстетика совершенно иного времени, выраженная манерность исполнения, но надо понимать, что это для Серебряного века не было манерностью, и эстетика иная была совершенно. Но что-то было в этих записях, что заставило к ним вернуться потом, при первом отторжении потом заставило снова поставить пластинку, включить проигрыватель, поставить иглу на диск и слушать дальше, потом опять, опять и опять.
Алексей Козырев:
— Видимо, подлинность интонации, то есть голос.
Олег Погудин:
— Не только. Подлинность интонации, это же запись, пусть приличная запись, но, кстати, запись уже старика Вертинского. Потом в конце 90-х годов, благодаря трудам Анастасии Александровны, Марианны Александровны и покойной супруги Вертинского Лидии, было издано большое количество записей, и в том числе, где гораздо моложе, и в том числе, где он поет с оркестром. И там совсем другой певец. Но когда я встретился с Вертинским, других записей, кроме этих двух советских пластинок, не было. А там он уже старик, иронизирующий над самим собой, это рефлекс на то, что он когда-то делал. Тем не менее, он все равно бесконечно обаятелен. Подлинность интонации в данном случае, да, она подлинная. Вообще у артиста должна быть, мы добиваемся подлинности интонации, это профессиональный термин. Но эта подлинная интонация не только в каждом возрасте различна, при разных обстоятельствах она различна, на каждом спектакле эта подлинная интонация будет несколько иной. Можно говорить о таланте, безусловно. Вообще талант обсуждать немножко глупо, но признавать, есть он или нет, мы можем, это мы понимаем, и масштаб таланта, величина таланта тоже нам понятна, и мы можем это как-то оценивать. Вертинский громадно талантливый человек, и в этом смысле они равны с Шаляпиным. Но ценность Вертинского как художественной единицы в истории нашего искусства так же уникальна, как ценность Шаляпина, хотя масштаб личности несколько различается.
Алексей Козырев:
— Ну, потом, это же люди, которые жили в православной культуре, хотя они абсолютно исполняли свои произведения в другом месте, на сцене оперного театра. Рассказывали, я не знаю, верить ли этому, что после каждого исполнения Фауста Мефистофеля Шаляпин ходил исповедовался, постился. То есть для него это было не безразлично, что он играет, что он поет. Борис Годунов это величайшая роль Шаляпина, потому что здесь он переживает муки совести.
Олег Погудин:
— Шаляпин как всякий великий артист должен был перевоплотиться в этот образ, и тот образ, который ему предлагают в опере Мусоргского или в опере Гуно, это разные очень образы, и он обязан стать и тем и тем. Опять-таки о какой православной культуре вы говорите сейчас, бытовой православной культуре?
Алексей Козырев:
— Ну и бытовой тоже, где была Пасха.
Олег Погудин:
— Скорей всего, бытовой, потому что трудно сказать из исторических свидетельств, из мемуаров литературных, принадлежащих перу самого Шаляпина или Вертинского, трудно сказать, чтобы они были уж такие религиозные люди. А какие-то вещи, даже то, что вы сейчас упоминали, что Шаляпин постился после того, как исполнял Мефистофеля, это подчеркивает сильный корень, через который питался и Шаляпин и, вероятней всего, и Александр Николаевич Вертинский, потому что он в своих выводах очень многие вещи решает именно по-христиански, по-православному, очень часто жалеет людей. Это то, что характерно для Федора Михайловича Достоевского. Удивительная вещь, даже самого отвратительного персонажа, самым жестоким, самым неприятным, отталкивающим субъектам, он никому из них не отказывает во спасении. Мы можем представить себе обстоятельства, что у каждого из них случится так, что Господь его спасет. И поэтому Достоевский у меня любимый писатель, не только из русских, а в принципе, и это одно из самых счастливых обстоятельств, почему я понимаю, что мне необходим совершенно Достоевский, он любит человека, он жалеет человека, он хочет каждому человеку спастись.
Алексей Козырев:
— О том, как искусство связано со спасением, давайте поговорим во второй части нашей программы. Как говорится, на самом интересном месте. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня народный артист России, певец Олег Евгеньевич Погудин. После небольшой паузы мы вернемся в студию «Светлого радио» радио «Вера» и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, певец, актер, народный артист России Олег Евгеньевич Погудин. Мы говорим сегодня о философии исполнительского искусства. И вот вы сравнили Шаляпина с Достоевским.
Олег Погудин:
— Не сравнил, простите, просто подметил одну общую черту.
Алексей Козырев:
— Подметили одну общую черту. А жалость — это чувство возвышающее человека или унижающее, нужно ли людей жалеть?
Олег Погудин:
— Ну, вот вы задали философский вопрос, позвольте вам ответить в этом же направлении. Ведь любое чувство может как возвышать, так и унижать. Мы не совершенны. Мир этот не совершенен. В зависимости от целеполагания, в зависимости от верности доброму или неверности доброму, мы можем одним и тем же инструментом — в данном случае чувство можно рассматривать как инструмент — и помочь и навредить, мы можем и возвысить и унизить человека. Восхищение может унизить в конечном итоге человека при определенных обстоятельствах. Гнев может быть спасительным. Так же и жалость. Но жалость не в смысле надмевания над человеком, не в смысле презрения. Человеку, конечно, это отвратительно, причем с обеих сторон, и презирающего и презираемого.
Алексей Козырев:
— Я помню, в советской школе нам говорили, я учился во французской школе...
Олег Погудин:
— В советской или во французской школе учились?
Алексей Козырев:
— В советской специальной школе с изучением французского языка.
Олег Погудин:
— Я пытался пошутить, простите, я забыл, что у нас философский разговор.
Алексей Козырев:
— Это правильно, это надо уточнить. И у нас все мировоззренческие разговоры были на уроках французского языка, потому что на истории, на обществознании надо было отвечать учебник, что там написано. А вот на французском по-французски можно было поговорить и о жалости. И вот учительница, чудесная совершенно, замечательная, которой я по гроб жизни благодарен за то, что она мне дала, она говорила: Алеша, жалость это плохое чувство. Но потом я прочитал Владимира Соловьева, где он говорил, что государство это организованная жалость, и задача государства в том, чтобы пожалеть человека, обогреть холодного, накормить голодного, остановить руку преступника, я подумал, что, может быть, жалость не так уж плохо, не стоит вычеркивать жалость из наших эмоций, переживаний.
Олег Погудин:
— Мне кажется, всегда надо договариваться о терминах, что мы имеем в виду, или хотя бы о системе координат. Если мы будем говорить, как сейчас, я пытаюсь, по крайней мере, говорить в рамках христианского мировоззрения, то в этих рамках жалость одно из самых спасительных качеств, на самом деле. Потому что жалость как милость, но опять-таки милость не как милостыня, то есть все, в чем есть унижение по отношению к другому человеку губительно, поскольку может обидеть и ранить того, над кем ты надмеваешься, но, прежде всего, наносит вред твоей душе. Потому что ведет прямо к тщеславию и всем остальным отвратительным последствиям. Но тогда это есть грех, а мы призваны к тому, чтобы не грешить. Если же жалость проистекает из любви, из желания помочь другому человеку или хотя бы облегчить его тяготы, то это нам заповедано: «Друг друга тяготы носите и тем исполните закон Христов».
Алексей Козырев:
— По-русски есть поговорка такая «любит, значит, жалеет».
Олег Погудин:
— Там есть еще вариант этой поговорки, который совсем нас с вами не устраивает.
Алексей Козырев:
— Но это мы не будем приводить здесь в эфире.
Олег Погудин:
— Я вернусь к Достоевскому, если позволите, потому что не успел договорить. Хотелось бы говорить в данном случае как художнику, а не претендовать на какие-то философские потуги, которые мне не доступны. Несмотря на то, что темы у Достоевского, как правило, тяжелые, несмотря на то, что обстановка в его романах, не только романах, в его произведениях, достаточно мрачная и тягостная, в его романах, больше всего люблю романы, какое-то невероятное количество света. И этот свет, по-моему, проистекает из того, что Достоевский очень точно чувствует бессмертную душу человеческую и эту душу он всегда хочет привести ко спасению, даже у своих самых мрачных героев.
Алексей Козырев:
— У него нет положительных героев, отрицательных, в общем-то. Он через каждого героя передает какую-то часть своей мысли, как Бахтин показал.
Олег Погудин:
— В большой литературе, в серьезной и не бывает исключительно хороших или отрицательных героев.
Алексей Козырев:
— Абсолютных злодеев.
Олег Погудин:
— Даже у дидактически настроенных, даже фундаментализированных гениев типа Льва Николаевича Толстого, даже в самых выписанных персонажах, которых ты в жизни и встретить никогда не сможешь, все равно проявляются человеческие черты, гений все равно побеждает. Мы вдруг счастливо улыбнемся где-то, когда заметим, наконец, иронию, не язвительную, насмешливую, а какие-то добрые, оттеняющие качества.
Алексей Козырев:
— А у вас у Достоевского есть любимый герой?
Олег Погудин:
— Есть любимый роман, это в первую очередь «Идиот». А вообще, для меня есть три книги Достоевского, которые меня настраивают и приводят в какое-то точное и, как ни странно это звучит, умиротворенное расположение духа, но при этом действенное. Я люблю их перечитывать, у меня сложился такой корпус из трех книг: «Подросток», «Идиот» и «Братья Карамазовы». И там, наверное, этот герой, который для меня составляется из нескольких героев, но больше всего из соответственно, Долгорукова в «Подростке», князя Мышкина в «Идиоте» и Алеши в «Братьях Карамазовых. Это тип потрясающе обаятельный, хотя это разные герои, ну может, Алеша и князь Мышкин поближе друг к другу, но все равно для меня это характер общий, который привлекает и который очень много объясняет мне самому внутри меня, причем не рационализируя, а, если хотите, с точки зрения художественной философии. То есть очень понятно, с одной стороны, по мысли, а с другой стороны, очень что-то родное по ощущению, по эмоции, по чувству.
Алексей Козырев:
— Вам, похоже, приходится делать в вашем театре, вы входите в образы разных эпох, разных людей. И иеромонах Роман, и Вертинский, и Окуджава, и неаполитанские песни, но все это, наверное, объединяется каким-то одним лирическим героем.
Олег Погудин:
— Конечно, ну так это аксиома, это даже фундамент, по-другому не бывает.
Алексей Козырев:
— Когда вы отбираете материал для вашей работы, готовите новые программы, вы как это делаете — по сродности, по какому-то близкому родству к вашей душе.
Олег Погудин:
— Это, собственно, точное определение. Ну, настолько близкое, оно может быть не совсем близкое, может быть очень близкое, может быть несколько отдаленное, по принципу эмпатии, даже симпатии, точнее будет сказать. Если вульгарно выражаться, то нравится — не нравится, но так нельзя точно сказать. Когда ты создаешь программу какую-то, в моем случае это всегда драматургия, то есть это никогда не концерт как таковой, это скорее, спектакль, моноспектакль. И там нужно находить какие-то качества разнообразные, чтобы быть интересным не только публике, а самому себе на протяжении всего концерта.
Алексей Козырев:
— Я заметил, вы не любите особенно мешать, именно монографии. То есть вы стараетесь петь, если вы поете песни отца Романа, вы поете песни отца Романа. Если вы поете Окуджаву... Это трудно, наверное, переходить от одного мира к другому?
Олег Погудин:
— Нет, я вас приглашаю на концерт под названием «Избранное», там целый фейерверк, бурлеск, как хотите, или меланж очень разных произведений. Кстати, это было раньше даже, чем монографические работы, если исключить только Вертинского, поскольку я занимался этой программой в театральном институте еще по заданию педагогов и защищался ею на дипломе. То есть она сформирована окончательно в 90-м году, а начал я над этим материалом работать где-то в 87-м, и в 88-м году уже была готова программа. Ну, понятно, в студенческом еще изложении, но тем не мене. В остальном же монографические программы, а их у меня несколько, это песнопения иеромонаха Романа, песни Булата Окуджавы, песни Исаака Шварца, Пушкин, Лермонтов — вот это такие именно монографические программы. Но это все сложилось несколько позже. Основная песня, которую я бесконечно люблю, которую я не просто пою, а которой я дышу, материал, репертуар, который идентичен моей психофизике, вернее, моя психофизика идентична психофизике лирического героя этого жанра — это русский городской романс. Но поскольку русский городской романс это песни Серебряного века, это песни периода одного из богатейших и разнообразнейших в плане предложенных художественных вариантов, в том числе и вариантов лирического героя, хотя у него есть определенный облик, мы всегда можем сказать, да, это начало 20-го века, это Серебряный век. Но там разные представители есть, они интересны, они многогранны, они глубоки.
Алексей Козырев:
— Вообще городской романс, насколько я понимаю, восходит к Аполлону Григорьеву.
Олег Погудин:
— Аполлон Григорьев поэт, он не музыкант.
Алексей Козырев:
— Да, но две гитары за стеной...
Олег Погудин:
— «Цыганская венгерка».
Алексей Козырев:
— «Цыганская венгерка». Двести лет в этом году мы отмечаем этому замечательному поэту, мыслителю, писателю. Я буду счастлив, если вы примите приглашение поучаствовать в конференции, которая будет к двухсотлетию Аполлона Григорьева.
Олег Погудин:
— Дайте, пожалуйста, информацию точную, это очень интересно.
Алексей Козырев:
— В институте мировой литературы мы совместно проводим, надо почествовать этого замечательного... Но, может быть, я не прав, и это действительно более позднее явление.
Олег Погудин:
— Наверное, чуть более позднее, потому что все-таки Аполлон Григорьев это еще дворянская литературная деятельность.
Алексей Козырев:
— Это почвенник?
Олег Погудин:
— Я не про философию, я сейчас про социальный срез. Городской романс все-таки это уже время чуть более позднее, время разночинцев, время мещан, но что очень важно, это время всеобщей почти, не всеобщей, но в городах, по крайней мере, грамотности населения. Это люди, которые умели читать и писать, в массе это другие граждане, это не оторванное, пусть прекрасное, для нас это корень, конечно, культура Пушкина, Пушкинский язык. Но ведь тогда она была уделом довольно малой части народа, для нас она удел всего народа, слава Богу. Это надо сохранить, это должно быть нашей философией, нашего художественного делания — сохранить этот Пушкинский язык. А конец 19 — начало 20-го века это университеты, это огромное количество уже читающих, пишущих, мыслящих людей. Поэтому такой совершенно невероятный прорыв художественной, творческой энергии и талантов во всех сферах: в науке, в искусстве, в политике, в юриспруденции, в литературе. В литературе, допустим было и до того, но здесь оно повсеместно. Мы в начале 20-го века поэтов можем пересчитывать не десятками — сотнями, которые достойны внимания. И вот этого периода как раз песня — русский романс. К чему я это сейчас говорю? К тому , что именно в этой части нашей словесно-музыкальной культуры существуют все те герои, которые потом существуют и в моих монографических программах, даже если это, допустим, песнопения иеромонаха Романа, это тоже в каком-то смысле русский романс. Песни Булата Окуджавы это точно городской русский романс. Песни Исаака Шварца или Андрея Петрова это тоже русский городской романс, только более композиторский.
Алексей Козырев:
— Но это, согласитесь, такая немножко секулярная культура. Люди ушли из деревни, ушли на заработки, звук колокола их больше уже не призывает к обедне или к вечерне, и они немножко удалились от традиционной духовной стороны жизни, да?
Олег Погудин:
— Я не согласен.
Алексей Козырев:
— Нет, не согласитесь?
Олег Погудин:
— И в деревне люди могли из-под палки ходить на службу или для того, чтобы хоть немножко оторваться и отдохнуть от тяжелого физического труда. И в городе церквей и колоколов было... Ну уж про Москву и сорок сороков даже и говорить не будем сейчас. А в Питере и сейчас, я живу в центре и могу слышать колокол в начале 21 века, который зовет к всенощной или на литургию, к обедне совершенно спокойно. Не мешало ничто никогда человеку услышать звук этого колокола, кроме собственных страстей, собственного нерадения и своих грехов. Надо понимать, что в конце 19 — начале 20-го века никто не мешал, мало того, всячески поощряли бытово христианский образ жизни, традиционно, обрядово. Это не просто поощрялось, а даже насаждалось.
Алексей Козырев:
— Требовалась справка о говении.
Олег Погудин:
— Обер-прокурор этим занимался. А в начале 20-го века после большевистской революции при жесточайших гонениях на Церковь, люди, тем не менее, все равно шли в храм, когда уже у колоколов вырвали языки. Это иная реальность.
Алексей Козырев:
— Я думаю, что здесь больше даже шли, потому что было чувство протеста.
Олег Погудин:
— Я не думаю, что это из чувства протеста. Вернее, из чувства протеста делается многое, сейчас мы свидетели этому, и очень много необдуманных поступков, очень много трагических последствий от этих необдуманных поступков, высказываний и действий. Это все, что касается религиозной жизни, она сокровенная, внутренняя, это внутреннее делание. Кстати, это очень закольцовывается с нашей профессией актерской, если мы к ней всерьез относимся, у нас внутреннее действие — это просто профессиональный термин.
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, народный артист России, певец Олег Погудин. Олег Евгеньевич, вы как-то в интервью сказали: искусство не спасает. А зачем оно тогда нужно?
Олег Погудин:
— В самом общем смысле все в нашей жизни может послужить ко спасению. И почти все в нашей может, к сожалению, быть препятствием ко спасению. Искусство, я сказал не совсем так, искусство само по себе спасти не может. Это все-таки немножко иная мысль.
Алексей Козырев:
— А потом вырвали из контекста и сделали название, да, так.
Олег Погудин:
— Да, искусство само по себе спасти не может. Потому что спасает Господь. Для церковного человека это абсолютно понятно, для нерелигиозного человека может быть соблазном такая формулировка. Но мы с вами говорим в определенной парадигме, и, слава Богу, что мы можем говорить так. Спасает Господь. Искусство может быть спасительным и бывает спасительным, когда оно свидетельствует и призывает к разумному, доброму, вечному. Если искусство призывает ко спасению, оно спасительно. Если искусство развращает нас, если искусство обытовляет, приземляет, заземляет нас, если искусство становится соблазном, то конечно, оно совсем не спасительно. Но так и любое наше делание в несовершенном нашем мире может быть как добрым, так и злым. И часто, к сожалению, даже чаще всего, для того, чтобы различить, к чему ведут наши поступки, мы должны очень серьезно заниматься своей душой. Мы должны трезвиться, мы должны тренировать в себе любовь, мы должны отключать самость. Это я уже говорю в философских понятиях, категориях. Не будучи философом профессиональным и даже не будучи образованным в какой-нибудь достаточно мере философски человеком, я, тем не менее, будучи артистом честным, не могу обойтись без философии. Творчество без философии как профессиональной, так и самой общей, в этом смысле философия благословенна, в этом смысле она необходима, отказаться о философии мы не можем.
Алексей Козырев:
— Не только творчество, но и антропология. Вы говорите о серьезных антропологических вещах. Потому что самость это источник зла по Шеленгу, эгоизм, противопоставление себя Богу, людям, миру. Так что это уже не только философия творчества, но и философия человека, личности.
Олег Погудин:
— Да, как раз об этом я и хочу сказать. О том, что можно не быть философом, большинство из нас не профессиональные философы, но нельзя обойтись без философии, нельзя обойтись без любомудрия, потому что человек существо словесное, то бишь мыслящее в переводе на русский современный язык. Мыслить необходимо, это функция, без которой мы не можем существовать в принципе. Хорошо бы мыслительную свою функцию облечь в какой-то приличествующий вид. В этом смысле философия неотменяема, она нужно, необходима, ее нужно преподавать даже в театральных школах, хотя, казалось бы, где актеры и где философы.
Алексей Козырев:
— Прежде всего, в театральных школах. Я помню в 90-е годы в ГИТИСе преподавал Исаев, который переводил Сёрена Кьеркегора, это был любимый преподаватель, который очень многим современным актерам заложил какие-то базовые вещи в понимании, зачем нужна философия. И когда мы встречаем большого актера, мы видим, что там есть...
Олег Погудин:
— Он всегда философ. Иногда даже против своей воли.
Алексей Козырев:
— Да, он всегда философ, есть какое-то отношение к философии. Только для этого не нужно специально натужно придумывать какие-то смыслы или проводить долгие тренинги с участием каких-то философов.
Олег Погудин:
— А дело в том, простите, что я вас перебиваю, актер обязан продуцировать смыслы, только немножко иным образом, иным методом.
Алексей Козырев:
— Я люблю очень фразу Шопенгауэра... Шопенгауэра очень любил, кстати, Чайковский, он читал «Мир как воля представление», я держал в руках экземпляр с его пометками на полях, причем, читал в ту пору, когда писал «Пиковую даму». И у него есть такая фраза: «Музыка это бессознательное философствование души, не знающей о том, что она философствует».
Олег Погудин:
— Это же совершенно художественное определение. Я не могу понять, что означает бессознательное философствование. Для меня это Оксиморон.
Алексей Козырев:
— Но когда мы слушаем хорошо темперированный клавир Баха, ведь в нас что-то происходит, даже если мы не имеем специального музыкального образования и не умеем сами играть на фортепиано.
Олег Погудин:
— Может быть, если мы не рационализируем, но все равно постигаем это, когда слушаем хорошо темперированный клавир. Вообще музыка Баха в этом смысле, ее можно уподобить молитвослову. Мы постигаем что-то, истина становится нам доступна, но не всегда она рационализируется, рационализуется, извините, я сейчас запутаюсь.
Алексей Козырев:
— И так и так можно.
Олег Погудин:
— Нет, есть некоторое отличие. Во всяком случае, не всегда мы должны назвать все каким-то определенным словом, образ может быть нам понятен, но не всегда его нужно по полочкам раскладывать. Да, то, что вы сказали, я это впервые слышу, но, видимо, мне это кое-что объяснит в «Пиковой даме», если Чайковский был под влиянием Шопенгауэра на этот период, то Германа можно понят немножко лучше.
Алексей Козырев:
— Да, да, да. А вера что-то открывает, какие-то окна в философствующем разуме? Может быть, у актера. Философ с верой и философ без веры. Актер с верой и актер без веры.
Олег Погудин:
— Актер без веры это просто плохой актер. И вообще не знаю, он возможен ли, поскольку вера это обязательное условие нашей работы на сцене. Вера в предлагаемые обстоятельства, вера партнеру, вера в то, что сейчас...
Алексей Козырев:
— Это не обязательно религиозная вера, может быть вера как...
Олег Погудин:
— Подождите, вы имеете в виду религиозная вера, то есть исповедание веры, это другая немножко вещь. Если же мы говорим о вере, как качестве, как определенные способности человеческой души, это вопрос не во что мы верим, а вопрос самого явления. А вера, я боюсь сейчас не точно цитировать, но как у апостола, может вы меня поправите, уверенность в невидимом.
Алексей Козырев:
— Я по-славянски: «Уповаемых извещение, вещей обличение невидимых».
Олег Погудин:
— «Вещей обличение невидимых». Это просто поэзия, это восторг. Почему, я не хотел бы удаляться в какие-нибудь политические области, но я внутренне решительный противник перевода богослужения на русский язык со славянского, это невозможно.
Алексей Козырев:
— А вы пели когда-нибудь в храме.
Олег Погудин:
— Конечно. Но не ребенком. Такие легенды тоже были, где-то в средствах массовой информации, которые совершенно безобразные дисциплинированные последние годы.
Алексей Козырев:
— У нас с вами было одинаковое советское детство.
Олег Погудин:
— Да, конечно. Там писали: в детстве пел в храмах. Я как-то в одно издание позвонил и сказал: вы же видели, когда я родился. В каком храме я мог петь в детстве, это немыслимо вообще?
Алексей Козырев:
— Нет, ну бывало, в церковных семьях.
Олег Погудин:
— Мне не рассказывайте, о чем вы? Если ты учился в общеобразовательной школе обычной, как ты мог петь в церковном хоре? Это было невозможно просто. В тот период, по крайней мере, когда я учился, с 75-го по 85-й год, в средней школе. Но потом, в 88-м году я крестился, и после этого я многократно пел и в храмах в городе и в монастырях.
Алексей Козырев:
— Партес?
Олег Погудин:
— Да. Я могу в охотку послушать знаменный распев, но петь я бы не смог. Обиход чаще всего, я очень люблю обиход. Он утешает, он меня приводит в такое... Кстати, обиход схож в каком-то смысле по мелодике и по времени устоявшегося, своего устоивания в 19 век, это русский романс, не обязательно городской русский романс, можно говорить о Глинки, можно о Верстовском, но это та музыкально-мелодическая среда, которая мне ближе всего и которая для меня очень благодатна.
Алексей Козырев:
— У Одоевского есть замечательная статья. Я не знаю, приходилось ли вам читать его музыковедческие работы, потрясающе интересные, о русской и так называемой общей музыке, где он говорит, что в основе русской музыки, в том числе и русского романса, лежат гласы и погласицы. Это потрясающая система соответствующая, конечно, европейскому тоновому пению, но все-таки основанная на церковном музыкальном языке.
Олег Погудин:
— Вероятно, мы так же можем говорить, я не специалист, но все-таки могу допустить, что церковные песнопения создавались на основе, может быть, попевок народных.
Алексей Козырев:
— Да. Ну и в завершении нашего эфира, Олег Евгеньевич, я думаю, наши радиослушатели будут счастливы, если вы подарите им какую-нибудь песню в вашем исполнении.
Олег Погудин:
— Да, спасибо. К нашему сегодняшнему разговору, возможно, очень хорошо, такой определенной даже иллюстрацией наших с вами размышлений и каких-то выводов может быть замечательная песня Булата Окуджавы, одна из самых философских, хотя все его творчество философично, и в то же время, одна из самых художественно прекрасных песен. Называется она «Молитва».
Звучит песня в исполнении Олега Погудина.
Все выпуски программы Философские ночи
Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде»

— Маргарита Константиновна, спасибо, что пригласили меня в Музей русского импрессионизма! Я сегодня вечером еду к родственникам в Нижний Новгород. Чемодан уже собрал с утра. Время ещё есть, и я рад провести его в таком замечательном месте.
— А вы раньше бывали в Нижнем, Леонид Сергеевич?
— Да вот, как-то всё не доводилось. Обычно родственники ко мне в Москву приезжают. А теперь вдруг к себе позвали. Ну, а я с удовольствием. Люблю новые места, новые впечатления. А в Нижнем Новгороде есть, на что посмотреть!
— О, безусловно! Один из древнейших городов России. Видами и архитектурой Нижнего Новгорода вдохновлялись многие живописцы.
— А вот интересно, есть ли здесь, в Музее русского импрессионизма, какое-нибудь полотно с изображением Нижнего Новгорода?
— Есть, Леонид Сергеевич! Вот, взгляните — справа от вас, в резной раме бронзового цвета.
— Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде». 1919 год.
— Пётр Иванович Петровичев был одним из значимых живописцев первой половины ХХ века. Ученик Исаака Левитана, Валентина Серова и Аполлинария Васнецова. В технике импрессионизма — свободной, фактурной — он изображал лирические русские пейзажи. Особенно любил писать с натуры памятники древнего зодчества. Петровичева неспроста называли певцом русской старины.
— Маргарита Константиновна, вы сейчас для меня открыли нового удивительного художника! Я о нём раньше не слышал.
— Без Петра Ивановича Петровичева просто невозможно представить отечественную пейзажную школу. Он умел своим искусством тонко передать зрителю лирическое своеобразие русского пейзажа.
— Это вы точно сказали, Маргарита Константиновна! Смотрю на картину, и прямо ощущаю этот простор! Широкая улица, старинные здания, Волга вдалеке поблёскивает синей гладью. А на переднем плане картины, слева от зрителя — белокаменный храм с шатровой колокольней. Судя по названию полотна — это и есть церковь святого Иоанна Крестителя.
— Да, один из древнейших храмов Нижнего Новгорода. Есть версия, что это с его паперти в 1612 году, в Смутное время, нижегородский купец Кузьма Минин призывал горожан сплотиться и защитить Москву от польских захватчиков. Правда, тогда церковь была ещё деревянной. Каменный храм, который мы видим на картине, построен на его месте в 1683 году. Кстати, правильное, полное название храма — церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу.
— А, так видимо, отсюда и название улицы — Рождественская! А почему — «на торгу»?
— А вот, видите здание с колоннами? Это типичные старинные торговые ряды. Да и на первых этажах соседних домов тоже угадываются лавочки и магазины. Возле них снуёт народ. Перед нами — торг, то есть, рынок, базар. Ну, а раньше на торгу обязательно стоял храм. Чтобы люди в будничной суете не забывали о Боге.
— Вон оно что! Да, теперь заметил. Наверное, эти детали от меня ускользнули, потому что я на краски засмотрелся. Удивительные! Где-то почти прозрачные, где-то яркие. Жизнерадостный пейзаж!
— А знаете, искусствоведы давно подметили, что творчество русских живописцев, воспитанных на иконописи, как правило оптимистично по настроению.
— Петровичев учился иконописи?
— Да, художник начинал с неё. Ещё подростком он поступил в иконописную и резную школу при Ростовском музее древностей. А уже потом, в 1892 году — в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
— Теперь понятно, почему от картины словно исходит внутренний свет! Кстати, Маргарита Константиновна, вы не знаете, сохранился ли храм Рождества святого Иоанна Предтечи до нашего времени?
— Сохранился! И выглядит сейчас практически так же, как на этом полотне Петра Ивановича Петровичева. Так что вы, когда приедете в Нижний Новгород, без труда его найдёте.
— Кстати, до отправления-то осталось всего ничего! Как незаметно время пролетело. Ещё раз спасибо вам, Маргарита Константиновна, за приглашение в Музей русского импрессионизма. И за то, что познакомили меня с замечательным художником, Петром Петровичевым.
— Ангела хранителя вам в дорогу, Леонид Сергеевич!
Все выпуски программы Свидание с шедевром
Павел Трубецкой. «Мать и дитя»

— Маргарита, посмотри какая необычная скульптура! Впрочем, не удивлена: мы ведь с тобой в московском Музее русского импрессионизма.
— Да, вижу, Оля! Работа Павла Петровича Трубецкого. Или Паоло Трубецкого, как сам он часто подписывался, потому что был наполовину итальянцем. Он жил и творил в конце 19-го — первой половине 20-го века. Скульптурная композиция называется «Мать и дитя».
— Вообще-то я думала, что импрессионизм — это стиль живописи. А тут — скульптура... Неожиданно.
— Правда, скульптурный импрессионизм — довольно редкое явление. Павел Трубецкой, пожалуй, один из немногих его представителей. Для импрессионизма характерно своеобразное видение натуры. Однако у Трубецкого оно гармонично переплетается с вполне классическими художественными приёмами.
— Я как раз на это и обратила внимание! Фигуры женщины и ребёнка — их головы, лица, руки — вроде бы выполнены в привычной реалистичной манере. Но в то же время скульптура выглядит как будто слегка незавершённой, не до конца отточенной. Кажется, на ней заметны даже вмятины от ладоней мастера, и видно, как двигались его руки. Где-то эти движения резкие, неровные. Где-то — наоборот, плавные.
— И этим контрастом скульптор создал потрясающую динамику. Тем более это поразительно, что материал композиции — не мягкая и податливая глина, а довольно непростая для такой работы бронза.
— Бронза? Никогда бы не подумала! Композиция выглядит лёгкой, воздушной. А знаешь, Маргарита, ведь эта своеобразная небрежность, незаконченность, создаёт удивительный скульптурный рельеф. Благодаря им с любого ракурса на изваянии видна игра света и тени. Кажется даже, что женщина и мальчик двигаются!
— Ты права, Ольга. Из-за необычной техники границы скульптуры как бы размываются, фигуры приобретают внутреннюю экспрессию, можно сказать — «оживают». Это свойство работ Трубецкого отмечал живописец Илья Репин. Он называл творчество Павла Петровича искренним, трогательным, а главное — жизненным. Таким и было творческое кредо самого Трубецкого: «видеть поэзию жизни во всём, что окружает».
— Скульптура лиричная, одухотворённая. А кто же они, эти «Мать и дитя»? С кого Трубецкой их лепил? Или это просто фантазия скульптора?
— Нет, Оля, не фантазия. Павел Петрович запечатлел горячо любимую супругу Элин и их единственного сына Пьера.
— Чувствуется огромная любовь, с которой скульптор создавал своё произведение!
— Да! Трубецкого неспроста называли искренним художником. Коллеги-современники утверждали: по работам Павла Петровича можно с большой долей вероятности определить его отношение к модели.
— А ещё почему-то — печаль...
— В 1908-м году, буквально через несколько месяцев после того, как скульптор начал работу над композицией «Мать и дитя», его сын Пьер заболел и скоропостижно скончался. Мальчику было всего два года...
— Творчество помогло художнику пережить горе?
— Помогло, и потом не раз ещё помогало. В 1927 году супруга Трубецкого, Элин, тяжело заболела. Скульптор нашёл лучших врачей, пробовали всё возможное, чтобы её вылечить. Однако женщина умерла. Всю оставшуюся жизнь Павел Петрович воплощал в своём творчестве образ любимой жены и сына.
— А где можно увидеть эти его скульптуры?
— Ну, например, в итальянском городе Палланца есть монумент работы Трубецкого — мемориал павшим в Первой Мировой войне. В одной из его скульптурных групп — женщине с ребёнком — просматриваются черты Элин и Пьера.
— И всё же, несмотря ни на что, от работы Трубецкого «Мать и дитя» веет светлым настроением.
— Скульптор говорил: «Как после ненастья всегда показывается солнце, так и радость всегда побеждает в жизни и творчестве». Трубецкого называли художником-оптимистом, который с детской непосредственностью умел всюду находить красоту.
— И нас с тобой, Маргарита, скульптор Павел Трубецкой сегодня научил видеть её по-особенному.
Все выпуски программы Свидание с шедевром
Неизвестный художник. «Омовение ног»

— Андрей Борисович, смотрите, это она! Картина, которую вы так хотели увидеть здесь, в Русском музее...
— «Омовение ног» кисти неизвестного художника начала 19-го века...
— Помню, что евангельский сюжет, который лежит в основе этой картины, вас как-то особенно волновал.
— Да, Маргарита Константиновна. Сюжет о том, как во время последней трапезы Христа с двенадцатью учениками Он начал умывать ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым был препоясан. А Пётр отвечал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек...»
— И тогда Иисус ответил ему, что Пётр пока этого не понимает, но поймёт позже. Фигуру Христа, омывающего ноги Петру, мы видим на картине в центре композиции. Вокруг них — другие апостолы.
— Они смотрят на происходящее взволнованно...
— И обратите внимание, Андрей Борисович, на облик Христа. Он высвечен золотистыми и светлыми оттенками. В то время как на общем фоне полотна преобладает более тёмная, охровая гамма: приглушённые оттенки бронзового и бежевого цветов. Этот контраст создаёт ощущение сокровенности и величия момента.
— Знаете, Маргарита Константиновна, я иногда размышляю над сюжетом. И мысленно дерзаю ставить себя на место ученика Христа, которому Он омыл ноги. Пытаюсь понять, как апостолы реагировали тогда, что чувствовали... Наверное то, что переворачивает душу, преображает её. Когда сам Господь являет собой пример смирения и кротости... И как сказано в Евангелии, «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу».
— И Господь здесь говорит, конечно, не о конкретных действиях учеников, а о том, как, с какими мыслями и чувствами они должны служить ближним. Не по обязанности, но из любви, как это делал Сам Христос. И поэтому можно сказать, что омовение ног — это своего рода метафора, образное выражение деятельной христианской любви к ближнему.
— И на картине эта мысль читается в изображении самого Христа — художник показал Его низко склонённым перед апостолом.
— Интересно, что этот евангельский сюжет широко распространён в иконографии, но нечасто встречается в живописи. Из западноевропейских художников, например, к ней обращался разве что венецианец Тинторетто в 16 веке, и ещё можно найти несколько гравюр на эту тему.
— И это ещё одна причина, почему мне так хотелось увидеть этот шедевр Русского музея, который сейчас перед нами. Жаль, что мы не знаем имени художника, создавшего его.
— Долгое время считалось, что картину «Омовение ног» написал Владимир Боровиковский.
— А, тот самый, что жил на рубеже 18 и 19-го веков.
— Да. Но в 1955 году искусствоведы Русского музея провели экспертизу, которая опровергла авторство Боровиковского. Эксперты определили примерное время написание работы — конец 18-го или первая четверть 19-го века. Но вот имя художника установить не удалось.
— Зато сохранилась изображённая в красках евангельская история о смирении Христа.
Все выпуски программы Свидание с шедевром













