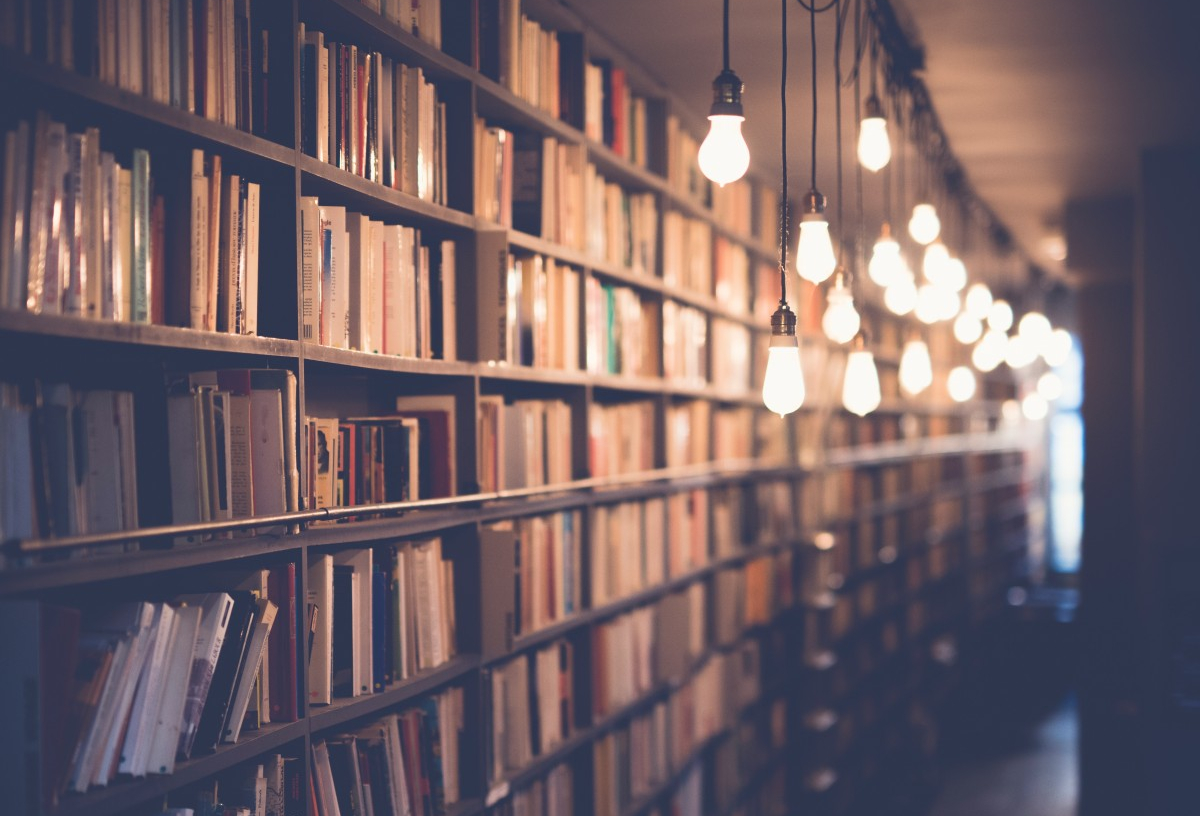
Гость программы — Анна Костикова, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Отечества и отечественной философии. У нас в студии сегодня моя коллега, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Здравствуйте, Анна Анатольевна.
А. Костикова
— Алексей Павлович, здравствуйте, и я сразу включаюсь, как гость, конечно, но по нашему плану речь идет именно о том, чтобы поменяться на сегодня ролями и, пользуясь замечательным поводом, праздником и прежде всего праздником, который уже состоялся — праздник Защитника Отечества, поговорить с вами, Алексей Павлович и представить вас не только как защитника Отечества, но и как исследователя отечественной философии, популяризирующего отечественную философию, это очень важный момент, исследователя, занимающегося архивами и восстанавливающим идеи отечественной философии и у нас в стране, и за рубежом, и исполняющего обязанности декана философского факультета вот с конца осени прошлого года в связи с нашей трагической утратой декана Владимира Васильевича Миронова, с которым вы работали в качестве его заместителя по науке долгие годы. Поэтому я сразу хочу, представив вас таким образом, задать вам вопрос: что для вас является защитой Отечества, как вы понимаете Отечество? Заменимо ли это понятие: Родина, Родина-Мать? И на самом деле, это такой важный сюжет в современных обстоятельствах, когда этот праздник становится более серьезным, менее юмористичным, менее гендерным, посвящен именно защите Родины.
А. Козырев
— Спасибо, Анна Анатольевна, как писала Анна Ахматова: «Все мы у жизни немножко в гостях», в данном случае вы не первый раз на моей программе, которая уже идет больше трех лет и поэтому, хотя так не принято, но я принимаю ваше предложение немножко поменяться креслами ведущего и гостя и с радостью отвечу на ваши вопросы. Вопрос об Отечестве, мне кажется, очень уместен именно на радио «Вера», именно в нашей программе, где мы философски пытаемся осмыслить какие-то вопросы, связанные с нашим самоопределением в жизни, мы ведь тут не просто говорим о предании, о традиции Православной Церкви, а о том, что мы здесь и сейчас в определенном историческом времени оказались и в Церкви, и в нашей стране, представляем собой ее граждан и в определенном смысле ответственны за то, чтобы нашу страну, нашу Родину сохранить, приукрасить и передать ее нашим детям в состоянии не худшем, чем мы ее получили. И вот когда мы произносим это слово «Отечество», то первое, что в нем слышится нам — нам слышится слово «отец», и у каждого из нас, у большинства есть земной отец, с ним разные бывают отношения, кто-то безумно любит своего земного отца, безумно благодарен ему, у кого-то эти отношения могут быть чем-то омрачены, но ведь у нас есть еще Небесный Отец, и в той ситуации, когда человек потерял отца или когда отец, может быть, бросил семью, такое тоже бывает, у меня, слава Богу, все нормально, мои родители прожили вместе до смерти мамы, прожили больше тридцати лет, то появляется возможность усыновления Небесным Отцом, и Отечество — это то, что относится прежде всего к Небесному Отцу, а потом уже к нашим земным отцам, которые нам тоже очень дороги. И был даже такой русский философ Николай Федорович Федоров, который предложил проект общего дела — воскрешения отцов, проект, может быть, немножко безумный, сумасшедший, но он его разрабатывал, исходя из самых православных, самых христианских чувств: вот как мы можем радоваться и предаваться гедонизму, удовольствиям, когда наши отцы истлевают в могилах? Вот эта мысль о памяти отцов.
А. Костикова
— Вот тут я хотела бы вас прервать прежде всего конкретным вопросом, может быть, связанным с историей вашей семьи, и я помню вашего отца — совершенно замечательный человек, но это поколение как раз тех защитников Отечества, которые действительно его защитили, отстояли и память о них, на мой взгляд, должна жить вечно. Сейчас им на смену приходят во многом философы, которые не участвовали ни в каких реальных защитах, и в этом плане я хотела бы, чтобы вы этот мостик перекинули от своей семейной истории к тому, что вам лично довелось защищать Родину, причем ту самую большую Родину, Советский Союз в больших границах, вам довелось служить, как вы сейчас осмысливаете этот опыт, насколько он важен для вас?
А. Козырев
— Во-первых, вопрос об отце: да, действительно, мой отец немножко успел застать Великую Отечественную войну, он был молодой совсем, когда война закончилась, 22 года ему едва исполнилось, но он уже был начальником станции Гляйвицы в Польше, он воевал в составе военного эксплуатационного управления на железной дороге, он закончил железнодорожный техникум Орловский, а еще немножко поучился в Оренбурге в танковом училище. Ну вот все-таки ему повезло и не на танке его отправили воевать, а как специалиста, который получил образование, которое было нужно на фронте, его направили на железную дорогу, и он занимался, большая станция узловая, через которую шли и туда шли наши составы с войсками и, что важно, обратно шли составы с разобранными немецкими заводами, которые поднимали нашу послевоенную экономику, это был очень важный момент, и он рассказывал, что были и очень жесткие такие ситуации, которые ему приходилось решать, и в его документах я обнаружил справку о довольствии, о том, что ему выдавалась форма, он был лейтенант к этому времени уже. Так что я всегда, с детства знал, что мой отец воевал, у него были медали за победу над Германией и последующие медали: к 30-летию Победы, все, которые полагалось получать, как ветерану войны, он получал, поэтому, когда у меня встал вопрос, что надо проходить срочную службу воинскую, это уникальный период, когда по указу Андропова студенты были лишены отсрочки и после второго курса мне дали досдать сессию философского факультета , и я ушел в пограничные войска на иранскую границу, где прослужил 23 месяца, то есть два года фактически, как положено служил и на заставе, и в отряде, и был и старшим пограннаряда, и прошел, может быть, в силу специфики моей службы уникальный, практически все фланги всех 17-ти застав, больше ста километров государственной границы по реке Аракс она проходила, удивительно красивые места. И когда ты служишь в таком месте, отряд находился в Нагорном Карабахе, поэтому я застал и начало событий, которые там происходили в 89-м году, и даже дружил с директором музея Артуром, который стал потом первым президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики и был застрелян вскоре, погиб уже после того, как я уволился. Он подарил мне подшивку газеты «Советский Карабах» за целый год и фотографии этих удивительных мест, поэтому я не понаслышке узнал о том, как «обострилась дружба народов», как говорили тогда, и как драматически заканчивается перестройка, которая с таким энтузиазмом начиналась с приходом Горбачева в 85-м году. Я узнал о том, что на этой земле, земле христианской по своей истории, где есть древние храмы и монастыри, не было фактически ни одного действующего храма в то время, вот из пятиста сохранившихся ни один храм не действовал христианский, то есть христианская память людей ушла куда-то глубоко, но она сохранилась, по всей видимости, хачкары, кресты, которые стояли на дорогах, Эчмиадзин, где мне удалось один раз оказаться, когда я поехал в командировку, ну не туда, конечно, но я нашел время, выкроил, сел на автобусы, поехал в Эчмиадзин, я никогда не видел таких древностей христианских, поэтому вот это Отечество, я сейчас подумал, вы задали вопрос, что мы же с отцом давали, по сути, одну присягу, только он давал эту присягу в период Великой Отечественной войны, а я ее давал уже в конце 80-х годов, и надо сказать, что другой присяги я не давал и действительно, ценность той службы, которую я прошел в течение двух лет, она для меня всегда остается, потому что вы совершенно правильно сказали: большая страна, то есть эти земли с тех пор мне совершенно не чужие, хотя я понимаю, что сейчас это другое государство и другая геополитическая обстановка, но, кстати, в той же библиотеке, была прекрасная библиотека в пограничном отряде, вообще заботились тогда о пограничниках, надо сказать, я нашел два экземпляра книжки Алексея Федоровича Лосева о Соловьеве.
А. Костикова
— Вот откуда началось исследование.
А. Козырев
— Но я ее к тому времени уже прочитал в библиотеке Московского университета, то есть я нашел книжку, которую убрали из центральных городов, которая была сослана по отдаленным книжным магазинам, и так она попала в библиотеку погранотряда из серии «Мыслители прошлого», других книг из этой серии в библиотеке я, честно сказать, не помню, но два экземпляра книжки Лосева о Соловьеве были и, конечно, это дало мне возможность там ее перечитать и утвердиться в мысли о том, что я буду, когда я вернусь, если я вернусь в Московский университет, буду заниматься историей русской философии.
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова. Мы говорим о философии Отечества и отечественной философии.
А. Костикова
— И мне выпала честь задавать вопросы нашему ведущему Алексею Павловичу Козыреву, поскольку, конечно, и защита Отечества, и защита отечественной философии — это прежде всего сфера его интересов. И открылась совершенно замечательная история, утверждение в выборе конкретного предмета исследования Алексея Павловича, правда, не единственного, конечно, но наиболее ярко представленного в его книге — это интерес к философии Соловьева. Многие социологи в философии считают, что выбор предмета исследования во многом характеризует самого исследователя, что этот выбор неслучаен, но мы не говорим о том, что это какой-то был промысел найти книгу на границе и утвердиться в этом выборе, но все-таки как вы считаете, насколько Владимир Соловьев повлиял на вас, как на исследователя, как на защитника отечественной мысли, насколько его идеи оказались существенными или, скажем так, Соловьев вас интересовал прежде всего, как прошу прощения за такой научный сленг — объект реконструкции?
А. Козырев
— Вопрос интересный и для меня неочевидный, я сейчас подумал о том, что на меня повлияла книжка Лосева, потом была другая книжка Лосева «Владимир Соловьев и его время» 1990 год, издательство «Прогресс», уже посмертная, после того, как Алексей Федорович умер, его наследники и ученики издали. Лосев был Алексей Федорович, Алеша, Соловьев был Владимир, вот у меня такая же ситуация, я Алексей, у меня дедушка был Владимир, который, кстати сказать, тоже погиб на Великой Отечественной войне в 1942 году под Масальском, и обстоятельства его гибели были совершенно нетипичные: он был актер Московского областного театра, причем, по-моему, у него не было никакого специального актерского образования, он работал токарем на заводе до этого, был из большой купеческой семьи и у него была бронь, потом бронь отменили, он ушел на фронт в январе 42-го года, провоевал примерно полгода и погиб, бабушке пришла похоронка, он в минуту затишья перед боем читал Лермонтова «Беглеца», и когда он читал Лермонтова — в него попал осколок разорвавшегося снаряда, попал прямо в сердце, он жил еще двадцать минут после этого, потом умер, его друзья похоронили там, на берегу реки. Поэтому вот эта мистика, я, когда подаю записки в храме, пишу: Владимир, пишу своего деда...
А. Костикова
— Это отец мамы?
А. Козырев
— Отец мамы, да. И пишу: Владимир — это Владимир Соловьев, то есть они встречаются в этих записках, ничего нет противоестественного и удивительного подавать записку за свой предмет исследования, если ты к этому человеку относишься лично, приходишь к нему на могилу, например, в день рождения или день памяти в Новодевичий монастырь, в чем-то с ним соглашаешься, в чем-то не соглашаешься, еще Булгаков говорил, когда отмечали 25-летие смерти Владимира Сергеевича Соловьева в Париже в религиозной философской академии, он говорил, что мы должны помолиться за раба Божьего Владимира, а Зинаида Гиппиус очень возмущалась, она говорила: «Как это так, что это такое — раб Божий? Это великий философ, поэт, интеллектуал, как можно его так называть?!» Но отец Сергий, он уже был священник, и он понимал, что для Церкви, конечно, это раб Божий со своими ошибками, со своими грехами, со своими заблуждениями, причем ну не нам дано, что называется, судить, что в его взглядах, что в его учении было заблуждением, а что не было заблуждением, тем более, что какие-то вещи, например, даже одна цитата из Соловьева вошла в «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», которая звучит так, что «Государство и право нужно не для того, чтобы жизнь на земле превратилась в рай, а чтобы она до времени не превратилась в ад». Там не указано, что это цитата из Соловьева, но это прямая цитата из работы «Право и нравственность» 1897 года, вот цитата, которая вошла, по сути, в вероучительный документ Русской Православной Церкви, поэтому говорить, что Церковь относится к Соловьеву с пренебрежением, что он экуменист — нет, Церковь очень многие его идеи, идеи его нравственной философии, его эсхатологию, выраженную в «Трех разговорах» очень высоко ценит и высоко ставит, но Церковь у нас все-таки не католическая, это там папа Иоанн Павел Второй в энциклику включал, а у нас это мнение авторитетных богословов, вот отец Георгий Флоровский в «Путях русского богословия» говорит о том, что Соловьев очень вырос в последних своих произведениях, поэтому, конечно, для меня это во многом личное отношение, личный выбор. Вы спрашиваете, почему я выбирал — я в юности был такой веселый человек, любил посмеяться, Соловьев тоже смеялся и смех Соловьева — первое, что описывают его биографы, что описывает Трубецкой в «Миросозерцании Соловьева», что описывает Лосев, что это был какой-то очень удивительный, непохожий на других смех, ну вот я когда прочитал, я думаю: ну надо же, кому-то небезразлично, как философ смеялся.
А. Костикова
— Ну, многим философам небезразлично и многие, в том числе, например, западные философы, которыми я занимаюсь, считают, что настоящий философ и должен смеяться. Но если я вас правильно поняла, вот это личное отношение, оно высвечивает прежде всего нравственную сторону учения, насколько вы считаете, что действительно вопросы морали, близкие к ним вопросы справедливости — это те вопросы, которые обосновывают, ну и наш исследовательский выбор, и наше личное отношение, и наше место в философии, ведь вы занимались не только Соловьевым, но и Булгаковым, Леонтьевым, Ильиным, этот список можно продолжить, мы его даже, наверное, продолжим сегодня.
А. Козырев
— А вот здесь я бы вернулся к тому, с чего мы начали — с Отечества, то есть мне было важно для себя открыть, продолжить — это, может быть, слишком громко сказано, но для себя открыть эту традицию отечественной философии, потому что когда нас учили на философском факультете — ну, были достойные люди, вы их помните: Виталий Васильевич Богатов, который тоже был ветеран войны и интересный человек, но читали историю русской философии все-таки однобоко, то есть представляли революционно-демократическую традицию, атеистическую традицию, иногда записывали в атеисты тех, кто ими не был на самом деле, как Радищев, ну какой он атеист? А вот другая линия, она даже в знаменитой шеститомной «Истории философии в СССР», которую мы называли «синяя птица», она представлена очень контурно и местами даже с ошибками, просто с ошибками фактологическими, ну потому что этим мало занимались, считалось, что у этого нет никакой ценности и, вообще говоря, в 70-е годы человек должен был долго оправдываться, если ему в голову пришла идея написать диссертацию о Соловьеве, это было практически невозможно, ну какие-то редкие исключения были, но даже по книге Валентина Фердинандовича Асмуса мы знаем, сколько там нужно было всяких условностей, реверансов, какой-то идеологической лексики употреблять для того, чтобы об этом писать. И мне было несколько обидно: ну почему? И вообще-то я попал на то время, когда «Огонек», «Московские новости», толстые журналы, «Новый мир», «Знамя», тиражи под миллион экземпляров, то есть бум какой-то просто стремления людей к знанию, к знанию литературы, философия тогда была нужна отнюдь не только философам, «Вопросы философии» выходили, 80 тысяч подписка была, на приложение к «Вопросам философии» невозможно было подписаться, и это читали географы, физики, математики, химики, биологи, инженеры, кто угодно, все стремились к философскому знанию.
А. Костикова
— И они были готовы к такому чтению надо сказать, в каком-то смысле.
А. Козырев
— Они росли, они поднимали себя, то есть они чего-то не понимали... Вот удивительно, что сейчас, к сожалению, нет моды на философию, хотя, может быть, в чем-то я и не прав, потому что мы читаем межфакультетские курсы для студентов разных факультетов Московского университета, по средам у нас такие лекции.
А. Костикова
— Да, замечательная инициатива нашего ректора.
А. Козырев
— Да, удивительно, что на лекцию о Серебряном веке, допустим, записалось больше ста человек разных студентов, то есть есть интерес у студентов не только гуманитарных специальностей к этому философскому знанию, но в конце 80-х годов он был значительно выше, значительно больше, вот сама ценность философского знания, и поэтому у меня была какая-то обида, ну почему же мы вот эту отечественную философскую традицию нашу родную недооцениваем? И, наверное, поэтому не только я пошел заниматься историей русской философии, но тогда в моей группе было 14 человек, это была самая модная кафедра.
А. Костикова
— Да, это правда, и все занимались архивами, сидели там, восстанавливали тексты...
А. Козырев
— Я должен, может быть, еще раз представить мою собеседницу Анну Анатольевну Костикову, с которой мы сегодня говорим почему-то о моих воспоминаниях, но, вообще-то говоря, через это пытаемся пронести мысль о защите Отечества, о философии Отечества и о отечественной философии, соединив вместе эти два понятия, и после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», с вами ее ведущие Алексей Козырев и гость нашей сегодняшней студии, заведующая кафедрой философии и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова, мы говорим сегодня о философии Отечества и отечественной философии.
А. Костикова
— И мне выпала возможность поспрашивать нашего ведущего Алексея Павловича Козырева как раз по теме отечественной философии, и в предыдущем блоке-рассуждении мы вышли, по сути дела, спонтанно, на задачу, прошу прощения за какое-то клише: популяризации отечественной философии, то есть действительно вопрос о том, насколько мы хорошо знаем, не только философы, но и широкая общественность, насколько мы хорошо знаем идеи отечественной мысли, отечественных философов. И сразу следом вопрос: насколько, Алексей Павлович, вы считаете это важным для современного общества? Вы проделали сам лично большую работу в этом направлении, вы вели программу на радио «София», на радио «РСН» и «Философский клуб», который существовал в течение трех лет, фантастические рейтинги имел...
А. Козырев
— Мы уже перекрыли на «Вере».
А. Костикова
— Да, на «Вере» уже три года «Философские ночи» на самые разные темы, это влияние не только ночного эфира, это, конечно, влияние на большую часть нашего российского общества. Как вы видите эту задачу сегодня? Достаточно ли делается в плане популяризации философии, может быть, какие-то темы современные философии оказываются слишком узкими, а какие-то, наоборот, важные для современного Отечества оказываются совершенно никак не освещены современными медиа.
А. Козырев
— Я согласен с вами, действительно, я общался как-то с коллегой из Франции, который сделал мне даже не упрек, он сказал: «Вот смотрите, вы — страна лагерей, у вас был ГУЛАГ, вы должны это осмыслять, вот много ли делает отечественная философия для осмысления террора 30-х годов?» Немного, но не только это должны осмыслять, это должны осмыслять, безусловно, и кстати, опыт такого тоталитаризма и унижения человеческого достоинства, он был не только в нашей стране, но и в других странах Европы, например, в фашистской Германии, и католические епископы на встрече с Гитлером ни слова не сказали ему, когда он объяснял, что уничтожает евреев для блага самой же Католической Церкви, особенно никто не выступил с протестами, скажем так, христианская общественность Европы, поэтому им тоже есть что осмыслять, а нам можно осмыслять разные страницы нашей истории. Вот недавно мы общались с президентом фонда Трубецких отцом Георгием Бе́лькиндом, он был здесь у нас в студии, большими усилиями в Новороссийске стоило восстановить могилу Евгения Николаевича Трубецкого, одного из крупнейших русских философов, профессора Московского университета, и сейчас эта могила под угрозой, потому что эта земля принадлежит Министерству обороны, и долгие переговоры уже идут несколько лет, чтобы там, рядом с ней, буквально на этой могиле не построили котельную. И сейчас ставят вопрос о памятнике Трубецкому в Новороссийске, он там не родился, он там не жил, он там умер, потому что вместе с белым движением, белой армией, он отходил на юг, там он заболел тифом и в этом городе его не стало, конечно, я абсолютно поддерживаю мысль, что надо поставить памятник Трубецкому в Новороссийске. Мне вообще очень нравится, когда философы делают что-то практическое, когда они не только плачутся о том, что у нас плохо представлено, что философии популяризация не идет, а когда они берут и реализуют какой-то проект, общественный проект, вот памятник Трубецкому, мне кажется, такой прекрасный проект, потому что, когда я приезжаю, допустим, на Кипр и город Ларнака есть такой, там есть аэропорт, я вижу, что в парке того города стоит памятник Зенону Китийскому, Зенону из Китиона, основателю школы стоиков и это приятно, что в городе есть памятник философу. Я вообще считаю, что в каждом городе должен быть памятник философу, если философ в этом городе был, мыслил, потому что ну сколько мы будем ставить памятник полководцам, причем иногда бывает, что и с той стороны, и с другой, Колчаку поставили в Иркутске, теперь там жители недовольны, кому-то это нравится, кому-то не нравится, а памятник философу, он примиряет всех, потому что это памятник человеку, который никого не убивал, не стрелял, ни с той, ни с другой стороны, а мыслью пытался остановить раздор...
А. Костикова
— Ну, как правило, остановить, хотя мы знаем другие примеры, но вы правы, философия может выступать таким объединяющим началом и особенно в каких-то практических делах, в связи с этим и, пожалуй, восстановление памяти очень сложное практическое дело, оно действительно наталкивается на раздоры, разногласия, непонимание и кому, как не философии этим заняться...
А. Козырев
— Флоренский говорил, что «не буди мерзлоту», то есть, по сути, работа с памятью — это вот эта разморозка вечной мерзлоты, где много и, в том числе, и зыбкого, и тяжелого, и травматичного, может быть, ранящего нас, но раз уж мы за это беремся, то надо, что называется, с молитвой, потому что только это нас сможет удержать.
А. Костикова
— В связи с этим я хотела вам задать вопрос о школе, которая инициирована в университете, одна из нескольких, но в которой непосредственно участвует философский факультет, опять-таки, вместе с несколькими другими факультетами, и которую вы возглавили с этого года.
А. Козырев
— Я являюсь соруководителем.
А. Костикова
— Да. И там как раз ключевое слово «наследие». Пожалуйста, прокомментируйте этот проект, который является, с одной стороны, интеллектуальным, с другой стороны, несомненно практическим проектом Московского государственного университета.
А. Козырев
— Да, спасибо, что задали этот вопрос, это инициатива ректора Московского университета академика Садовничего — создать школы по разным направлениям науки, интегрирующим ученых разных специальностей и здесь в данном случае это историки, это филологи, это лингвисты, это философы, социологи, психологи и другие интегрированы в этой школе. Действительно, там есть и ряд образовательных проектов, которые планируются и связаны с моделированием социокультурных процессов и цифровыми технологиями в культуре, но есть и очень интересный проект «Золотой фонд Московского университета», где аккумулируются, описываются коллекции, которые продолжают поступать, вот, например, архив Ивана Александровича Ильина, я был причастен к его передаче в 2006 годы, была правительственная комиссия создана и из Соединенных Штатов Америки был возвращен этот ценнейший архив, который хранится в библиотеке Московского университета и не просто хранится, но благодаря Министерству культуры он полностью оцифрован, он есть в свободном доступе в сети...
А. Костикова
— И готовятся диссертации, по-моему.
А. Козырев
— Да, но далеко не все такие коллекции Московского университета оцифрованы, и они, опять-таки, продолжают поступать. Я вот недавно общался с сыном другого Ильина, Владимира Николаевича, тоже философа русского зарубежья, богослова, и он обещал передать в Московский университет еще несколько коробок с книгами. Потом, есть разные коллекции: есть фотоколлекции, есть коллекции картин, есть коллекции носителей музыки и все это может быть собрано. А вот что касается названия школы, то вы хорошо вспомнили — наследие, сохранение культурного исторического наследия, вот в эти же самые дни, можно сказать, закрылся журнал «Наше наследие». Я недавно просто пересматривал какие-то номера отдельные 2000-х годов, для меня этот журнал был очень важным, то есть его начало выхода в 88-м году, мне его даже в армию присылала мама, и я помню, что Енишерлов, главный редактор этого журнала, получил от Владимира Владимировича Путина, когда он стал президентом, государственную премию, то есть этот журнал был отмечен, вернее, не журнал, а его главный редактор и еще там несколько человек. И вот мы не смогли сохранить этот журнал, «мы» — не знаю кого здесь подразумевать под «мы» — общество, почему, я не понимаю, почему для нас важнее, например, спорт? Спорт важен, олимпиада, все это очень важно, но ведь наше культурное наследие, публикация архивов, источников, документов, материалов, причем публикации не в таком формате, что вот в интернете почитаете, а чтобы это было приятно взять в руки, чтобы это увлекло молодого человека. Вот у меня был студент Дмитрий Лескин, он тоже пошел вот по этому пути, стал священником на пятом курсе и основал православную гимназию в Тольятти в Ставрополе-на-Волге, так вот теперь там не только православная гимназия и православный колледж, там православный институт имени Алексия митрополита Московского, а институт этот, чтобы было понятно радиослушателям — масштабы Исторического музея на Красной площади, то есть вот это то, о чем я говорю, когда философ, когда выпускник философского факультета делает какой-то жизненный проект, и этот проект меняет судьбы, меняет жизни сотен, а может, даже и тысяч людей.
А. Костикова
— Это замечательный пример и, конечно, хотелось бы, чтобы тот проект, который сейчас начинается, инициированный ректором, был такой же счастливой судьбы, и чтобы были подготовлены новые магистры по новым программам...
А. Козырев
— Но это от нас зависит, это зависит от наших усилий, ректор инициировал, а мы должны делать.
А. Костикова
— Да, мы должны развивать, поддерживать и в этом плане как вы видите, какие институты, какие структуры могут помогать? Потому что все-таки не всегда университетская организация даже финансово способна, например, поддержать журнал.
А. Козырев
— Да, вопрос правильный, конечно, должны быть такие структуры, должны быть клубы выпускников, они есть во всех ведущих университетах мира, выпускники с нами не теряют связи, но я не могу сказать, что у нас это так органически установлено, такая кооперация, как правило, это бывает на каких-то отдельных личных контактах с тем или иным выпускником, но, наверное, не только выпускники должны помогать, и фонды какие-то, фонды наших бизнесменов, наших общественных деятелей, Церковь нам помогает, не финансово, конечно, а в каком-то интеллектуальном смысле. У нас есть лекторий в храме Святой Троицы на Воробьевых горах, с отцом Андреем Новиковым мы сотрудничаем, это очень интересный опыт, туда приходят преподаватели Московского университета: биологи, геофизики, не только гуманитарии, и читают лекции: современный взгляд на теорию эволюции, на происхождение земли, вот это как раз тот момент, где есть мостик между верой и знанием. Храм святой Татьяны, я был на первой службе, на первом молебне, который Святейший Патриарх Алексий вел в фойе, там был тогда дом культуры, был театр университетский, но храм вернулся в свое здание и там тоже есть много интересных проектов, и лекторий есть свой, и сейчас еще новый храм возникает — храм Кирилла и Мефодия на новой территории Московского университета, поскольку сейчас строится технологическая долина, уже начата эта стройка, уже 26 января Виктор Антонович Садовничий и Сергей Семенович Собянин, что называется, дали старт, заложили, там будет наукоград, огромный город науки с велосипедными дорожками, со своей инфраструктурой и с храмом, уже сейчас не все знают, уже несколько лет существует временный храм Кирилла и Мефодия, который действует, где идут службы, и священник, отец Иоанн, тоже является выпускником Московского университета, и это тоже важно, вот эта духовная поддержка, то есть речь не идет о том, что поддержка — это когда кто-то приходит и покупает партию компьютеров, хотя это тоже очень важно, но и духовная, интеллектуальная поддержка. Рождественские чтения, которые мы проводили и у нас, и в других, и Нижний Новгород, и Саратов, и Самара, Саранск, куда наши коллеги ездят, участвуют в этой конференции, которая традиционно по инициативе Святейшего Патриарха проводится в декабре-январе, и я знаю, что мои коллеги даже медаль от Нижегородской епархии получили за регулярное участие в нижегородских Рождественских чтениях. Я в Саратове часто выступал и на Пименовских чтениях, посвященных памяти владыки Пимена, который был саратовским митрополитом, так что в этом отношении сотрудничество, безусловно, есть.
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации философского факультета МГУ Анна Анатольевна Костикова, мы говорим о философии Отечества и отечественной философии.
А. Костикова
— Таким образом мы переходим к представлению не гостя, а ведущего, Алексей Павловича Козырева, который исполняет обязанности декана философского факультета и непосредственно исследует отечественную мысль, воспитывает новых исследователей, мы только что слышали замечательный пример одного из, наверное, самых ярких учеников Алексея Павловича — Лескина...
А. Козырев
— Протоиерея Дмитрия Лескина.
А. Костикова
— Да, спасибо большое, что вы правильно назвали, но мне хотелось как раз от той поддержки и самых разных общественных проектов, которые возможны в новейшей отечественной философии перейти к тому, что делает такие проекты действительно общественными, то есть включение в философские исследования, в философскую мысль, то, что связывает философию в широком смысле с культурой. У вас прозвучало в рассказе о школе, сохраняющей наследие, одной из школ МГУ, идея и задача обращения к отечественной музыке и к отечественной литературе, поэзии, и здесь вы тоже, как мы знаем, выступаете специалистом, не просто любителем. Расскажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, музыка связывает ваши разносторонние интересы в сфере современной философии, насколько она может помочь сделать интерес к философии более широким и насколько она может помочь прояснить философские идеи?
А. Козырев
— Ну, здесь я опять вспомню Алексея Федоровича Лосева, поскольку он тоже Алеша, как и я, Алеша Карамазов где-то в перспективе...
А. Костикова
— Человек Божий.
А. Козырев
— Человек Божий, да, Алеша Карамазов не совсем человек Божий, но имя Алексей, оно имеет здесь...Он когда учился в Московском университете и есть его воспоминания, есть его переписка, он каждую неделю ходил в Большой театр, ходил в консерваторию, у него первая его статья была посвящена Антонине Васильевне Неждановой, «Два мироощущения» о Верди и Вагнере, и мне кажется, что музыка играет очень большую роль в становлении философа, и философ, который не слушает музыку, радикально отличается от философа, который музыку слушает. Отличается совсем не обязательно в уровне, может быть, у него другой способ перцепции мира, визуальный, но тем не менее не стоит забывать слова Шопенгауэра о том, что «музыка — это бессознательное философствование души, не знающей о том, что она философская», то есть музыка настраивает нас на определенную внутреннюю логику, вот слушание Баха или слушание Моцарта, или слушание Бетховена — это разный тип личности, то есть понятно, что мы знаем историю музыки и слушаем все, но есть даже такое понятие «человек Баха», то есть он живет в космосе Баха, есть человек, который любит современную музыку, от Шнитке и дальше, это интересно, это сложно, потому что музыка всегда уходит много вперед по отношению к тому, где находится слово, где находится философия, то есть музыка в авангарде, а не в арьергарде постижения. И современные композиторы, вот Владимир Иванович Мартынов, друг нашего факультета, юбилей которого сейчас отмечается, которого мы сердечно поздравляем, я знаю, что в филармонии его юбилейный концерт прошел, он написал гимн Московского университета, очень интересный гимн, стилизованный под музыку барокко 18-го века, поскольку наш университет основан Елизаветой Петровной императрицей и это такое попадание, мне кажется, в стилистику той эпохи, хотя и не ее копирование, не ее воспроизведение, звучит духоподъемно и сегодня уже звучит больше десяти лет, был написан к 250-летию МГУ, и гимн прижился, он полюбился людям Московского университета. И, кстати, у нас в университете музыка звучит, есть программа «Ректор Московского университета приглашает», и сейчас она немножко приостановилась из-за пандемии, а так и Светланов великий, и Мацуев, Гергиев, все приезжали в университет, и все считают за честь выступить в актовом зале Московского университета. Ну и церковная музыка, надо сказать, что да, тоже все-таки Рахманинов и Чайковский писали для Церкви, это были в чем-то такие концертные «Литургии», не все «Литургии», которые пишутся, пишутся обязательно для исполнения в храме, даже «Всенощная» Рахманинова, может быть, она более органично звучит в синодальной капелле, но тем не менее то, что наши великие русские композиторы обращались к церковной музыке, Владимир Федорович Одоевский, который, вообще говоря, был пионером прочитывания крюкового пения и даже сам организовал литургию незадолго до своей кончины, исполненную по крюкам, который считал, что гласовое пение — это, что является нашим самобытным, отечественным, нет, наверное, среди русских философов большего защитника Отечества, чем князь Владимир Федорович Одоевский, ему мы очень многим обязаны.
А. Костикова
— И очень философическое обоснование вот такого возвращения к музыкальному наследию. Надо сказать, что, конечно, музыкальность — качество философа и качество человека, которому мы не всегда уделяем должное внимание, но я думаю, все слушатели согласны, что, наверное, надо сделать отдельную передачу по философии музыки или по музыке в философии, это было бы очень интересно.
А. Козырев
— У нас было несколько передач и о Мусоргском, и о Елене Васильевне Образцовой в рамках нашего цикла «Философские ночи», несколько передач о музыке у нас было.
А. Костикова
— И понятно, что есть и конференции, посвященные этому, но было бы интересно действительно поговорить, может быть, и более широко. Но я хотела перевести разговор о музыке и такой музыкальности к чуткости, которую мы ждем от философов и которая проявляется во многом, может быть, прежде всего в чуткости к языку, вот к смыслам, которые мы употребляем, включаем в контексты, используем, как ключевые цитаты или, как сейчас говорят, «мемы», владение чужими языками, понимание собственного языка, знание его истории, в этом плане у вас лично замечательная школа овладения иностранным языком...
А. Козырев
— Нет, я в этом смысле бездарь, только по-французски говорю хорошо, но знаете, о чем я подумал, что когда я пришел в церковь, когда я стал ходить на пасхальные службы в храме Илии Обыденного, это было в конце 80-х — начале 90-х годов, замечательный храм, какие священники были: отец Глеб Каледа, отец Александр Егоров, и на пасхальной службе меня поразило то, что начало Евангелия от Иоанна читается на разных языках, на всех, которые знает клир, кто-то прочел по-французски, кто-то прочел по-немецки, кто-то прочел по-гречески, кто-то прочел по-латински, это действительно какой-то невероятный подъем испытываешь, ну, казалось бы, литургия, вот она, пасхальная, стремительная, она должна лететь к своему финалу и там разговеться уже пора — нет, читают Евангелие на разных языках и это очень символично, и очень красиво, потому что в начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог, а слово — это логос, а логос — это не совсем слово, логос — это речь, логос — это высказывание, имеющее смысл, то есть просто у слова не всегда есть смысл...
А. Костикова
— Это знание и закон или знание, приобретающее форму закона.
А. Козырев
— Да. И вот это произнесение Евангелия на разных языках, оно символизирует то, что Слово Божие должно быть проповедано всей земле и что Церковь наша, она не русская и не французская и не китайская, а она вселенская, Церковь одна, Церковь Христова, где собираются люди доброй воли, разных происхождений, разных биографий, что у нас у всех есть одно Небесное Отечество, но в то же время у нас каждого есть свое Отечество земное, которое для нас тоже очень важно и которое мы иногда еще называем Родина, то есть это женский эквивалент, Родина-Мать.
А. Костикова
— И вот как раз я хотела задать заключительный вопрос о женском голосе и вернуться к определению Отечества в женском обличье, вы уже произнесли: «Родина-Мать», как вы прокомментируете присутствие женских голосов и в философии, и сегодня в современном обществе, тем более, что вы лично, как я знаю, окружены в своем ближнем круге, в семье прежде всего женщинами: замечательной женой, двумя дочками...
А. Козырев
— Да, у меня жена, две дочки уже взрослых фактически, которые уже работают. Но в философском сообществе женщина просто необходима, потому что мудрость, София, она женского рода, тут ничего не скажешь и мне кажется, что прежде всего женщины — прекрасные преподаватели философии, то есть я не знаю, что бы мы делали на философском факультете, если бы не наши женщины, которые не просто готовы делиться знаниями, но которые готовы вот водить студентов, с ними как-то возиться, заботиться, меня очень трогает, когда профессор, которому уже за 80 далеко, она пишет мне заявление, что она хочет выйти в очный формат обучения, потому что она не может общаться со студентами онлайн, ей нужно глаза в глаза, поэтому вот эта педагогическая функция женщин в философии, она очень велика. Но женщины часто бывают оригинальными, интересным философами, мыслителями, я вспомню наших общих с вами учителей — это и Пиама Павловна Гайденко, это и Нелли Васильевна Мотрошилова, дай Бог обеим здоровья. Безусловно, женщина не менее способна к мысли, просто, может быть, она в мысли берет какую-то другую ипостась, то есть мысль для нее более материальна, более личностна, более связана с каким-то личным путем человека, с его жизненной траекторией, с его любовью. Вот вышел недавно сборник, составленный Юлией Вадимовной Синеокой «Философские эманации любви», мы с вами там печатались, то есть можно и так посмотреть на философию, как на историю любви, поэтому сегодня, еще в канун нашего государственного праздника, который не просто является днем мамы, но является Международным женским днем, когда женщина, по сути, заявляет о своих правах, о своем равенстве, о своих возможностях, я хотел бы, во-первых, поздравить наших женщин, наших коллег, наших девушек, наших дочек.
А. Костикова
— Алексей Павлович, большое спасибо.
А. Козырев
— Спасибо, Анна Анатольевна, за этот разговор. У нас в студии была Анна Костикова, заведующая кафедрой философии языка и коммуникации Московского государственного университета имени Ломоносова и до новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Подарим юным онкопациентам возможность бесплатно остановиться в Москве на время лечения
Для благотворительной гостиницы «Добрый дом» февраль — особенный месяц, когда отмечаются Всемирный день борьбы против рака и Международный день онкобольного ребёнка. Гостиница помогает онкобольным детям со всей страны, предоставляя бесплатное проживание на период лечения в Москве.
Её директор, Юлия Ромейко, сама когда-то оказалась в столичной онкологической больнице с ребёнком:
— Я почувствовала, насколько это тяжёлый труд и сколько расходов влечёт за собой лечение в чужом городе. А куда деваться в перерывах между химиотерапией, когда выписывают на пару недель? Тогда у меня появилась мечта построить дом, где семьи смогут отдыхать и набираться сил во время лечения. В 2019-м году она сбылась. И уже шестой год мы принимаем гостей из всех регионов страны. Помощь «Доброго дома» получили более восьми тысяч человек!
Двенадцатилетняя Диана с мамой Натальей — в числе первых жителей заселились в уникальную гостиницу и по сей день останавливаются в «Добром доме. Девочка прошла многолетний путь лечения, находится в ремиссии, но наблюдение требуется и по сей день.
Лететь девять часов с Камчатки в Москву, а после добираться в арендованное жильё — задача не из простых. С открытием «Доброго дома» такси забирает Диану с мамой из аэропорта и бесплатно доставляет в гостиницу. Всех постояльцев здесь поддерживают продуктами и бытовой химией, организуют досуг. Дети находят себе друзей, а мамам легче справляться с тревогой.
За прошлый год «Добрый дом» принял постояльцев более двух с половиной тысяч раз, а помогали ему в этом 264 волонтёра. Вы тоже можете внести свою лепту и помочь гостинице работать, а детям — выздоравливать.
Для этого можно отправить СМС на номер 3434 с текстом «ДОМ 500», где «500» — любая сумма в рублях или поддержать проект на сайте «Доброго дома».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Неделя о блудном сыне». Протоиерей Максим Первозванский

Максим Первозванский
У нас в гостях был клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников протоиерей Максим Первозванский.
Еженедельно в программе «Седмица» мы говорим о праздниках и днях памяти святых на предстоящей неделе.
В этот раз разговор шел о смыслах и особенностях богослужения и Апостольского (1Кор.6:12-20) и Евангельского (Лк.15:11—32) чтений в «Неделю о блудном сыне», о дне поминовения всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову, о Вселенской родительской (мясопустной) субботы, о днях памяти Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, святителя Никиты Новгородского, преподобного Ефрема Сирина.
Ведущая: Марина Борисова
Все выпуски программы Седмица
«Помощь зависимым родственникам». Протоиерей Максим Плетнев

В программе «Семейный час» — беседа с протоиереем Максимом Плетнёвым, клириком храма Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади Санкт-Петербурга и руководителем Координационного центра по противодействию алкоголизму и наркомании при Отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии.
Разговор посвящён тому, как помочь близким, страдающим зависимостями, и почему одних увещеваний обычно недостаточно.
Отец Максим рассказывает о своём пути к участию в церковной помощи зависимым людям.
Отдельно обсуждается тема «выгорания» и то, как она соотносится с христианским пониманием духовного кризиса. В беседе говорится о созависимости, о семейных причинах употребления и о том, почему зависимость рассматривается как страсть и как болезнь одновременно.
Во второй части беседы отец Максим подробно объясняет, как устроена амбулаторная программа помощи: письменные задания, группы, дневник чувств, духовная и психотерапевтическая работа, условия трезвости и постреабилитационная поддержка.
О помощи зависимым и поддержке их близких — в программе «Семейный час» на Радио ВЕРА.
Ведущая: Анна Леонтьева
Все выпуски программы Семейный час















