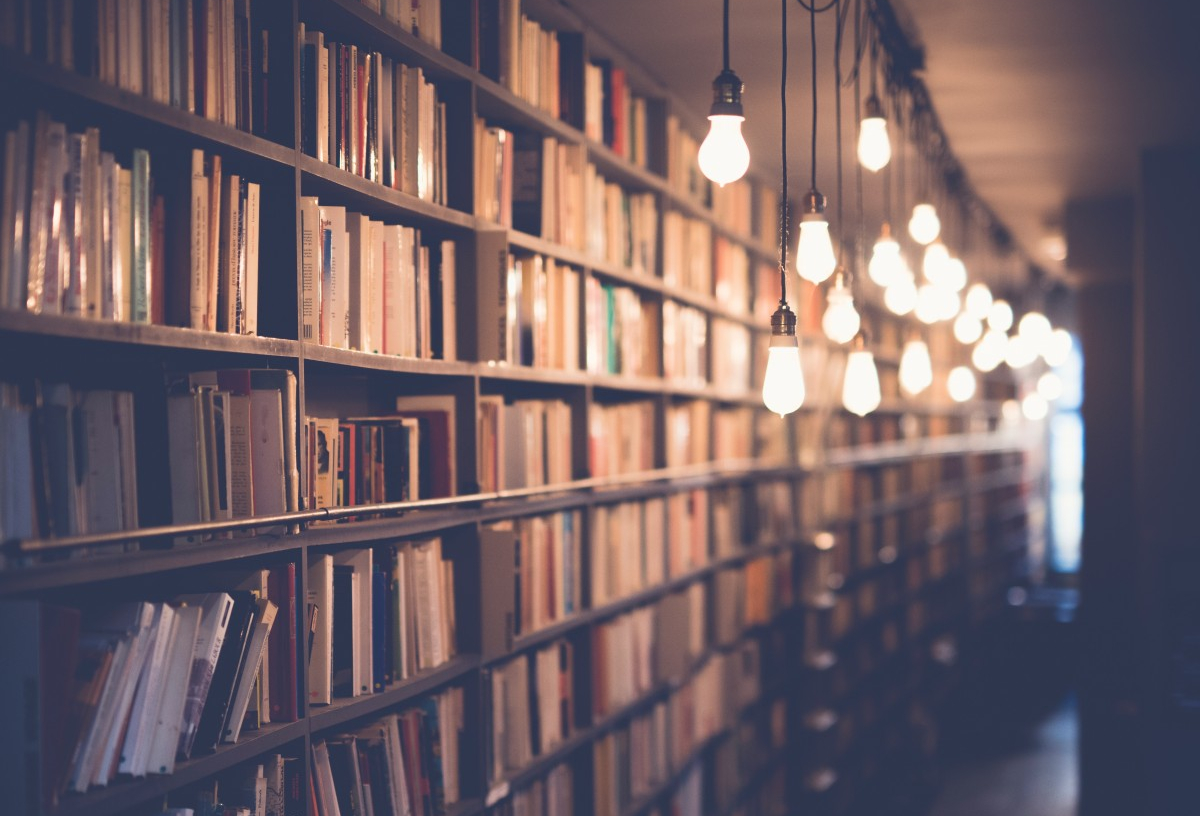
Гость программы — Илья Докучаев, заведующий Кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского Государственного Университета, доктор философских наук, почетный член Российской академии художеств, президент Российского культурологического общества.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев, поговорим о ценностях и культуре. У нас сегодня гость из Санкт-Петербурга, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского Государственного университета, доктор философских наук, почетный член Российской академии художеств, президент Российского культурологического общества — Илья Игоревич Докучаев. Здравствуйте, Илья Игоревич.
И. Докучаев
— Добрый вечер, дорогие друзья.
А. Козырев
— Очень рад, что вы до нас добрались, прямо вот только с поезда из Петербурга, две столицы, собственно говоря, это такая ось, вокруг которой выстраивается русская культура, ведь и Академия наук Петербургская, и Московский университет, который скоро отметит свое 270-летие, это такие флагманы, ну и, конечно, Российская академия художеств, потому что русский человек — творческий человек, и здесь, наверное, говоря о ценностях, мы поговорим и о ценностях, связанных с созиданием, с творчеством, потому что ценности и добродетели, вот я бы хотел вам задать первый вопрос, — это одно и то же или нет? У меня такое складывается ощущение, что ценности — это какой-то перевод этики добродетели аристотелевской на язык эпохи капитализма, когда все как-то надо оценивать, ценить, взвешивать. Я знаю, что вы очень много писали о ценностях, у вас есть большая книга «Ценность и экзистенция», вот как вы соотносите эти два понятия?
И. Докучаев
— Во-первых, хотел бы поблагодарить за приглашение, я с интересом слежу за передачами, которые называются «Философские ночи», и для меня большая честь сегодня самому принять участие в этой программе.
А. Козырев
— Давно ждали?
И Докучаев
— Давно хотел к вам приехать в гости, да. Что касается вопроса, я бы хотел сказать, что, конечно, вы правы, сам дискурс в этих терминах очень новоевропейский и нововременной, потому что он, конечно, существенно акцентирует внимание на роль субъекта в истории культуры, на роль человека с его уникальностью, свободой, и здесь не только капитализм, который сопровождает все эти вещи, но все-таки, мне кажется, прежде всего персонализм сыграл большую роль.
А. Козырев
— Такой эгоцентризм, да?
И. Докучаев
— Эгоцентризм, совершенно верно. Но я всегда считал, что неважно, когда возникло слово, как термин, как понятие, а важно, существовало ли когда-либо в прошлом, когда еще не было такого понятия, само явление, которое мы с помощью этого слова называем, ну потому что так устроена наука: мы термины придумываем, есть некая логика их возникновения, но их потенциал гораздо больше, чем потенциал той эпохи, когда они придуманы.
А. Козырев
— И так получилось, что сейчас вернулись мы к ценностному такому разговору, это связано и с указом президента «О традиционных духовно-нравственных ценностях...»
И. Докучаев
— А это потому, что понятие ценности ближе нам сегодня, чем понятие добродетели, оно лучше вообще воспринимается на слух огромным количеством людей, к которым, собственно, обращены эти тексты. Если бы мы заговорили о добродетели, мы бы почувствовали некую такую архаику в этом словоупотреблении.
А. Козырев
— Фарисейство какое-то, да?
И. Докучаев
— Ну, именно вот архаику, я бы так сказал, то есть некую неактуальность этого языка, хотя сами вещи, которые за этим стоят, далеко не архаичны и вполне заслуживают внимания. И вот если говорить о ценностях и добродетелях, то мне кажется, что понятие ценности больше, чем понятие добродетели, и включает больший объем материала, который можно описать с помощью этого понятия. Я под ценностями понимаю модели нашего поведения, наших действий, модели всех тех форм культуры, которые мы создаем. То есть, если понимать под культурой, собственно, наши действия и их результаты, то ценности — это те модели, на которые мы ориентируемся, действуя и создавая культуру. Это идеалы, которые мы используем для того, чтобы оценивать происходящее и создавать тот мир, в котором мы живём.
А. Козырев
— Вот образцы. Образцы — это люди, это герои, это святые, это какие-то подвижники веры, благочестия, или это какие-то отвлечённые понятия — вот добро, благо?
И. Докучаев
— Всё-таки про добродетель закончу, буквально одну фразу, что среди всех этих наших действий, среди продуктов, результатов, среди культуры — есть те действия, которые приемлемы и те, которые неприемлемы на основании наших идеалов, поэтому добродетели — это просто некий раздел в системе ценностей, важный раздел, но не единственный. Что касается следующего вопроса по поводу образцов, здесь, мне кажется, важно различать всё-таки идеал и его воплощение. Есть такие воплощения, которые далеки от идеала, есть те, которые очень близки. Один из любимых моих философов неокантианец Ри́ккерт говорил о том, что нужно различать благо, как воплощённую ценность, и, собственно, саму ценность, как платоновский идеал, который в вещах явлен лишь частично. И вот святые, если говорить ближе к нашему времени, звёзды, политические лидеры, герои, подвижники, иногда это бывают самые разные люди из самых разных профессий и сфер культуры, они могут воплощать эти идеалы, но сами по себе они не являются ценностями, они — воплощение этих ценностей. Вообще между ценностью и воплощением небольшой интервал мы говорим о том, что вот это максимально ценные образцы, в той мере, в какой этот интервал возрастает, мы начинаем говорить о кризисе ценностей, о том, что наша культура не соответствует этим идеалам и образцам, и, может быть, есть какие-то другие, на которые мы ориентируемся, но пока ещё не осознали это и не артикулировали.
А. Козырев
— Ну вот я подумал, что когда мы прославляем святого или прославляем человека, когда он ушёл из жизни, то мы говорим, что вся жизнь его была беззаветным служением идеалам добра, справедливости, или беззаветным служением Богу, если это подвижник благочестия, святитель, то есть, видимо, ценность — это что-то такое большее, чем мы, да?
И. Докучаев
— Конечно. По поводу того, что вы сейчас сказали, тоже интересно можно порассуждать, ведь бывают такие образцы, такие блага, как говорит Риккерт, которые в тот же момент, когда всё это существует, уже соответствуют определённой ценностной картине, а бывают такие артефакты, которые тогда, когда они были созданы, не ценились. Вот хороший пример — «Слово о полку Игореве», которое в момент его создания, по-видимому, никому не было интересно, поэтому сохранилось, можно сказать, в одном списке. И долгое время мы даже дискутировали, не является ли это мистификацией, созданной Мусиным-Пушкиным, а не подлинным памятником, и благодаря уже исследованию Олега Творогова и других филологов выяснилось, что всё-таки это аутентичный памятник, создававшийся в древнерусском литературном контексте, но просто он настолько опередил своё время, настолько не соответствовал ценностям своей эпохи, что его не переписывали.
А. Козырев
— Мы с вами пишем нашу программу сегодня в студии в Лефортово, в Токмаковом переулке, а здесь ведь недалеко находился особняк Мусина-Пушкина, который горел в 1812 году и в этом пожаре как раз и сгорела единственная рукопись «Слова о полку Игореве» — безвозвратная потеря для русской культуры, конечно. Но, насколько я помню, Александр Сергеевич Пушкин отстаивал подлинность «Слова о полку Игореве», когда он был в Московском университете, пришёл на лекцию профессора Ивана Давыдова, и вот там как раз шёл спор о подлинности «Слова о полку Игореве».
И. Докучаев
— Сегодня мы уже не сомневаемся в этом, но я говорю о том, что этот памятник имеет такое большое значение, потому что он гораздо больше соответствует ценностям, скажем, XIX и даже XX века русской культуры, чем тем, которые существовали в те времена.
А. Козырев
— То есть ценности, они меняются, да? Они приходят, они уходят, то, что было ценным, перестаёт быть ценным?
И. Докучаев
— Безусловно, я на этом всегда настаивал. Один из наших, можно сказать, современных «грехов» в отношении понимания ценностей — это какое-то такое странное представление о существовании вечных ценностей, я это называю аксиологическим антиисторизмом. Я выделяю такие три «греха» основных в понимании ценностей сегодня: это вот аксиологическое идолопоклонство (я так это называю), антиисторизм, и ещё есть такая «замечательная» совершенно вещь, как аксиологический абстракционизм.
А. Козырев
— «Аксиологический» — это ценностный.
И. Докучаев
— Да: «аксиос» — «ценный», это прилагательное греческое, и, соответственно, аксиология — наука о ценностях.
А. Козырев
— Но ведь Владимир Соловьёв сказал, мы с вами помним: «Смерть и Время царят на земле, — ты владыками их не зови; всё, кружась, исчезает во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Всё-таки что-то неподвижное хочется. Вот «Вечное в русской философии» — Вышеславцев пишет книгу, «Вечные спутники» у Мережковского, хочется, чтобы было что-то вечное, непреходящее, но как же все ценности, вот они меняются со временем, уходят, приходят, это такой театр теней получается, когда перед нами, как в некоем кинотеатре, проходят вот эти ценности.
И. Докучаев
— Ну, нам много чего хочется, но не факт, что мы получим то, чего мы хотим, и даже не факт, что существует то, чего мы хотим.
А. Козырев
— А ценности, они субъективны или объективны? То есть они существуют помимо нас, или они существуют только в нашем переживании, в нашем оценивании?
И. Докучаев
— Да, мне кажется, что ценности — это феномен социальной психологии, и они, конечно же, не существуют в платоновской Гиперурании. Мне почему нравится сравнивать вот эту концепцию ценностей с платоновской, потому что у него тоже была идея образцов, на основании которых Демиург сотворил мир в «Тимее» платоновском. А вот ценности — это такой перевод платонизма на язык истории, и здесь мы говорим, что человек творит культуру на основании этих образцов, и они, конечно же, существуют только в сознании либо конкретного человека, либо коллектива. Когда вы спрашиваете про субъективность, тут я хотел бы одну сделать ремарку, что, конечно, субъективность можно по-разному понимать: с одной стороны, как коллективную субъективность, с другой стороны, как индивидуальную. Вот ценности больше связаны именно с социальной.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня о ценностях и культуре, о том, как существуют ценности, что ценно, почему что-то мы считаем ценным, а что-то менее ценным, и как ценности связаны с верой, потому что вера прежде всего связывает нас с Богом, Который является высшей ценностью в жизни христианина, Который является высшим образцом. Христос, жизнь Христа является той ценностью, которая является примером для подражания. Вспомним Владимира Соловьева: «Образ Христа, как проверка совести» в «Духовных основах жизни», то есть, когда мы хотим соотнести себя с ценностью, если мы верующие люди, если мы христиане, то, наверное, мы соотносим себя с Христом и спрашиваем себя, как бы Христос повел Себя в данной ситуации, какой бы выбор он совершил, как бы Он отнёсся к этому человеку, и вспоминаем, опять-таки говоря о ценностях, мне кажется, важно вспомнить слова Христа, хотя, наверное, Он не употреблял этого слова «ценности», но Он сказал: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше», то есть, условно говоря, человек ведёт себя так, что он сообразуется с тем, что является для него священным, ценным, важным, значимым, так?
И. Докучаев
— Я даже думаю, что в этом тексте, в греческом варианте, скорее всего, употреблено слово «тезаурус», что в переводе на русский язык означает «сокровищница», но я не помню, надо посмотреть этот фрагмент. И, конечно, по-гречески ценность — это и есть, собственно, тезаурус, поэтому это калька. Думаю, если Он и не использовал слово «ценность», хотя там есть слово «аксиос», опять же, может быть и это слово употреблено.
А. Козырев
— «Аксиос» мы произносим в церкви: «Аксиос, аксиос, аксиос!», когда кто-то получает награду или рукополагается в священный сан, то есть мы говорим «достоин», об этом, кстати, мы ещё поговорим, как достоинство сочетается с ценностью.
И. Докучаев
— Так что ценностный дискурс там присутствует, другое дело, что, конечно, он имеет несколько иной формат, чем вот сейчас мы в наших философских штудиях его используем. По поводу веры, религии — конечно, это сфера ценности, причём ключевые вопросы, связанные с природой ценностей, это также вопросы и философии религии, и богословия. И с моей точки зрения ценность невозможно рационально обосновать, она вообще имеет много загадочного, она мистериальная, не очень понятно, как она возникает и не очень понятно, как она разрушается. Мы можем, конечно, много всяких исторических исследований провести на этот предмет, но вот объяснить некую закономерность, которую из раза в раз мы бы видели, она бы повторялась, никому из исследователей истории культуры, в общем-то, не удалось. Поэтому вера — это, наверное, такой вот основной способ существования ценностей. Вера — это способ их утверждения, поддержания, актуализации и реализации в человеческой жизни. Правда, это не единственный способ существования ценностей, и он характерен для того, что я называю традиционной культурой. По мере рационализации, модернизации культуры, помимо веры, возникают и другие способы существования ценностей, я имею в виду религиозную веру в данном случае. Прежде всего, конечно, возникает такая сфера, как политика, идеология, которая тоже является выражением ценностей в эту эпоху модернизации, ну и всегда ценности существовали и выражались в сознании людей.
А. Козырев
— Ну, вера ведь может быть не обязательно религиозной — «Я верю, верю, счастье есть», я верю в то, что есть справедливость, есть добро, есть истина, есть красота, есть люди добрые, которые меня поймут и поддержат, то есть далеко не всегда вера обязательно церковна. Вера может быть и философской, вера может быть и бытовой: «я тебе верю» — вера как доверие. В общем-то, это действительно связывает нас с ценностью и в каком-то смысле поруганную ценность можно сравнить с разрушенным храмом, где нет Евхаристии, нет литургии, нет молитвы, но, как сказал поэт, «ведь храм разрушенный — всё храм, а Бог поверженный — всё Бог», это слова Мережковского. Я вспоминаю, как хоронил свою тётушку, которая не была церковным человеком, но её отпевали, она была верующим человеком, это дальнее-дальнее Подмосковье, её принесли на кладбище, и там стояла часовня — осквернённая, поруганная, разрушенная, без крыши, такая кладбищенская часовня или кладбищенский храм, деревня, помню, называлась Каледино, её положили рядом с мужем, умершим давно, ещё, по-моему, в советские времена. И на что я обратил внимание: ведь у нас принято, у православных, класть покойников лицом на восток, вот где восходит Солнце Правды, а здесь был какой-то угол в 45 градусов по отношению к алтарю этого храма, то есть вот люди не помнили этого, рыли могилы местные жители, никаких гробовщиков там не было, мужики за бутылку, что называется, рыли могилу, они не помнили это уже. Ну, может быть, они и помнили, но во всяком случае могила мужа вот так располагалась, и как-то утешало только одно, что в этом разрушенном храме кто-то попытался навести порядок — подмёл, закрасил неприличные слова, написанные на стенах, и на подоконниках выбитых окон поставил бумажные софринские иконки, то есть кому-то пришла в голову мысль, что всё-таки это место, где мёртвые ждут Второго Пришествия, что храм — это место, где молились о вечной памяти, то есть вот ушедшая и потихонечку возвращающаяся ценность, воскресающая.
И. Докучаев
— Хороший пример на тот факт, на то обстоятельство, когда артефакты разрушаются, и они не могут не разрушаться, поскольку они материальные, а ценности остаются, поскольку они духовные, но разрушаются и они. Если мы с вами, скажем, сейчас поедем по Ирану в путешествие, я люблю там путешествовать, то мы увидим огромное количество старых разрушенных зороастрийских храмов, которые потеряли уже не только материальный облик, но и те ценностные основания, которые взывали их когда-то к жизни. Здесь разрушился уже не только храм, но и ценность разрушилась, поэтому вот «храм поверженный — всё храм» тогда, когда ценность сохранилась.
А. Козырев
— Вот надо поэтому не уподобиться зороастрийцам, вера более древняя, но, наверное, всё-таки наша вера более истинная, во всяком случае, для людей православных вот надо не быть такими плохими зороастрийцами и восстановить то, что ещё можно восстановить, вернуть, как-то спасти.
И. Докучаев
— К зороастрийцам я испытываю сочувствие, всё-таки гонения на эту веру были такие, которые, наверное, никто не пережил, но даже, несмотря на это, они как-то выжили, ещё существуют и в Индии, и даже в Иране.
А. Козырев
— Любой верующий человек заслуживает уважения, потому что у него есть святыня, и он понимает, что у человека, который исповедует другую религию, тоже есть святыня, и он его за это уважает, если, конечно, это вменяемый человек, не какой-нибудь там террорист, потому что это основа культуры, ведь Флоренский писал, что «в основе культуры лежит культ», вы с этой идеей согласны, или считаете, что это не так?
И. Докучаев
— Я полагаю, что культура возникала в условиях, когда существовал религиозный синтез культуры, и с этой идеей нельзя не согласиться, потом что как только мы находим первые формы человеческой жизни, мы уже находим следы культов самых разных, архаических, потом языческих, сначала шаманизм, потом политеизм такой вот мистический, потом монотеизм в разных вариантах его.
А. Козырев
— То есть человек существует там, где есть вера в трансцендентное, божественное?
И. Докучаев
— Он возникает, да. Но мы, видите, по мере развития нашей цивилизации утрачиваем эту связь культа и культуры, и это тоже факт, который нельзя не засвидетельствовать, то есть возникает-то культура из культа, но постепенно культ перестаёт играть роль, по крайней мере, в некоторых формах культуры. Вот в этом году отмечаем юбилей Швейцера, который, кстати, как-то прошёл малозамеченным, хотя это величайший философ, теолог ХХ века, он в интервью, данном им после получения Нобелевской премии, говорил, что религия вообще утратит какую бы то ни было роль в XXI веке, это меня в своё время поразило, когда я это прочитал. Он говорил это со скорбью и с сожалением, но он признавал некую неизбежность. Мне кажется, он ошибался, но всё-таки нельзя не видеть и тех оснований, на которые он опирался, когда это высказывал, есть вот эта секуляризация, и она — характерный признак модернизирующейся культуры со времён эпохи Возрождения.
А. Козырев
— Но в то же время Флоренский в 1935 году в подвалах Лубянки, когда его привезли из Сковородино и отправляли на Соловки, написал «Предполагаемое государственное устройство России в будущем», и там есть слова о том, что религия должна прорасти, как прорастает трава из-под асфальта, не нужно её подвергать гонениям и не нужно создавать какие-то новые искусственные религии, гражданские религии. Религиозное чувство таково, что оно пробьёт себе дорогу, и вот это, может быть, в каком-то смысле ответ на эту идею Швейцера, который считал, что религия уходит из пространства. Но вот мы с вами уже затронули этот вопрос в связи с «аксиос» — ценности и достоинства человека, то есть можно ли сказать, что достоинство — это в каком-то смысле эквивалент цены? Вот мы говорим о цене предмета, вещи, условно говоря, помидоров в магазине, а когда мы говорим о живом, о человеке, о личности, то здесь всё-таки уместнее употреблять слово «достоинство».
И. Докучаев
— Ну, кто как себя ценит. Некоторые продаются за деньги, некоторые жизнь свою отдают для того, чтобы доказать какие-то ценности и их достоинство. Вообще, мне кажется, что разные есть способы измерения, шкалы ценностные, по которым мы измеряем соответствие тех или иных вещей нашим ценностным идеалам. Деньги — один из таких видов шкалы измерения, но, конечно, не единственный. Были времена, когда не было никаких таких шкал, может быть, как мечтали об этом классики марксизма и ленинизма, настанут времена, когда их снова не будет. Но что касается достоинства, то, в общем, это тоже способ измерения соответствия тех или иных вещей, людей ценностным ориентациям, и он измеряется по-другому, не с помощью эквивалентов.
А. Козырев
— Это очень интересная тема, но я вынужден сейчас прерваться на паузу, мы к этому еще вернемся, потому что здесь есть что обсудить, мне кажется. А сейчас я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях на программе профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского университета Илья Докучаев, после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета, почётный член Российской Академии художеств Илья Игоревич Докучаев. Мы говорим сегодня о ценностях и культуре, о том, что всякая культура предъявляет нам какие-то ценности: мы говорим об античной культуре, там одни ценности, мы говорим о средневековой культуре, там другие ценности, наша современная культура тоже озаботилась этим вопросом, и сейчас, по-моему, даже журналы издаются, специально посвящённые ценностной проблематике.
И. Докучаев
— Да, вот Высшая школа экономики, Павлов издаёт такой журнал, например.
А. Козырев
— «Patria», да?
И. Докучаев
— Да.
А. Козырев
— Это хорошо, наверное, что мы озаботились вот этим вопросом о ценности человека, о достоинстве человека. Кстати, я напомню нашим радиослушателям, что Русская Православная Церковь в 2008 году приняла документ «Основы учения Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», это часть социальной доктрины Русской Православной Церкви, продолжение «Социальной концепции», которая была разработана и принята в 2000 году, и это очень важно, потому что Церковь ответила на вопрос, что такое свобода человека, что такое права человека, что такое достоинство человека, и вовсе не уходит от того, чтобы эти слова сегодня употреблять, потому что всё-таки ещё дохристианская культура, ведь римская культура настаивала на неотъемлемости человеческого достоинства. Вот оно всё-таки отъемлемое или неотъемлемое? Является ли достоинство ценностью, которую мы сегодня должны признать, разделять? В указе президента — нет, кстати.
И. Докучаев
— Вот я, в связи с тем, что мы сейчас сравнивали деньги и достоинства, подумал, что здесь, наверное, вот о чём следует прежде всего сказать. Мы очень часто выстраиваем всякие разные градации, уровни, говорим: вот это отвратительные низменные ценности, вот это высшие ценности, но здесь, мне кажется, какой-то есть опасный снобизм, суть которого заключается в том, что мы чаще всего признаём высшими ценностями, лучшими ценностями — свои, а к чужим относимся с пренебрежением, с отвращением. Это, в принципе, нормально, но за этим скрываются конфликты потенциальные, вражда друг к другу и даже угрозы мировых войн и катастроф. И есть такая концепция общечеловеческих ценностей, которая мне тоже очень не нравится, потому что, как правило, все те, кто излагают эти концепции, выдают свои ценности за общечеловеческие и пытаются таким образом их навязать всем остальным.
А. Козырев
— Общечеловеческие, мы помним, как они появились, когда советский атеизм и вдруг 1000-летие Крещения Руси, а почитайте Библию, почитайте десять заповедей, почитайте Евангелие — это же общечеловеческие ценности, то есть общечеловеческие возникли в противовес, скажем так, марксистским, каким-то партикулярным, частным ценностям, от которых общество стало постепенно отказываться, уходить в сторону того, что есть что-то более вечное, что-то более фундаментальное и что-то более, действительно, широкое, потому что ведь в библейской традиции живёт, ну не всё человечество, но значительная его часть, сюда относится и христианство, и ислам, который признаёт Пятикнижие Моисеево, то есть вот этот декалог — десять заповедей, всё-таки охватывает гораздо большее количество людей, чем сторонников какой-то концепции, марксистской, например.
И. Докучаев
— Ну, много буддистов ещё, много индуистов, это тоже значительная часть человечества.
А. Козырев
— Но их как-то в эти общечеловеческие ценности, по-моему, особенно не включают, да?
И. Докучаев
— Да-да-да. Вплоть до того, что их, я много читал христианской богословской литературы, где буддизм прямо назван атеизмом или язычеством, так что не то что не включают, а даже, как правило, связывают с антиценностями и контрценностями по отношению к христианству. Вот мне кажется, такая позиция опасна.
А. Козырев
— Хотя вот экологическое сознание у них больше развито.
И. Докучаев
— Хотя она неизбежна, да, но тут надо быть именно осторожными, не стоит отрицать иерархию ценностей, но только внутри собственной аксиологической традиции, внутри веры собственной, как тут обойтись без иерархии? Но когда мы говорим о каких-то мировых процессах, вот эта концепция общечеловеческих ценностей — это явно такая жульническая идея, за которой стоит желание выдать свои ценности за общечеловеческие.
А. Козырев
— Ну, с помидорами понятно, а вот когда мы говорим, что жизнь человеческая — это ценность, является ли это правильным? Вот милосердие — ценность, справедливость — ценность, взаимопомощь — ценность, любовь — ценность и жизнь — ценность, является ли жизнь словом из того же понятийного ряда?
И. Докучаев
— Замечательный пример, я много как раз рассуждал о ценностях в связи с понятием жизни, это, с моей точки зрения, иллюстрирует такую деформацию нашего аксиологического сознания, которую я называю «аксиологический абстракционизм». Вот что означает слово «жизнь»? Жизнь, в общем-то, это биологический феномен, это процесс, который можно описывать на языке генетики, на языке биохимии, используя понятие «углеродное соединение» и так далее. То есть это процесс, который связан с сохранением живого организма, с возобновлением его энергобаланса, который он тратит на поддержание жизни, и вот мы берем этот процесс, который сам по себе не имеет никакого отношения к ценностям, и оцениваем, на основании чего? На основании вот того самого идеала жизни, который сформирован в той или иной культуре. И очень хорошо можно проследить, что, скажем, для средневекового человека, христиански ориентированного, жизнь имеет ценность как подготовка к загробному существованию, к вечной жизни, которую уже в терминах биологии никак не охарактеризуешь. А, скажем, для тех же буддистов, о которых мы сегодня говорили, жизнь вообще не имеет никакой ценности, она есть источник болезней, страдания и старости, и необходимо её всячески преодолеть для того, чтобы оказаться в состоянии, которое ничего общего с жизнью вообще не имеет, нирвану точно уж жизнью не назовёшь, как, например, мы называем вечной жизнью в христианстве то состояние, которое придёт после смерти. Вроде бы как сегодня мы, обладая секулярным сознанием во многом, ценим нашу земную жизнь, и кажется, что она стала ценностью, но она и сегодня ценностью не стала, потому что сегодня ценность во многом это лишь ресурс для того, чтобы реализовать наши бесконечно возрастающие потребности, это отношение к жизни, совершенно точно, можно сказать, не имеет никакого аксиологического основания.
А. Козырев
— То есть, когда мы говорим, что жизнь — это ценность, то, наверное, мы предполагаем, что ценностью является достойная жизнь, не просто жизнь, как способ существования белковых тел, потому что, если идти дальше в этой логике, то можно сказать, что пищеварение — это ценность, размножение — это ценность. Но тут в каком смысле ценность? Наверное, для того, чтобы переваривать пищу, нужно её купить, для того, чтобы её купить, нужно заработать деньги, но это не ценность.
И. Докучаев
— Но я-то хотел сказать, что жизнь так и не стала ценностью, понимаете? Она никогда ценностью не была, она всегда — некий ресурс и повод для того, чтобы либо от неё отказаться, либо с её помощью приобрести какой-то более высокий уровень существования. Может быть, мы доживём до того момента, когда осознаем, что без вот этой живой материи невозможно наше существование на земле, и тогда мы сделаем, наконец, жизнь ценностью. Почему я говорю в связи с жизнью об абстракционизме? Потому что мы слово «жизнь» просто отрываем от той истории культуры, в которой вот это слово и все те процессы, которые за ним стоят, оценивались, и говорим, что это ценность, вот это называется абстракционизм, когда вместо ценности мы говорим о словах, мы говорим о каких-то концептах, но не о концепциях.
А. Козырев
— Но жизнь, она не просто жизнь, как часто говорят «продление жизни», вот для чего продлевать жизнь? Наверное, если жизнь — это ценность, то надо её продлить.
И. Докучаев
— Сначала надо разобраться, что мы имеем в виду, когда мы говорим о жизни, и что мы имеем в виду, когда мы говорим, что она ценна, что является её идеалом.
А. Козырев
— Кстати, в философии понятие «жизнь» тоже очень непонятно. Вот философия жизни, когда мы говорим о философии жизни, наверное, ведь речь не идёт о способе существования белковых тел, у Шеллинга, у Шопенгауэра это что-то другое, здесь в понятие «жизнь» вкладывается какой-то иной смысл, не биологический. Может быть, тот же творческий, с чего мы с вами начали, что ценность её в том, что на протяжении жизни человек может реализовать себя, создать что-то новое, да?
И. Докучаев
— Это один из вариантов ценности жизни, но я ещё раз говорю, что их много, и поэтому, когда мы говорим о ценности жизни и не хотим заниматься этим абстракционизмом, надо конкретизировать, о какой жизни мы говорим и почему она ценна.
А. Козырев
— Я вот знаю пожилых людей, которые говорят: «Да, я согласен жить до ста лет, я согласен жить дольше, я хочу этого, но если у меня будет ясная голова, если я буду нормально мыслить и способен буду ухаживать за собой, потому что, если я это потеряю, зачем мне такая жизнь нужна?» И здесь можно понять, что для человека важна не просто биологическая жизнь, но жизнь, как достойное существование, когда он может в определённой степени реализовывать себя. Ну, пускай не все из нас Пушкины, не все пишут великолепные стихи, но помогать внукам воспитывать правнуков это тоже осмысленное существование, для этого нужно иметь голову, иметь силы, иметь ясный ум.
И. Докучаев
— И ведь есть не только жизнь человека, есть ещё биосфера жизни животных, растительности.
А. Козырев
— Вот сейчас, кстати, пример с выбросом мазута в Анапе и в Геленджике, как ведь жалко этих птичек-то, да?
И. Докучаев
— Да то, что происходит с природой, с загрязнением окружающей среды — это катастрофический процесс, это глобальная проблема, которая вполне может привести к завершению нашего существования на планете Земля, причём в обозримый период.
А. Козырев
— А вот ещё один интересный ракурс, я знаю, вы об этом писали, и, на мой взгляд, очень важной ценностью в человеческом существовании является общение. Наверное, можно прожить какое-то время без еды, без питья, можно уйти на пост, отказать себе в скоромной пище, но вот жить без общения долго, ни с кем не общаться... Я понимаю, что есть всякие суррогаты — мобильные телефоны, социальные сети, но это тоже выражение того, что человек не может жить один, «нехорошо человеку жить одному». Действительно ли можно сказать, что общение — это ценность?
И. Докучаев
— Вот какой я хотел бы в этой связи вспомнить пример: я живу в Петербурге недалеко от Литераторских мостков, где, как вы знаете, похоронена почти вся русская культура.
А. Козырев
— Литература.
И. Докучаев
— Не только, там похоронен Менделеев, там похоронен Иван Павлов, там похоронены художники, выдающиеся актёры. Именно вот культура, не только литература, но литература тоже, там Блок, Тургенев, Мамин-Сибиряк, Салтыков-Щедрин, Леонид Андреев, Михаил Кузьмин. В общем, из самых разных эпох ключевые имена. И вот когда там гуляешь и проходишь, например, мимо могилы Тургенева, и вспоминаешь, что ты прочитал около пятидесяти томов его собрания сочинений, включая дневники, включая всякие разные черновые записи, а что это чтение означает? Это чтение означает, что ты с ним общался больше, чем даже с теми людьми, которые тебя окружают. Вот меня всегда эта мысль поражала, что я этих людей знаю лучше, чем своих собственных родных, потому что они о себе так не рассказали. Поэтому под общением мы понимаем вот это приобщение двух людей друг к другу, но тогда, когда они открываются этому общению, когда они что-то о себе говорят.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета Илья Докучаев. Мы говорим о ценностях, и общение — это тоже ценность. Вот сейчас чаще слышишь «коммуникация», «теория коммуникации», во всех вузах открывают какие-то программы с этим связанные, то есть человека как бы насильно пытаются научить общаться, а он всё упирается и упирается, и не хочу общаться. Коммуникация и общение — это одно и то же?
И. Докучаев
— Отвечая на этот вопрос, закончу мысль, которую мы начали обсуждать по поводу Литераторских мостков...
А. Козырев
— Да, очень красивый образ.
И. Докучаев
— Вот что такое общение — это приобщение двух уникальных личностей, двух уникальных субъектов, даже если это коллективные субъекты и общаются между собой две культуры, создавая какие-то рецепции, такое общение позволяет вот этой человеческой субъективности, человеческой природе просто осуществиться, реализоваться, потому что ты понимаешь, кто ты, только общаясь с другим. Это не обязательно конкретный человек, как я уже говорил, это вся история культуры.
А. Козырев
— «Смотреть в глаза другому», как говорил Бахтин.
И. Докучаев
— Да, да. Вот на этой границе между собой и другим ты начинаешь существовать, поэтому ценность общения, собственно, заключается в том, что она позволяет людям быть. У Гадамера есть в «Истине и методе», основной его книжке про герменевтику, третья глава, которая называется «Онтологический поворот герменевтики на путеводные нити языка», где он говорит о том, что герменевтика не просто наука, а процесс понимания людьми друг друга, это и есть, собственно, возможность существования, это метафизический процесс, и это как раз процесс аксиогенеза, потому что в этом процессе мы сравниваем ценности между собой, мы обсуждаем возможности их друг для друга, видим границы нашего ценностно-ориентированного поведения, поэтому общение — это такой вот один из важнейших способов аксиогенеза, который можно изучать, если мы хотим разобраться в том, как формируются и меняются ценности.
А. Козырев
— Общение с Богом возможно вообще?
И. Докучаев
— Ну, мы же понимаем, что есть люди, которые общаются с Богом, есть люди, которые лишены такой возможности, это тоже вопрос, почему так происходит.
А. Козырев
— Вообще, говоря, для верующего человека Евхаристия, Причастие — это общение с Богом, то есть приобщение.
И. Докучаев
— Для меня вот общение с Богом — это не мистический процесс какого-то такого разговора с потусторонним существом, это прежде всего общение с религиозной традицией, это общение в церкви с теми людьми, которые тоже верят, с той традицией, которая определяет это общение. Но есть, наверное, и люди, которые общаются с Ним, как с Личностью, я читал о таком опыте.
А. Козырев
— Один на один, лицом к лицу, это мистический опыт общения, есть традиция мистиков, особенно, наверное, она в таком выраженном виде у католиков присутствует, но и православная мистика, мистика молитвы, мистика тайнозрителя Божественной премудрости исихаста, молитвенника — наверное, этот опыт не каждому даётся, и, во всяком случае, в миру его трудно реализовать, но тем не менее, мы понимаем, что такое, когда говорят «общение», «богообщение». По-моему, Зизиолос — греческий богослов, автор книги «Бытие как общение», то есть эта тема, она в философии присутствует.
И. Докучаев
— Ну, это прежде всего Мартин Бубер, и вот «Я и Ты» — это такая ключевая работа. А по поводу коммуникации тоже два слова, потому что общение мы можем осуществлять самоцельно, то есть именно с целью понять друг друга и приобщиться к бесконечности бытия друг друга, а можно, конечно, общение использовать с какой-то другой целью — строительство дома или даже обучение...
А. Козырев
— Деловое общение.
И. Докучаев
— Да. И это вот как раз то, что мой учитель Моисей Самойлович Каган называл коммуникацией, хотя я понимаю, что его часто используют как синоним, такое тоже имеет право на существование, но вот он предпочитал коммуникацией называть служебное общение, то есть то общение, которое ради каких-то других целей осуществляется. Но главная, конечно, форма общения — это самоцельное общение, которое поэтому, кстати говоря, болезненно очень прервать. Если люди друг другу интересны, если они действительно общаются для того, чтобы понять друг друга, то это неостановимый процесс, поэтому любящим друг друга людям, друзьям, всё время хочется возобновить общение, вот оно прервалось, но мы понимаем, что мы ещё встретимся.
А. Козырев
— Как говорил Габриэль Марсель, «любить — это говорить другому «ты не умрёшь». То есть вот поверить в то, что человек, с которым ты общаешься, который тебе близок, может уйти, и это общение может прекратиться, мы не можем, поэтому в этом, наверное, коренится и наша вера, что даже если в земной жизни это прекратилось, то это продолжится, мы продолжим общение с нашими родителями, с нашими близкими, любимыми, на каком-то другом уровне уже продолжим, расскажем то, что произошло за всё это время, когда мы не виделись, обнимем друг друга, это ведь такая подпитывающая в нас надежда, такая сила культуры, без которой, наверное, нам очень трудно будет существовать. Очень хорошо, что вы вспомнили вашего учителя, потому что я мало знал его, один раз слышал выступление на конференции, в Эрмитаже, кстати сказать, в эрмитажном театре. Большой философ Моисей Самойлович Каган, он занимался проблемами эстетики прежде всего?
И. Докучаев
— Я полагаю, он энциклопедический философ, он занимался всеми проблемами. У него есть замечательная книга, последняя, предсмертная, он её уже не увидел в печати, называется «Метаморфозы бытия и небытия. Опыт отрицательной онтологии», где он замечательное рассуждение о смерти предлагает, причём умирающий человек от рака, понимающий, что ему осталось недолго, вот пишет книгу о смерти, замечательная книга, её никто не читает, кстати, вот нигде про неё не услышишь. Есть совершенно потрясающие работы о человеке по философской антропологии, ну разве что по социальной философии он мало писал, а так вот философия культуры, философская антропология.
А. Козырев
— Вот в этом немножко разрыв какой-то московской и петербургской философской традиции, вроде мы рядом, и четыре часа доехать на сапсане, даже меньше, скоро вообще два часа будет, а вот школы и такие философские кумиры, если можно так сказать, мэтры, они разные, и не всегда они пересекаются, не всегда взаимодействуют в плане такого школьного взаимопроникновения. Это пробел, который надо устранять, и вот мне кажется, что наша программа, где я с удовольствием всегда беседую с нашими коллегами и гостями из Петербурга, и не только из Петербурга, из других городов России, это вот одна из таких площадок, где мы можем общаться и рассказывать друг другу о том, чем мы живем, у кого мы учимся, как мы верим, с кем мы общаемся, в конце концов. Ну а вот завершая, подводя наш разговор под какую-то финальную черту, вы замечательно сказали, что не хочется прерывать, когда общение интересно, хочется, чтобы оно продолжилось, и я верю, что оно еще продолжится в других программах, мы обязательно еще запишем. Но вот, подводя такой промежуточный итог в проблеме ценностей, кто вообще должен нам рассказать, что такое ценности — социологи? Вы верите в социологию? Вот сейчас много опросов появляется, ВЦИОМ, Валерий Федоров был у нас в студии, «сейчас мы скажем, какие ценности сегодня для россиян являются базовыми, вот что изменилось, на сколько процентов». Вы верите в социологию?
И. Докучаев
— Ну, в нее невозможно не верить, если она проведена на достаточном уровне, то ее результаты, по крайней мере, должны быть приняты во внимание. Но мне кажется, что про ценности нам должна рассказать прежде всего наша культура, наше искусство, наша наука, наш вещественный мир, в котором мы живем, та же архитектура городов, по которым мы гуляем.
А. Козырев
— Вот мы шли на эфир, и вы сказали, условно говоря, «кто так строит?» — вот замечательный центр Москвы и понатыкали домов, которые не вписываются ни стилистически, ни архитектурно, просто Вавилон.
И. Докучаев
— Да, какими ценностями эти люди руководствовались? Так что именно наша культура, нужно просто обращать внимание на детали и вместе с тем на все, что делает человек сегодня, и тогда мы увидим, что такое наши ценности. Наверное, есть философы, которые могут экстраполировать какой-то сухой остаток вот этого, но ценности — это не абстракция какая-то, это действительно идеалы смысла жизни, которые мы используем для того, чтобы оценивать мир и менять его в соответствии с этими идеалами, поэтому социологи нам что-то могут рассказать, но не больше, чем то, что мы и так знаем.
А. Козырев
— Наверное, к социологам должны прибавиться философы, и не только философы, но и священники, наши отцы, которые читают чаще, чем мы, Священное Писание, которые глубже вдумываются и живут постоянной литургической практикой каждодневной.
И. Докучаев
— Я уже говорил, что религия — это одна из важнейших сфер существования ценностей, если не основная, для традиционной культуры уж точно, но и сегодня тоже.
А. Козырев
— Меня, как университетского человека, всегда удивляет то, что проповедь, как жанр культуры, как жанр риторики уходит, к сожалению. Вспомните святого Иоанна Кронштадтского, которого мы, конечно, с вами не знали — сколько людей собиралось на его воскресной проповеди, это тысячи, десятки тысяч людей стояли возле собора...
И. Докучаев
— Нет, но слава богу, ещё есть, по крайней мере, в Петербурге храмы, где можно прийти и послушать настоящую проповедь, есть замечательные священники, которым есть что сказать.
А. Козырев
— Но это же тоже совместное переживание ценности, очень важно, что ценность должна быть пережита. Вы замечательно сказали о том, что она не субъективна и не объективна, а она, по сути, соборна, то есть она существует в некоем коллективном субъекте. Вот Церковь, безусловно, является таким коллективным субъектом, потому что все остальные представления и метафоры...
И. Докучаев
— Но проповедь — это всё-таки такая, я бы сказал, экзистенциализация традиции, это не только результат причастности священника Церкви, это ещё и результат того, что сам священник имеет что сказать прихожанам, тогда получается. Вот когда это достойный, как мы говорили сегодня, человек, тогда он может эту проповедь произнести.
А. Козырев
— Спасибо большое, дорогой Илья Игоревич. Мне кажется, что многие вещи прояснились, во всяком случае, для меня видно, куда идти, когда мы пытаемся не только осмыслять ценности, но и жить сообразно ценностям, выстраивать свою жизнь так, чтобы она была прожита не зря, чтобы мы потом сказали, что — да, мы верили, мы надеялись, мы любили, мы служили тому, что для нас является подлинно ценным. У нас в гостях был Илья Докучаев, до новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на Светлом радио, на Радио ВЕРА.
И. Докучаев
— Спасибо, до свидания.
Все выпуски программы Философские ночи
Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде»

— Маргарита Константиновна, спасибо, что пригласили меня в Музей русского импрессионизма! Я сегодня вечером еду к родственникам в Нижний Новгород. Чемодан уже собрал с утра. Время ещё есть, и я рад провести его в таком замечательном месте.
— А вы раньше бывали в Нижнем, Леонид Сергеевич?
— Да вот, как-то всё не доводилось. Обычно родственники ко мне в Москву приезжают. А теперь вдруг к себе позвали. Ну, а я с удовольствием. Люблю новые места, новые впечатления. А в Нижнем Новгороде есть, на что посмотреть!
— О, безусловно! Один из древнейших городов России. Видами и архитектурой Нижнего Новгорода вдохновлялись многие живописцы.
— А вот интересно, есть ли здесь, в Музее русского импрессионизма, какое-нибудь полотно с изображением Нижнего Новгорода?
— Есть, Леонид Сергеевич! Вот, взгляните — справа от вас, в резной раме бронзового цвета.
— Пётр Петровичев. «Вид на церковь святого Иоанна Крестителя с Рождественской улицы в Нижнем Новгороде». 1919 год.
— Пётр Иванович Петровичев был одним из значимых живописцев первой половины ХХ века. Ученик Исаака Левитана, Валентина Серова и Аполлинария Васнецова. В технике импрессионизма — свободной, фактурной — он изображал лирические русские пейзажи. Особенно любил писать с натуры памятники древнего зодчества. Петровичева неспроста называли певцом русской старины.
— Маргарита Константиновна, вы сейчас для меня открыли нового удивительного художника! Я о нём раньше не слышал.
— Без Петра Ивановича Петровичева просто невозможно представить отечественную пейзажную школу. Он умел своим искусством тонко передать зрителю лирическое своеобразие русского пейзажа.
— Это вы точно сказали, Маргарита Константиновна! Смотрю на картину, и прямо ощущаю этот простор! Широкая улица, старинные здания, Волга вдалеке поблёскивает синей гладью. А на переднем плане картины, слева от зрителя — белокаменный храм с шатровой колокольней. Судя по названию полотна — это и есть церковь святого Иоанна Крестителя.
— Да, один из древнейших храмов Нижнего Новгорода. Есть версия, что это с его паперти в 1612 году, в Смутное время, нижегородский купец Кузьма Минин призывал горожан сплотиться и защитить Москву от польских захватчиков. Правда, тогда церковь была ещё деревянной. Каменный храм, который мы видим на картине, построен на его месте в 1683 году. Кстати, правильное, полное название храма — церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу.
— А, так видимо, отсюда и название улицы — Рождественская! А почему — «на торгу»?
— А вот, видите здание с колоннами? Это типичные старинные торговые ряды. Да и на первых этажах соседних домов тоже угадываются лавочки и магазины. Возле них снуёт народ. Перед нами — торг, то есть, рынок, базар. Ну, а раньше на торгу обязательно стоял храм. Чтобы люди в будничной суете не забывали о Боге.
— Вон оно что! Да, теперь заметил. Наверное, эти детали от меня ускользнули, потому что я на краски засмотрелся. Удивительные! Где-то почти прозрачные, где-то яркие. Жизнерадостный пейзаж!
— А знаете, искусствоведы давно подметили, что творчество русских живописцев, воспитанных на иконописи, как правило оптимистично по настроению.
— Петровичев учился иконописи?
— Да, художник начинал с неё. Ещё подростком он поступил в иконописную и резную школу при Ростовском музее древностей. А уже потом, в 1892 году — в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.
— Теперь понятно, почему от картины словно исходит внутренний свет! Кстати, Маргарита Константиновна, вы не знаете, сохранился ли храм Рождества святого Иоанна Предтечи до нашего времени?
— Сохранился! И выглядит сейчас практически так же, как на этом полотне Петра Ивановича Петровичева. Так что вы, когда приедете в Нижний Новгород, без труда его найдёте.
— Кстати, до отправления-то осталось всего ничего! Как незаметно время пролетело. Ещё раз спасибо вам, Маргарита Константиновна, за приглашение в Музей русского импрессионизма. И за то, что познакомили меня с замечательным художником, Петром Петровичевым.
— Ангела хранителя вам в дорогу, Леонид Сергеевич!
Все выпуски программы Свидание с шедевром
Павел Трубецкой. «Мать и дитя»

— Маргарита, посмотри какая необычная скульптура! Впрочем, не удивлена: мы ведь с тобой в московском Музее русского импрессионизма.
— Да, вижу, Оля! Работа Павла Петровича Трубецкого. Или Паоло Трубецкого, как сам он часто подписывался, потому что был наполовину итальянцем. Он жил и творил в конце 19-го — первой половине 20-го века. Скульптурная композиция называется «Мать и дитя».
— Вообще-то я думала, что импрессионизм — это стиль живописи. А тут — скульптура... Неожиданно.
— Правда, скульптурный импрессионизм — довольно редкое явление. Павел Трубецкой, пожалуй, один из немногих его представителей. Для импрессионизма характерно своеобразное видение натуры. Однако у Трубецкого оно гармонично переплетается с вполне классическими художественными приёмами.
— Я как раз на это и обратила внимание! Фигуры женщины и ребёнка — их головы, лица, руки — вроде бы выполнены в привычной реалистичной манере. Но в то же время скульптура выглядит как будто слегка незавершённой, не до конца отточенной. Кажется, на ней заметны даже вмятины от ладоней мастера, и видно, как двигались его руки. Где-то эти движения резкие, неровные. Где-то — наоборот, плавные.
— И этим контрастом скульптор создал потрясающую динамику. Тем более это поразительно, что материал композиции — не мягкая и податливая глина, а довольно непростая для такой работы бронза.
— Бронза? Никогда бы не подумала! Композиция выглядит лёгкой, воздушной. А знаешь, Маргарита, ведь эта своеобразная небрежность, незаконченность, создаёт удивительный скульптурный рельеф. Благодаря им с любого ракурса на изваянии видна игра света и тени. Кажется даже, что женщина и мальчик двигаются!
— Ты права, Ольга. Из-за необычной техники границы скульптуры как бы размываются, фигуры приобретают внутреннюю экспрессию, можно сказать — «оживают». Это свойство работ Трубецкого отмечал живописец Илья Репин. Он называл творчество Павла Петровича искренним, трогательным, а главное — жизненным. Таким и было творческое кредо самого Трубецкого: «видеть поэзию жизни во всём, что окружает».
— Скульптура лиричная, одухотворённая. А кто же они, эти «Мать и дитя»? С кого Трубецкой их лепил? Или это просто фантазия скульптора?
— Нет, Оля, не фантазия. Павел Петрович запечатлел горячо любимую супругу Элин и их единственного сына Пьера.
— Чувствуется огромная любовь, с которой скульптор создавал своё произведение!
— Да! Трубецкого неспроста называли искренним художником. Коллеги-современники утверждали: по работам Павла Петровича можно с большой долей вероятности определить его отношение к модели.
— А ещё почему-то — печаль...
— В 1908-м году, буквально через несколько месяцев после того, как скульптор начал работу над композицией «Мать и дитя», его сын Пьер заболел и скоропостижно скончался. Мальчику было всего два года...
— Творчество помогло художнику пережить горе?
— Помогло, и потом не раз ещё помогало. В 1927 году супруга Трубецкого, Элин, тяжело заболела. Скульптор нашёл лучших врачей, пробовали всё возможное, чтобы её вылечить. Однако женщина умерла. Всю оставшуюся жизнь Павел Петрович воплощал в своём творчестве образ любимой жены и сына.
— А где можно увидеть эти его скульптуры?
— Ну, например, в итальянском городе Палланца есть монумент работы Трубецкого — мемориал павшим в Первой Мировой войне. В одной из его скульптурных групп — женщине с ребёнком — просматриваются черты Элин и Пьера.
— И всё же, несмотря ни на что, от работы Трубецкого «Мать и дитя» веет светлым настроением.
— Скульптор говорил: «Как после ненастья всегда показывается солнце, так и радость всегда побеждает в жизни и творчестве». Трубецкого называли художником-оптимистом, который с детской непосредственностью умел всюду находить красоту.
— И нас с тобой, Маргарита, скульптор Павел Трубецкой сегодня научил видеть её по-особенному.
Все выпуски программы Свидание с шедевром
Неизвестный художник. «Омовение ног»

— Андрей Борисович, смотрите, это она! Картина, которую вы так хотели увидеть здесь, в Русском музее...
— «Омовение ног» кисти неизвестного художника начала 19-го века...
— Помню, что евангельский сюжет, который лежит в основе этой картины, вас как-то особенно волновал.
— Да, Маргарита Константиновна. Сюжет о том, как во время последней трапезы Христа с двенадцатью учениками Он начал умывать ноги ученикам и вытирать полотенцем, которым был препоясан. А Пётр отвечал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?.. Не умоешь ног моих вовек...»
— И тогда Иисус ответил ему, что Пётр пока этого не понимает, но поймёт позже. Фигуру Христа, омывающего ноги Петру, мы видим на картине в центре композиции. Вокруг них — другие апостолы.
— Они смотрят на происходящее взволнованно...
— И обратите внимание, Андрей Борисович, на облик Христа. Он высвечен золотистыми и светлыми оттенками. В то время как на общем фоне полотна преобладает более тёмная, охровая гамма: приглушённые оттенки бронзового и бежевого цветов. Этот контраст создаёт ощущение сокровенности и величия момента.
— Знаете, Маргарита Константиновна, я иногда размышляю над сюжетом. И мысленно дерзаю ставить себя на место ученика Христа, которому Он омыл ноги. Пытаюсь понять, как апостолы реагировали тогда, что чувствовали... Наверное то, что переворачивает душу, преображает её. Когда сам Господь являет собой пример смирения и кротости... И как сказано в Евангелии, «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу».
— И Господь здесь говорит, конечно, не о конкретных действиях учеников, а о том, как, с какими мыслями и чувствами они должны служить ближним. Не по обязанности, но из любви, как это делал Сам Христос. И поэтому можно сказать, что омовение ног — это своего рода метафора, образное выражение деятельной христианской любви к ближнему.
— И на картине эта мысль читается в изображении самого Христа — художник показал Его низко склонённым перед апостолом.
— Интересно, что этот евангельский сюжет широко распространён в иконографии, но нечасто встречается в живописи. Из западноевропейских художников, например, к ней обращался разве что венецианец Тинторетто в 16 веке, и ещё можно найти несколько гравюр на эту тему.
— И это ещё одна причина, почему мне так хотелось увидеть этот шедевр Русского музея, который сейчас перед нами. Жаль, что мы не знаем имени художника, создавшего его.
— Долгое время считалось, что картину «Омовение ног» написал Владимир Боровиковский.
— А, тот самый, что жил на рубеже 18 и 19-го веков.
— Да. Но в 1955 году искусствоведы Русского музея провели экспертизу, которая опровергла авторство Боровиковского. Эксперты определили примерное время написание работы — конец 18-го или первая четверть 19-го века. Но вот имя художника установить не удалось.
— Зато сохранилась изображённая в красках евангельская история о смирении Христа.
Все выпуски программы Свидание с шедевром













