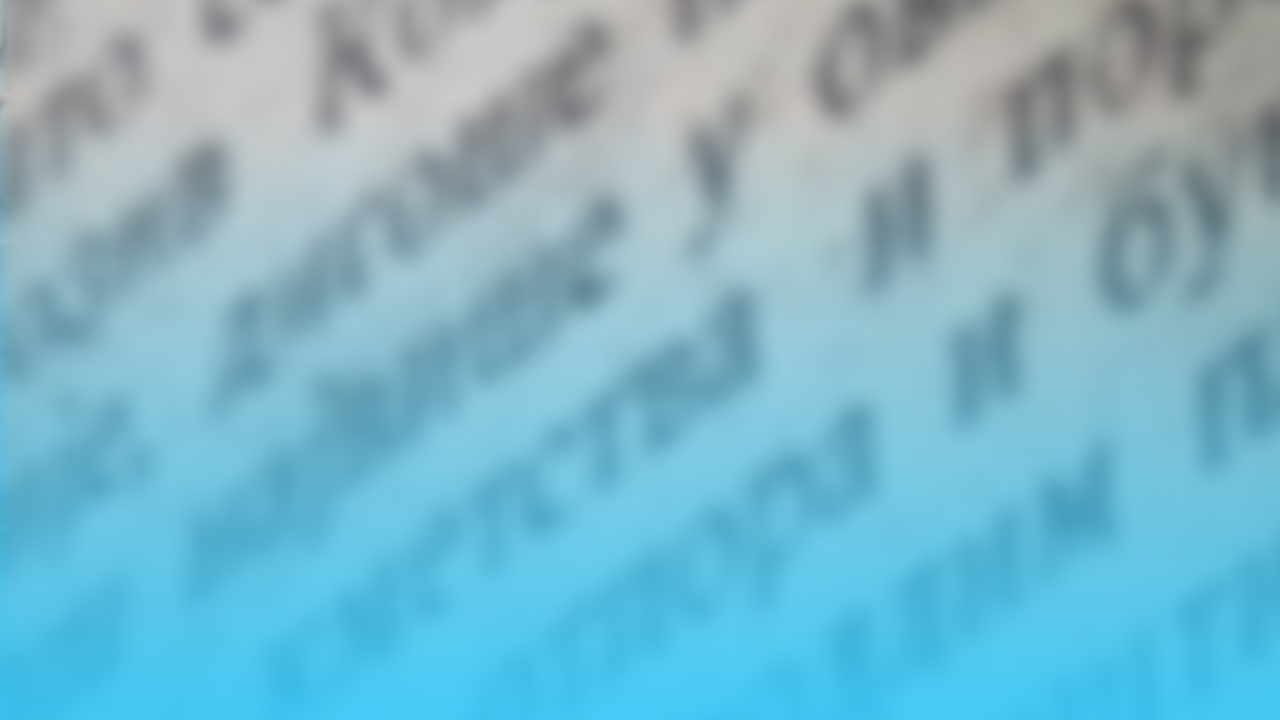
На севере Москвы есть уникальная улица. Она названа в честь вымышленного литературного героя. Это улица Павла Корчагина, персонажа повести Николая Островского «Как закалялась сталь». А еще в столице есть улица Вешних вод — звучит по-тургеневски, не правда ли? И это неслучайно. Названа она в честь повести великого писателя — «Вешние воды».
Вообще, названия улиц, или топонимы — интересное явление не только с исторический, но и языковой точки зрения. Многие слова исчезли из употребления, но сохранились в наименованиях улиц, переулков, тупиков и напоминают нам о реалиях прошлого. Вот, например, Ащеулов переулок. Он назван по фамилии домовладельца. Но каково происхождение самой фамилии? Немногие знают, что ащеулами раньше называли насмешников, шутников. Видимо, предок господина Ащеулова был скоморохом или просто весёлым человеком.
Названия улиц часто сохраняют старинное произношение: Даев переулок, Пушкарёв переулок. На современный лад мы скорее сказали бы Даевский или Пушкарёвский. Топонимы часто используют и устаревшие слова. Например, в подмосковной Кашире есть площадь Облог. Слово это теперь мало кто знает, а обозначает оно заросшую травой пашню. Вот так в топонимах живет старинная русская речь, напоминая нам о связи поколений.
Посмотрите карты российских городов — каких только названий нет: улица Соломенной Сторожки, Экваторная, Мажорный и Минорный переулки, Богатырский тупик и Английская аллея.
А в сдержанном аристократичном Петербурге, например, есть Канареечная улица. Название отражает быт петербуржцев XIX века — тогда в домах часто держали канареек. Но само название улица берет не от птицы, а от фамилии домовладельца Кинареева, созвучной птичьему имени. Так народная топонимика соединила два слова — «Кинареев» и «канарейка» — и получилась улица с солнечным названием.
Да, много языковых открытий можно сделать, просто изучая улицы своего города. Названия мест, где мы живём, отражают и то, как мы говорим, наше прошлое и настоящее.
Автор: Нина Резник
Все выпуски программы: Сила слова
Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.
Темы беседы:
— Подкаст на «Первом канале» о празднике Богоявления (Крещения Господня);
— Значение церковный праздников в современном мире;
— Заявление представителей Церквей — участников Христианского межконфессионального консультативного комитета — в связи с продолжающимися притеснениями и нарушениями прав христиан в ряде стран;
— Интерес к Христианству и, в частности, к Православию в западных странах;
— Влияние количества времени, проведенного ребенком в телефоне, на общее развитие.
Ведущие: Константин Мацан, Марина Борисова
Все выпуски программы Светлый вечер
- Светлый вечер с Владимиром Легойдой
- «А.П. Чехов — пьеса «Три сестры». Олег Скляров
- «Святые предприниматели». Протоиерей Артемий Владимиров
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Журнал от 23.01.2026». Алексей Соколов, Алена Рыпова

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.
В этот раз ведущие Алексей Пичугин и Анна Леонтьева, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и продюсер регионального вещания Радио ВЕРА Алёна Рыпова вынесли на обсуждение темы:
— Новый цикл программ на Радио ВЕРА «Вечная музыка»;
— Премьеры спектаклей «Царь и Бог» и «Лавр»;
— Новый подкаст журнала «Фома» — «Что скрыто от глаз прихожан» — об искушениях священников;
— Выставка Марка Шагала.
Все выпуски программы Журнал
Алан Гарнер «Волшебный камень Бризингамена»

Фото: Kush Kaushik / Pexels
Как мы можем противостоять дьяволу? В 1967 году Алан Гарнер написал повесть «Волшебный камень Бризингамена», в которой он размышляет на эту тему. Действие повести происходит в Англии в двадцатом веке. Маленькие Колин и Сьюзен сталкиваются с силами тьмы, которые похищают у Сьюзен доставшийся ей от матери камешек. Волщебник Каделлен рассказывает детям, что этот камень, Огнелёд, наделён могучей силой и от него зависит исход великой битвы. Какой битвы?
Некогда король победил духа тьмы, Ностронда, и тот удалился в пустыню. Ностронд задумал вернуться через много столетий. Тогда он сможет одержать победу, потому что к тому времени не останется ни одного человека, достаточно чистого душой, чтобы противостоять ему. Догадавшись о плане Ностронда, король собрал отряд рыцарей, отважных и чистых душой, и погрузил их в волшебный сон. Этот сон и оберегает камень Огнелёд, случайно попавший к Колину и Сьюзен. Теперь Ностронд украл его и постарается уничтожить. Если это произойдёт, рыцари проснутся, проживут своё время и умрут, и тогда в час его возвращения уже некому будет противостоять Ностронду.
В сюжет повести Гарнера вплетены две глубокие мысли.
Во-первых, оружие дьявола — злые мысли. «Грех начинается с помысла», — предупреждает нас святой Макарий Великий, подвижник четвертого столетия.
Во-вторых, только чистота души способна одолеть дьявола. Лишь грехом мы даём дьяволу власть над собой, говорит преподобный Паисий Афонский, святой двадцатого века.
После долгих приключений Колин и Сьюзен смогли отобрать у приспешников Ностронда волшебный камень и в целости и сохранности вернуть его Каделлену. Значит, сон рыцарей не будет нарушен, и, когда Ностронд придёт для битвы, чистые сердцем воины смогут дать ему отпор.
Все выпуски программы: ПроЧтение














