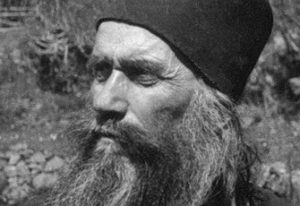Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.
Темы беседы:
— Вознесение Господне;
— Дискуссия о семейных ценностях в современном обществе;
— Государственная семейная политика и религиозная мотивация создания семьи;
— Проблемы современной языковой среды, в частности нецензурная брань;
— Изменения аудитории традиционных СМИ.
Ведущий: Константин Мацан
К. Мацан
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер.
В. Легойда
— Добрый вечер.
К. Мацан
— Поздравляю вас и всех наших слушателей с попразднством Вознесения Господня. С какими чувствами встречаете вы этот праздник?
В. Легойда
— Ну, по-прежнему с пасхальными, не произносятся фразы «с постпасхальными», хотя уже отдание Пасхи, но с радостными. Знаете, я люблю говорить, что пост — это такое объективное, но Пасха — это совсем настоящее, про подлинность бытия, а не просто существование, поэтому это присутствует в нашей жизни и не может не ощущаться, мне кажется, даже теми, кто, может быть, не очень чувствителен к таким тонким материям.
К. Мацан
— Мне при этом кажется, что выражение «постпасхальное» тоже очень православное, потому что пост, а потом Пасха, вместе постпасхальное.
В. Легойда
— Может быть и так, да.
К. Мацан
— А вот мы недавно с коллегами обсуждали такую тему, это действительно к нам на радио пришло письмо с таким неким вежливым, но упрёком от слушателей, что: почему сорок дней после Пасхи так редко на Радио ВЕРА звучит приветствие «Христос Воскресе!»? Вот как-то первые дни — да, а потом это, в принципе, чуть-чуть подуспокаивается. Ну и, может быть, есть ожидание у человека, что в пасхальный период едва ли не каждая программа на радиостанции ВЕРА будет начинаться с этого приветствия. Я в данном случае спрашиваю вашего комментария не про мнение слушателя, а про саму реальность нашей жизни. Действительно, нечасто мы друг друга вплоть до Вознесения, до отдания Пасхи продолжаем активно приветствовать словами «Христос Воскресе», или всё-таки нет, и вы такого спада не видите по жизни?
В. Легойда
— Вы знаете, я приветствую всех. Единственное, может быть, сотрудники, с которыми ты видишься несколько раз на дню, точно не всякий раз, может быть, день-через день, но в принципе как-то, мне кажется, вполне себе радостно присутствует это приветствие в жизни.
К. Мацан
— Хорошо, спасибо. Радостное на этой неделе происходит событие: всю неделю идёт организованный, в том числе радиостанцией ВЕРА Всероссийский фестиваль семьи «7Яфест», и мы много на этой неделе говорим о семейной тематике, семейных ценностях, и с вами тоже об этом бы хотелось поговорить вот в каком ключе. Я с большой преамбулы начну: когда некоторое время назад Радио ВЕРА получало премию за свою работу медийную, наш главный редактор Илья Кузьменков выступал на вручении, получая от лица радиостанции статуэтку, сказал, что сегодня многие говорят о традиционных ценностях, о семейных ценностях, мы на Радио ВЕРА об этом говорим уже десять лет, ещё до того, как это стало модным. Поэтому, если хотите узнать, о чём будет нужно говорить через десять лет, слушайте Радио ВЕРА. Ну, вот такой был ироничный заход, но, мне кажется, очень верный. Мой вопрос вот в чём: в последние годы, как представляется, тема традиционных ценностей, семейных ценностей стала, если не мейнстримом, то, как минимум, активно присутствующей в медийном поле. А вот как вам кажется, вот это её активное присутствие в медийном поле даёт ли какие-то всходы на практике? Не остаются ли слова словами? Вот что вы наблюдаете, если наблюдаете?
В. Легойда
— Ну, вы знаете, всходы, безусловно, даёт, они разные. Мне кажется, что в любом случае то, что это декларируется на государственном уровне, всё-таки в целом более положительная история. Другое дело, что, может быть, где-то не хватает какой-то глубины, думаю, вам это будет более чем понятно — вот именно философской, потому что вообще осмысление дискурса ценностей важно и необходимо, потому что не мне вам рассказывать, что в пространстве философском дискурс о ценностях довольно поздно появляется. И хотя «аксиология» — слово греческое, но в философском словаре оно, если не ошибаюсь, в XIX веке только появляется. Там французский философ Лапи́, по-моему, его ввёл. И то, чем мы привычно оперируем, это, в общем, современные конструкции. Мы можем, естественно, сказать, что у людей всегда были ценности, но вот предметом философского осмысления, а уж тем более — общественного и прочего они не становились, как-то обходились другими словами. Хотя, по сути, понятно, что вот то, что мы сегодня пытаемся где-то объяснить, в Евангелии одной фразой «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» — вот, собственно, исчерпывающая тема дискурса о ценностях. Я думаю, что в любом случае сегодня эта вещь важная, но, опять же, возвращаясь к формулировке, которую вы предложили, здесь очень важно, чтобы в этом не было никакого формализма, который, во-первых, к сожалению, присутствует, а во-вторых, который, мне кажется, что временем отторгается. Ну, с точки зрения чего-то вот такого, знаете, жизнеспособного. Мне кажется, что в любое время (ну, я в любое время не жил, я могу говорить о том, которое сегодня, насколько я его понимаю) формализм — это то, что в последнюю очередь сегодня может как-то выжить, вот. И поэтому здесь нужно пробиваться, если мы думаем всерьез о том, что пытаемся декларировать, если мы всерьез этого хотим, если мы всерьез хотим, чтобы те же семейные ценности давали настоящие реальные плоды в больших благочестивых крепких семьях, то здесь, конечно, не может быть никаких пустых слов, никакого декларирования одного и на практике совершенно другого, ну или хотя бы разрыв между этим декларируемым и тем, как ты сам себя в жизни ведешь, он должен быть минимальным, или как можно меньше. Вот это, пожалуй, то, что меня больше всего здесь заботит, в первую очередь.
К. Мацан
— А вот не получается ли так, опять же, если даже говорить: историко-культурно, историко-философски, и на сегодняшний день это экстраполировать, что вопрос о семейных ценностях, именно ценностях, как категории, уже есть маркер того, что семейная, скажем, жизнь не то, чтобы в упадке, но что есть какая-то проблема с семьей как реальностью. Вот не было же в какой-то момент выражения «семейные ценности»., люди просто жили семьями, и жили, это была нормальная, обычная, единственная возможная реальность, и не было необходимости в какие-то прошлые века человека к семейной жизни призывать. Ну, так скажем, сейчас вот наивно, упрощенно посмотрим на этот процесс. И именно когда что-то ломается, возникает, как реакция, вот дискурс о ценностях, что семья все-таки — ценность и так далее. Вот с вашей точки зрения, можно ли на это так посмотреть? И тогда следующий вопрос: здесь вот вы больше оптимист или пессимист: можем ли мы действительно рассчитывать, надеяться на какое-то значительное изменение такого мирового тренда в плане семьи, или хотя бы в России, или все-таки мы должны прилагать усилия, делать что можем, понимая, что все равно ситуация будет примерно такой же, но хотя бы что-то мы пытаемся исправить?
В. Легойда
— Сложный вопрос. Я могу попытаться порассуждать на эту тему. Ретроспективно-культурно-исторически, наверное, то, что вы предложили, можно принять как действительно такую упрощенную модель, потому что, скажем, насколько наше современное понимание семьи применимо к классической Греции, например? Думаю, что не вполне, потому что в силу специфики понимания человека, мужчины и женщины, их отношений, семья точно не была тем, чем она является сегодня. И очень многие для нас, наверное, само собой разумеющиеся вещи, они с точки зрения той же Античности, насколько мы себе ее представляем, совершенно не очевидны и как-то по-другому осмысляются, присутствуют, реализуются и так далее. И в Средние века тоже. При этом в этой данности там же был очень силен элемент того, что просто это был вопрос некоего выживания, жизни или существования. Понятно, что положение женщины исключало ее одиночное такое существование, скажем так. Собственно, это и породило в перспективе потом борьбу за права. А достижение определенных целей в этой борьбе привело к современной ситуации, когда любые социально-экономические причины, которые вынуждали нередко или были частью необходимости вступления в брак, они сегодня отсутствуют. И это не просто какое-то там культурологическое обобщение, у меня было несколько разговоров, когда совершенно серьезно молодые девушки, женщины говорили: «ну, а зачем мне вступать в брак, если все то, что я в жизни хочу, я могу получить и без всякого брака, и без обременения в виде детей. Либо даже говорили: а, собственно, и детей, если я хочу, то я могу получить, но для этого мне совершенно брак не нужен. А с учетом развития современной медицины, не обязательно, может быть, и нужен некий живой мужчина, с которым я буду общаться в любом формате». Поэтому это, конечно, серьезнейший вызов и вопрос, можем ли мы здесь переломить тенденцию, представляется чрезвычайно сложным, это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что, скажем, в некоторых сообществах, связанных с другими авраамическими религиями, удается сохранить какие-то традиционные вещи. Не хочу сравнивать, это, безусловно, удается и нам. Здесь не в качестве примера для нас, а в качестве, скорее, того, что и нам возможно, и не только нам, поэтому сказать, что это нереализуемо совсем, тоже нельзя. Вопрос, насколько реализуемо и в каких масштабах. Вот здесь я не готов сказать, потому что, вы знаете, мое отношение к любым прогнозам и предсказаниям, они в подавляющем большинстве случаев не сбываются. Я уж точно не буду пытаться что-то предположить, потому что как будет дальше жизнь складываться, как будет развиваться наше общество или любое другое, сказать сложно. Но вот те объективные вещи, которые изменились, некоторые из них я уже упомянул, конечно, заставляют переосмыслить основания семейных отношений, я думаю, что для христианина в первую очередь, потому что христианин тоже человек, в том смысле, что живет в своем культурно-историческом контексте, и если какие-то вещи, которые раньше были частью бытовой жизни, социальной, экономической, общественной, вот сегодня их нет, это значит, что наша попытка жить по-христиански, она реализуется в другом культурном пространстве. И, соответственно, здесь не всегда даже можно апеллировать к какому-то опыту, потому что ничего не повторяется, буквально уж, по крайней мере, точно. В этом и есть вызов сегодня. Я не знаю, насколько мне понятно удалось сказать, но думаю, что так.
К. Мацан
— Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я вот продолжу эту тему. Действительно, в продолжение того, что вы сказали, хочется спросить вот о чем: насколько связана семейная политика, в широком смысле слова, в государстве с наличием церковной проповеди. Почему задаю вопрос: потому что, действительно, можно, грубо говоря, обойтись человеку без семьи. Вот такая есть у человека точка зрения. Если мы посмотрим на какой-то церковный подход к семейной теме, то мы там увидим глубокое богословие семьи, семья как малая церковь, а церковь — это место спасения, значит, семья — место спасения, и получается, что без этой предпосылки, идеи и стремления к спасению многие слова о семье остаются пустыми. То есть нет, грубо говоря, такой вот религиозной мотивации, может быть, и нет мотивации к семье. Вот так я сакцентирую на этом моменте. Что вы об этом думаете?
В. Легойда
— Ну вот, видите, насколько современный язык, отражающий современные реалии, задает нам определенные рамки разговора. Мы говорим «религиозная мотивация», подразумевая, что она, наверное, не связана с какой-то там практической, еще какой-то. Это ведь тоже сознание человека нового времени, отражающего, безусловно, реалии новые, когда там религия, экономика, политика, они все автономные, самостоятельные, ну и в каком-то смысле друг в друге не нуждаются. Даже вот мое любимое (на секундочку отступлю в сторону) представление о науке, искусстве и религии как самостоятельных, не альтернативных способах познания, я все больше и больше склоняюсь к тому, что, осмысляя это, мы рассматриваем их как идеальные типы, потому что в разных эпохах они по-разному присутствуют. И вот, скажем, в каком-то Средневековье вообще ни одна сфера, сегодня автономная, ни политика, ни экономика, ни всё остальное — не имеет своего языка, как об этом точно Гуревич писал в работе «Категории средневековой культуры». Они несамостоятельные, они все обусловленные общерелигиозным контекстом. Сегодня это совершенно не так. Это я к тому, что мне все-таки кажется, что христианское осмысление — вот такое практическое, не философское, не рассмотрение христианства как одной из религий, а вот того, к чему мы стремимся, — оно должно нас немножко подвигать к переосмыслению немного другому этой проблемы. Я имею в виду, скажем, Священное Писание, в котором сказано: «нехорошо человеку быть одному». То есть вот эта необходимость, важность, естественность семьи, как союза мужчины и женщины — это не религиозная мотивация. Это, согласно библейской антропологии, части человеческой природы сотворенной, замыслу Творца, реализуемого человечеством: «нехорошо человеку быть одному». И в христианской перспективе мы можем говорить только, наверное, об одном исключении, таком системном — о монашестве, как о выборе вот этого одиночества. То есть быть одному, «монос», один монах, ради Христа. Вот исключительно и только. Все остальное — «нехорошо человеку быть одному». Это сказано не для Адама и его будущей жены, это сказано нам всем. Это основание можно назвать религиозным, но повторяю, это библейское основание, которое предполагает, что человек так устроен, ему так Богом определено жить. Поэтому я думаю, что корни понимания нашего христианского, они в этом находятся. А дальше мы можем сюда добавить все современное понимание, реализацию, что угодно. Что касается государственной политики, то она, конечно, направлена на пользу человека, она, по крайней мере, декларирует человекоцентричность в современном мире, но все-таки она связана с существованием общности народа, государства, и здесь ключевым становится вопрос демографический, который, скорее, такое культурно-цивилизационное имеет измерение, чем, собственно, богословское, наверное, так аккуратно скажу. Ну вот как-то так. Здесь я остановился бы пока.
К. Мацан
— Но я все-таки неслучайно спрашивал в том числе и о церковной проповеди. Мне очень понятно и очень близко то, что вы говорите, и я употребил сам выражение «религиозная мотивация», в нем содержится представление о цели, что вот мы к какой-то цели идем, и у нас есть мотивация к этой цели идти, и тогда для нас семья становится, если угодно, средством в самом высоком смысле слова — средством спасения, но все же средством. А вы, как мне представляется, предлагаете посмотреть на это с точки зрения не цели, а какого-то безусловного основания, в силу немыслимости противоположного нужна семья, так она задумана Богом, и не нам это выбирать или не выбирать, так есть, раз так сказано, Богом, это нужно просто принять. Но принять это можно только верой и примет это тот, для кого Священное Писание — авторитет. И вот тут, получается, мы снова приходим...
В. Легойда
— Да-да, вы абсолютно правы, но это не отменяет, как мне кажется, того, что я сказал, что просто здесь нужно как-то перейти с одного языка на другой, потому что в логике современной жизни мы говорим: «ну, это религиозная мотивация, я человек нерелигиозный, значит, для меня это не работает». Но дело в том, что с точки зрения, опять же, вот этой христианской перспективы в нашем понимании это ведь не один из вариантов, это то, как человек устроен. Если человек от этого ушел, то он, собственно, нежизнеспособен. Есть замысел Творца, есть творение, есть природа человеческая, которая предполагает такое. А когда мы говорим, что это религиозная мотивация, мы здесь сразу отделяем: а есть проза жизни, еще чего-нибудь. И как только мы на этот язык перешли, сразу вспоминаются вот эти мои собеседницы, которые говорят: «ну, а мне зачем замуж? Мне, собственно, никаких причин особых нет. Я могу и без семьи достичь, реализовать все, чего мне хочется». Поэтому, может быть, даже человеку нерелигиозному можно сказать, что давай на это посмотрим иначе, а всего ли ты можешь достичь? Становится ли человек (боюсь опускаться до дискурса личностного роста), но возможен ли он вне вот этой реализации, собственно, того, что может быть реализовано человеком, и каким образом?
К. Мацан
— Я последний вопрос на эту тему задам. Я слышал такое выражение от одного собеседника: «семья — это пространство непридуманного христианства». В том смысле, что мы иногда живем в каком-то очень удобном христианстве, придуманном, а вот тут, в семье всё — и трудности, и радости, и утешения, и скорби, и всё вместе, вот такая реальная жизнь. Вы бы с этим согласились?
В. Легойда
— Ну, вы знаете, это красивый афоризм, но ценность афоризма не в том, что он исчерпывающе рассказывает нам о том, как всё устроено, а именно тут есть некое сочетание. Афоризм — это такое высказывание, которое «работает», что называется, говоря языком молодых сегодня, когда в нём есть смысловое, речевое и эстетическое, может быть, даже в каком-то смысле соединяются. Потому что фраза красивая и понятна, она совершенно осмысленная, но точно так же можно сказать, что вообще жизнь — это пространство непридуманного христианства. А разве это не так на работе? Разве это не так с незнакомыми людьми на улице? А разве евангельская притча о добром самаритянине, она не про реальное христианство, но там про семью ничего не сказано? Поэтому, мне кажется, если мы скажем, что только семья про реальное, непридуманное христианство... Ну, то есть понятно, что имеется в виду: что это не красивые глаза, а вот ситуация, когда тебе хочется встать и послушать какие-нибудь песнопения или прочитать молитву, но тебе уставшая жена говорит: «вынеси мусор» — надо встать и пойти вынести мусор. Наверное, в том числе и об этом, ну и много других. Но точно такие же ситуации случаются и в любом другом жизненном пространстве, поэтому я бы сказал так, что этот афоризм, он настолько же верен, насколько недостаточен, то есть можно его продолжить на многие другие сферы жизни и ситуации. Конечно, семья — это пространство сконцентрированных человеческих отношений, где вот это непридуманное христианство в первую очередь должно проявляться и где сложнее всего ему проявляться по целому ряду причин, начиная от, опять же, евангельского «враги человеку домашние его» и того, что «нет пророка без чести, кроме как в своем отечестве», что нередко к семейной теме прилагается, особенно в отношениях с детьми, и не только. Но при этом понятно, почему: потому что это все-таки самое частое общение. Вот это непридуманное христианство, оно возникает обычно там, где люди больше всего друг с другом общаются, потому что там все наши слабости, все наши страсти, они-то и проявляются в первую очередь. Когда ты с человеком раз в году видишься, пару раз созваниваешься или переписываешься раз в месяц, конечно, там легко быть добрым, классным, замечательным, заботливым и прочее.
К. Мацан
— Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
К. Мацан
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается, у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда по пятницам, в этом часе Светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома, профессор МГИМО, член Общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор и к еще одной теме, тоже связанной, наверное, и с семейной историей, и с историей про воспитание, и про медиа. Вы недавно делились у себя в телеграм-канале вашими ответами на вопросы об искусственном интеллекте, языке, кибербезопасности, всех этих сегодня волнующих нас вещах, и вам эти вопросы задавали, вы на них отвечали, это прекрасные карточки. Один из вопросов был связан с языком, на котором мы говорим, и вы, отвечая на этот вопрос, упомянули, что проблема англицизмов, допустим, в языке, она есть, но она не самая острая, а вот проблема нецензурной лексики стоит намного острее, очень остро, она фактически растабуирована в общественном пространстве, ну и мы, вообще люди, и родители особенно, можем себе представить, в какую языковую среду могут погрузиться дети, просто открыв интернет. А вот что делать? Есть ли какие-то, как вам кажется, хотя бы подступы к практическому решению проблемы засилья нецензурной лексики?
В. Легойда
— Конечно, есть. Мы с вами не раз говорили о том, что культура, помимо прочего, это система табу, это система ограничения, красных флажков. Я вот недавно был на одном таком закрытом мероприятии, закрытом в том смысле, что просто там пригласили группу людей, приятных друг другу, поговорить о проблемах современного искусства, была небольшая выставка, посмотрели и потом, так сказать, пофилософствовали. Мы говорили о том, почему, скажем, картина какая-то, написанная в 1999 году, в 2025-м воспринимается иначе. И даже тот вызов, который там есть (не хочу сейчас саму картину вспоминать по разным причинам), но почему он в 25-м году выглядит совершенно иначе. И говорили о контексте культурном, и вот один из собеседников сказал, что частью этого контекста является то, что просто меняются какие-то установки, и по его мнению (сейчас не так важно, насколько это соответствует действительности, согласны мы с этим или нет), он сказал, что вот в то время, когда эта картина писалась, допустим, большинство родителей считали, что детей нужно воспитывать в свободе и ставили красные флажки в одном месте, а сегодня они считают, что детей надо воспитывать в послушании, и эти флажки передвинулись. В данном случае важно само замечание о том, что они подвижные, вот эти самые флажки, это означает, что мы можем их подвинуть. И тут я хочу вспомнить историю, которую я в наших с вами беседах не раз вспоминал, это рассказ Юрия Анатольевича Шичалина в программе «Парсуна», когда он, говоря о семье, о детстве своем сказал, что в совсем таком еще юном возрасте, то ли пяти, то ли шести лет, он прибежал к маме и сказал: «Мама, я знаю все плохие слова!» На что мама ему сказала: «Я их тоже знаю, и папа их тоже знает, но у нас так не принято». Вот, собственно, это был такой первый культурологический урок маленького Юрия Анатольевича, или, если хотите, введение в дискурс о ценностях: вот так у нас принято, а так у нас не принято. Поэтому, отвечая на вопрос, что нам делать, как нам поступаться: нам нужно передвинуть вот эти самые флажки, обозначить, где у нас принято, а где не принято. И, вы знаете, я вам хочу сказать, что я, в том числе и наблюдая за своими студентами, вижу, что это вполне передвигаемо. Это, конечно, еще больше ответственность налагает, не нужно здесь много на себя брать, оно не то, чтобы легко передвигаемо, но я просто недавно проводил одну такую деловую игру как раз по теме, связанной присутствием каких-то традиционных сюжетов в культуре, и увидел, что, скажем, мои первокурсники вполне себе сильно очень отличаются от своих сверстников 10-летней давности. То есть мы даже за 10 лет что-то там передвинули вполне.
К. Мацан
— Отличаются в какую сторону, в каком смысле?
В. Легойда
— Более традиционно. Вот то, что мы называем традиционным, у них взгляды более традиционные. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности, просто это совсем другой сюжет и может быть путаница. Но я к тому, что не нужно бояться и не нужно думать, что это невозможно, и нужно сказать, что вот это принято, а это не принято. Ведь до этого мы сдвинули в другую сторону. Мы действительно, как мне кажется, я здесь не погрешил против истины, сказав, что мы растабуировали присутствие нецензурной лексики в общественном, в медийном пространстве. Это, скорее, знаете, со смешком таким. Это вот как тема с алкоголем, когда у нас ха-ха-хи-хи, вот он там напился... Ну, конечно, есть такие нелепые комические ситуации и понятно, что из песни слов не выбросишь, но если всерьез посмотреть на масштабы бедствия, в данном случае я аналоги, которые провожу, то лучше над этой темой не смеяться, темой пьянства, алкоголизма и прочего, а как-то к ней подойти всерьез и, может быть, без вырубки виноградников и прочего, но все-таки какие-то табу вполне себе определенные ввести, и в том числе на присутствие этого в культуре. Я, кстати, не уверен, что закрашивание бутылок в кино такой уж действенный метод, но есть вещи, которые вполне могут работать. Так вот, возвращаясь к нецензурной брани, я думаю, что вполне возможно, реализуемо при определенных усилиях и совершенно необязательно репрессивных, но этим надо просто заниматься, безусловно. Просто, в отличие от языка, который есть система самоорганизующаяся... Посмотрите, тот же молодежный сленг: поколение отцов всегда поражается сленгом поколения детей. Я недавно видел какое-то видео, где 10, 12 и 13-летних подростков родители спрашивают, что, по их мнению, означают те слова, которые использовали их родители, вот эти самые родители в нынешнем возрасте своих детей. Там было слово было «капуста», которое в нашем детстве означало «деньги», а дети сказали, что это вот человек, одетый во множество одежд. То есть язык очень быстро в этом меняется, и когда говорят «ой, какой ужас!..» — да через десять лет никто этот ужас не вспомнит, весь этот «кринж», «краш» и прочее уйдет так же, как и пришел. Так же, как быстро пришли и быстро ушли квадроберы. Обратили внимание, что они исчезли? Их нет просто.
К. Мацан
— И «кринж» уже ушел.
В. Легойда
— Да. Ни квадроберов, ни темы нет, ничего нет. Это как, я помню, в каком-то из романов Юлиана Семенова, кажется, это было: смотрел какую-то картину молодой герой и говорит своему отцу или там старшему товарищу: «сделано железно». Тот говорит: «Интересное слово «железно», в наше время говорили «клёво». Я вот это запомнил. Поэтому, когда моя дочка сегодня говорит, что что-то сделано «жёстко» или «люто», мне это, конечно, дико не нравится, но я понимаю, что точно так же ей не будут нравится слова, которые будут использовать ее дети, и никакого «жёсткого» и «лютого» уже не будет, а может быть, и раньше исчезнет. А вот в ситуации с лексикой бранной, мне кажется, тут нужно более активно действовать, в том числе и потому, мне кажется, с христианской точки зрения, не хочу сейчас к каким-то корням, даже богохульным, о которых, в общем, во-многом справедливо говорят, если смотреть, как это возникало, но даже, допустим, это сейчас не всеми осознается или сознательно используется. Но, смотрите, ведь не случайно эта лексика среди прочих наименований имеет наименование «бранная», то есть мы с использованием этих слов бранимся, ругаемся. Но Евангелие вполне однозначно говорит нам по поводу этой самой ругани, оно говорит нам о том, что «тот, кто скажет человеку рака (то есть пустой человек или, как иногда говорят «дурак», такой один из эквивалентов), он, в общем, ничего хорошего не делает. Евангелие чётко нам говорит, что вот эта самая ругань — эта брань такого рода, она христианам не показана, поэтому, мне кажется, тут есть над чем задуматься.
К. Мацан
— Вот то, что вы сказали про ваших студентов, это очень интересно, что, по вашим наблюдениям, за десять лет как-то ценностный спектр их сместился в сторону большего консерватизма или, как минимум, больше какой-то лояльности традиционным ценностям. А вот, если не секрет, в чём вы это фиксируете, на чём вы это выявили?
В. Легойда
— Вы знаете, тут я должен оговориться, что это, конечно, не ощущения, про которые я люблю повторять, что это категория ненаучная и оперировать ощущениями нельзя, но просто вот у меня есть некая, пусть маленькая, но стабильная социология. Как вы прекрасно знаете, помимо прочих дисциплин, у меня есть дисциплина мастер-класс, то есть это работа с первокурсниками в практической журналистике, занятия практической журналистикой в маленькой группе до восьми человек, на протяжении двадцати, как минимум, лет. И поскольку понятно, что какие-то темы, сюжеты, приёмы, жанры, отрабатываемые нами, повторяются, несмотря на стремительные изменения медийного пространства, я в том числе могу наблюдать за какими-то оценками, которые в жизни ребят присутствуют, и это связано с отношением к Церкви даже в том числе, то есть понятно, всегда можно сказать, что это случайно такая группа попалась, как сейчас, кстати, тоже модное слово: «рандомно», но, с другой стороны, почему-то раньше не попадались такие дети, а сейчас попадаются. То есть я понимаю прекрасно, что среди наших студентов есть ребята, которые выросли в православных семьях уже, вот они первокурсники, им там 17-18 лет, и они выросли в православных семьях, они вполне себе в этом пространстве ориентируются, и у них есть соответствующее отношение к жизни. Скажем, мы играли, вы знаете прекрасно, у меня есть один из инструментов — это деловая игра, пресс-конференция, и вот я ребятам дал деловую игру «пресс-конференцию», предложил первокурсникам сюжет, что в наших школах крайне настоятельно рекомендуется заменить Хэллоуин и прочие вещи на какие-то более привычные нам празднования. Ну там многие мы приемы отрабатывали, специальная ситуация разыгрывалась, но вот среди тех, кто играл, потом мы когда обсуждали, я же не знал, вот ребята согласны с этим, не согласны, ну и, помимо прочего, мне тоже было интересно, и девчонки вполне себе говорили, что вообще это ерунда и им этот Хэллоуин противен глубоко, «и вообще вот эту позицию, которую мне пришлось отстаивать, — говорила девочка, — я ее полностью разделяю», то есть никакого там кринжа, и надо наоборот, не было и какой-то моды, увлечения этим я не заметил. Я понимаю, что на одном примере нельзя основываться, но он не один, вот в чем дело, я не могу не видеть определенной тенденции, конечно.
К. Мацан
— Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО и заведующий кафедрой медиакоммуникаций МГИМО, отмечу сейчас отдельно специально, потому что именно к этому хочу задать вопрос. Вы преподаете журналистам, у меня в этом семестре тоже была возможность поработать со студентами философского факультета с отделения рекламной связи с общественностью, мы занимались тоже основами журналистики, и я спросил ребят, которые на тот момент были в зале, откуда вообще они черпают новости. И все черпают новости из телеграм-каналов, если черпают, кто-то сказал, что «я новостей вообще не читаю». И неудивительно, что, когда я спросил, какие телеграм-каналы они читают, примерно у 15 человек, которые были в тот момент ни один не совпал, все читают своё. Это в чём-то близко к тому примеру, который вы приводили, и я его пересказываю часто теперь, когда 500 школьников опросили на предмет любимого блогера, и оказалось, что у 500 школьников 409 любимых блогеров. В этой связи у меня два вопроса: а что в этом смысле должно происходить или происходит с большими традиционными медиа — телеканалами, газетами, которые, как кажется, не имеют аудитории среди молодых людей? Это первый вопрос. А второй вопрос: как вы всё же оцениваете вот такую победную нишевизацию, потому что каждый читает свой ресурс и возможно ли тогда какое-то общее медийное поле?
В. Легойда
— Важнейшие, конечно, вопросы. Вот на сегодняшний день, как я это вижу, что происходит с большими медиа: их аудитория, которую они привыкли получать традиционным путём (ну, например, эфирное телевидение), она сокращается неизбежно и, видимо, продолжит сокращаться. Вместе с тем никакое телевидение не умирает, оно осваивает новые форматы, как любое традиционное СМИ. Мы говорим по привычке журнал «Фома», но понятно, что аудитория печатного журнала «Фома» — это маленькая доля сегодняшней аудитории того, что делает «Фома» в самых разных видах, формах: видео, аудио, интернет, письменный и прочее. Точно так же и с телевидением: вот у меня есть, например, возможность участвовать в эфирной сетке Первого канала, в ночной, правда, её истории, это вот «Подкаст.Лаб», и меня немножко удивляет, когда некоторые люди до сих пор жалуются, говорят: «Ой, почему же так поздно показывают». А что тебе мешает посмотреть это в любое удобное для тебя время на следующий день? Никакой сверхактуальности в недавно вышедшем у нас в подкасте, по-моему, в замечательном разговоре на тему «Мой Достоевский» с Татьяной Александровной Касаткиной и Вадимом Владимировичем Полонским нет, а глубина и интерес есть, ну не хочешь ты в час ночи смотреть — и не смотри, посмотри в любое другое время на следующий день, причём на любой платформе, или на большинстве доступных сегодня платформ. Поэтому традиционные медиа все эти площадки осваивают, они никуда не деваются, не умирают. Другое дело, что это не эфирное вещание, а это вещание, когда кому-то нравится программа «Давай поженимся», вот он её смотрит, опять же, в удобное для него время, скачав, записав в онлайне и прочее. И тут, главное, я перехожу к вашему второму вопросу: что нас ждёт? Нас ждёт вот эта капсулизация продолжающаяся, когда медиамир вообще у каждого будет свой, и это и есть единое пространство медиа сегодня. Вот раньше оно состояло из этих самых мейджоров, в первую очередь, которые вещали на сотни миллионов людей, и эти сотни миллионов людей были одномоментно аудиторией этих медиа. Сегодня эта же аудитория сохранилась, но просто структура вот этого большого медийного пространства стала другой. Теперь каждый человек конструирует себе свой медиамир. Не источник определяет, что вы будете смотреть и когда, а потребитель. Но источники остались, и они могут набрать аудиторию, может быть, и не меньше, но просто не так, как раньше. Раньше у человека выбор какой был? Вот условно, сейчас говорю, есть там 24-часовое, ну или 12-часовое вещание, вот я могу смотреть в это время сериал или новости. А сейчас ты можешь все посмотреть тогда, когда тебе удобно, и то, что тебе удобно, при этом не очень, конечно, обращая внимание даже, может быть, на то, как это все называется, и что это за канал, если мы о телевидении говорим. Ну, а канал-то чего? И еще один нюанс — это, конечно, люди. У меня недавно (простите за невольную рекламу) вышла «Парсуна» с замечательным, по-моему, интересным очень финансовым аналитиком Антоновым Алексеем Юрьевичем, и понятно, что и для его аудитории профессиональной, которая его читает, и там я посмотрел какие-то отзывы, было совершенно неожиданным его появление на «Спасе», в тематике, может быть, менее неожиданным, потому что он о православии в своем телеграм-канале писал, но для «Спаса» это был такой приток, конечно, аудитории, которая в принципе «Спас» не смотрит, и о программе «Парсуна» узнала из-за того, что есть Антонов. Значит ли это, что они все станут смотреть программу «Парсуна»? Нет, не значит, потому что они смотрят Антонова. И на какой бы платформе он ни появился, это могло быть НТВ, все что угодно, они бы тоже его посмотрели, и совершенно необязательно потом сохранят для себя ту передачу, в которой он появился, или тот канал. Сегодня, вот это единое медиапространство позволяет выбирать или следить за теми, кто тебе интересен, где бы они ни появлялись и, в общем, не очень, может быть, обращать внимание на платформы. Ну вот как-то так, мне кажется. Тут, конечно, еще две важнейшие составляющие этого, ну или, точнее, одна, которая распадается на очень многие: это присутствие в медиаполе того, что мы не очень удачно назвали, но уже назвали, долго не думали — «искусственным интеллектом», и он, конечно, будет во многом определять медиаполе. Вот на днях общался со своим близким другом, и мы как раз обсуждали, поскольку кафедра, вот вы упомянули, медиакоммуникаций, и я ему говорил, что мы думаем над новыми магистерскими программами, и вот я сейчас усиленно думаю над тем, что бы могло быть на нашей кафедре, какую мы можем предложить магистерскую программу в связи с присутствием искусственного интеллекта в медиаполе. И здесь много интересного, но и сложного, потому что все-таки образование — подготовка к завтрашнему дню, а тут стремительность такая, что всегда есть риск готовить ко вчерашнему. Но думаем, я надеюсь, что придумаем что-нибудь обязательно.
К. Мацан
— Спасибо большое, но под занавес нашего разговора упомяну, что я также спрашивал своих студентов, когда мы с ними говорили о теме интервью, каких блогеров или интервьюеров они знают вообще и смотрят, и если исключить таких совсем нишевых, что называется, для клуба по интересам, то назвали несколько имен и среди них назвали Владимира Легойду.
В. Легойда
— Приятно.
К. Мацан
— Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
В. Легойда
— Спасибо.
Все выпуски программы Светлый вечер
- «Святитель Иоанн Шанхайский». Глеб Елисеев
- «Путь иконописца». Александр Чашкин
- «27-е воскресенье по Пятидесятнице». Священник Николай Конюхов
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.
Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.
О его подвиге — священник Стахий Колотвин.
Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.
Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.
И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.
И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.
Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.
Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.
Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.
Все выпуски программы Актуальная тема