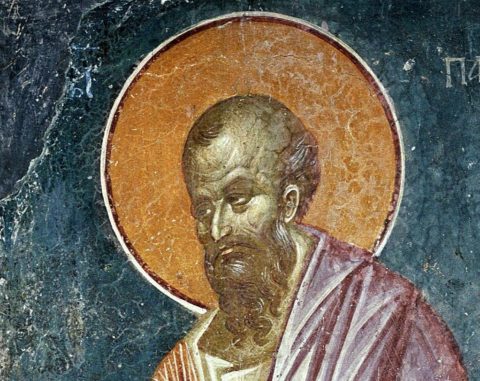Телеканал Спас; Легойда Владимир
Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.
Темы беседы:
— Важность формирования и появления национальных идей;
— Кумиры и интересы современных молодых людей;
— Передача смыслов от поколения к поколению;
— Культура и смыслы;
— Массовая и элитная культура — особенности формирования.
Ведущие: Константин Мацан, Марина Борисова
К. Мацан
— Здравствуйте, уважаемые друзья! В студии у микрофона моя коллега Марина Борисова...
М. Борисова
— И Константин Мацан.
К. Мацан
— Добрый вечер. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
В. Легойда
— Добрый вечер.
М. Борисова
— Я хотела, конечно, иначе начать сегодняшний разговор.
К. Мацан
— Как? Мы всегда так его начинаем.
М. Борисова
— Нет, от этого, конечно, никуда не денешься. Я просто хотела вначале сказать что-нибудь такое возвышенное, поэтическое, соответствующее настрою Успенского поста... Но нет, я начну с претензий. Владимир Романович, я посмотрела ваше интервью в программе «Metametrika», которое размещено на сайте «Фомы», и я вам скажу, что вы меня повергли в состояние жесточайшей фрустрации прямо сходу, потому что разговор зашел о гибели или не гибели культуры, и вы привели пример — разговоры с каким-то вашим студентом, который, когда речь зашла о «Троице» Рублева, ничтоже сумняшеся, сказал, что Рублев — это футболист...
В. Легойда
— Теннисист.
М. Борисова
— А, теннисист. Ну, вот видите, какая разница? Для меня никакой. И после этого я впала в эту фрустрацию, потому что подумала: а зачем мы ведем эти передачи? Если нас слушают люди, для которых Рублев — это теннисист, наша работа теряет всяческий смысл. Вот помогите мне вернуть чувство собственного профессионального достоинства.
В. Легойда
— Начнем с того, что вам к другому специалисту, если все-таки мы говорим о чувстве фрустрации. (смеются) Но если серьезно, мы даже, по-моему, обсуждали этот пример, потому что он настолько меня самого поразил, что я часто его привожу, и, если позволите, я все-таки расскажу, когда он первый раз прозвучал, потому что, мне кажется, это важно. Я был в эфире радио, не нашего любимого, но тоже очень неплохого, и разговор как раз начался со стороны коллеги-ведущего с того, что «общество расколото в связи с передачей иконы „Троицы“ Церкви, и все только это обсуждают» и так далее, если я утрирую тут, то самую малость. И я тогда ответил, сказав, что общество расколото только в некоторой части медийного пространства, и сама постановка вопроса о том, что — «вот какой ужас — Церкви вернули икону», она, если вдуматься, звучит дико, а подлинным ударом для культуры является... И дальше я привёл этот пример, что вот я на днях общался с юношей студенческого возраста, с вашего позволения, без уточнения высшего учебного заведения, поскольку думаю, что такие есть во многих, к сожалению, немного, я надеюсь, таких студентов, но они есть в разных учебных заведениях, и он просто не то что не знал ничего про ситуацию с «Троицей», он не знал, что такое «Троица», кто такой Андрей Рублёв, помимо теннисиста, и я просто тогда, по-моему, в этом интервью говорил, что целый пласт культуры, всё то, что сконцентрировано в конечном итоге в очень известной, как я всегда думал, по крайней мере, фразе Флоренского, что «если есть „Троица“ Рублёва, значит, есть Бог», это всё, все эти наши разговоры (это я пока подтверждаю, как-то продолжаю вас сохранять в чувстве фрустрации), они для какой-то части наших людей сегодня это просто разговоры на странном языке, потому что они совершенно непонятны. Но я думаю, что это точно не ставит вопрос о смысле того, чем мы здесь занимаемся, напротив, этот смысл только делает ещё более, если можно так выразиться, важным и необходимым сегодня, потому что, во-первых, когда мы называем какую-то проблему, мы её уже, как принято говорить, наполовину решили, но, как минимум, мы должны понимать, осознать и, наверное, согласиться с тем, что вот это является проблемой культуры и для нас это действительно так, потому что тут у меня просто контекст нашего сегодняшнего разговора связан с двумя предыдущими, которые у меня сегодня были, а у меня было два очень интересных собеседника, неформальные это были дружеские встречи, и как-то так сложилось, что оба эти разговора вели о том, что наша страна, наш народ, наша культура не может жить без какой-то очень большой цели, и она должна быть и масштабной, и великой, и, кстати, сказать вот этот вопрос последних десятилетий: а какова же у нас там национальная идея, идеология, как угодно можно это называть, он тоже упирается в это, что это национальная идея, идеология, она должна... Знаете, вот как мой первый собеседник сегодняшний говорил о том, что (простите, сейчас боюсь другую тему идти, но вы меня откорректируйте, я как человек безответственный в данном случае, не ведущий, могу себе позволить) он говорил, что вот почему большевики в своё время, почему им многое удалось — потому что они сформулировали вот эту идею, они сказали: «а чего, а давайте мы царство Божие на земле построим». И это понятно, что не в чистом виде голой идеи это сработало, но много всего. И вот дальше он сказал, что для советского времени последней такой идеей была попытка, когда стало понятно, что Царство Божие на земле не получается, когда вот, как говорил один мой профессор на прямой вопрос студентов, слушателей научного коммунизма: «А когда же наступит-то коммунизм?» Умный профессор говорил: «Это потом». Когда вот это «потом» перестало устраивать, тогда последняя, вот уже на излёте, так сказать, крепкой идеологии была идея космоса — не получилось на земле, а давайте мы в космосе. И вот космическая идея, она была тоже идея, которая собирала народ, она вдохновляла, это было очень живое, потому что всё, условно говоря, потуги 70-х годов и того вот времени, там БАМ, ну что БАМ, ну нас магистралями не удивишь никого и прочее, вот сомасштабных идей не было. Ну, это интересные такие, наверное, длинные разговоры, не сколько сложные, сколько длинные, но возвращаюсь к тому, что вот мне кажется, вот эта идея чрезвычайно важна. И вот я теперь возвращаюсь к вопросу: мне кажется, что без, в том числе и того, что мы здесь делаем, вот осознание этого всего, а может быть, даже, так дерзко скажу, и формирование, появление каких-то идей, оно невозможно, потому что, как когда-то сказал другой мой преподаватель, когда мы впервые оказались со студентами-аспирантами МГИМО в Троице-Сергиевой лавре в Академии, он сказал: «Я не знаю, где совершается большая политика...», кто-то там говорил до этого о большой политике, «... но большая история, вот она совершается на таких встречах, как здесь, когда после десятилетий невозможного встречаются студенты духовных школ и самого идеологического вуза когда-то там, вуза страны». Вот мне кажется, что здесь, конечно, не надо переоценивать, понятно, что мы там одним эфиром или сотнями эфиров не поменяем ситуацию, но даже не потому, что капля камень точит, а потому что слишком много в этом эфире было и остаётся, к сожалению, того, что не имеет никакого отношения к тому, что принято называть смыслом, вот никакого. Я думаю, что (уж простите, так сказать, апология радио «Вера») я думаю, что ценность того, что происходит в этой студии с утра до вечера, она заключается не только в том, что это светлое радио, что это разговор о важном, о помощи, о добре, любви и надежде, но потому что всё это связано с тем, что мы называем подлинными смыслами, и этого очень мало, и последние десятилетия это как-то вроде как считалось, что без этого можно жить. И, кстати сказать, поэтому ввиду, — как сказал мой первый сегодняшний собеседник, на мой взгляд, очень точно — ввиду отсутствия вот этой идеи, мы бросились все в тему потребления, которая к нам пришла и которая охотно была воспринята широкими массами, скажем так.
М. Борисова
— Мне кажется, что это, конечно, всё очень здорово звучит...
В. Легойда
— Но фрустрация не проходит! (смеется)
М. Борисова
— Нет, не проходит совсем, потому что в той же передаче, на которую я вначале ссылалась, вы говорили о том, что вот разрыв понимания каких-то культурных кодов доходит до того, что молодые люди одного поколения, любящие разных музыкантов, вот какие-то современные направления, не могут об этом поговорить, потому что один не знает кумира другого.
В. Легойда
— Немножко не так. Я, с вашего позволения, всё-таки уточню, что я говорил, что имелось в виду, мы, по-моему, здесь тоже этой темой так или иначе касались: наверное, в широком смысле слова это связано с пространством культуры, повторяю, в широком смысле, но я имел в виду то, что современное информационное поле настолько разнообразно, что мы имеем ситуацию не только привычного нам поколенческого разрыва, когда у поколений разные кумиры, и когда поколения могут не знать или почти ничего не знать о кумирах друг друга, а когда мы имеем представителей одного поколения, и даже, я говорил,: людей, сидящих в одном классе средней школы, у которых есть любимые блогеры (справедливости ради я не о музыкантах говорил, хотя, наверное, это тоже возможно) какие-то, которых они любят, смотрят, слушают и так далее, но одноклассники могут не знать о существовании любимых блогеров друг друга. Более того, это не гипотеза моя, а это вот, я, по-моему, пример, об этом случае рассказывал: у меня есть задание такое на первом курсе в рамках мастер-класса, который я преподаю журналистского, что когда мы доходим до темы интервью, я прошу ребят выбрать себе любимого ими интервьюера, ну, единственное, чтобы они не совпадали, что у каждого свой, и моя задача договориться с интервьюером о встрече со студентом, а студент, студентка у этого интервьюера возьмет интервью про интервью, учебное интервью про интервью, это такая давняя история, я больше десяти лет точно это практикую. В какой-то момент я перестал угадывать, кого выберут, а вот последние годы, вот в этом году просто это совершенно такая живая ситуация недавняя, когда у меня шесть студентов, вот они выбрали шесть интервьюеров, ну, кого-то мы отсекли, я сказал, что эти были в прошлом году, мне хотелось бы новые, то есть там были, конечно, некие входящие условия, но тем не менее, и что они не должны совпадать, иначе, может быть, там выбрали бы одного и того же кто-то. Ну, вот шесть человек, шесть людей, которые берут интервью и которые пользуются каким-то, видимо, если не авторитетом, то какой-то известностью обладают. Так вот, не только я не знал некоторых, ну вот четверых — я вообще не слышал о таких, или слышал там, одна совершенно точно, но и ребята не знали, вот вся группа не знала, одна девочка выбрала какую-то тоже, простите, девочку, которая там берет интервью у кого-то, как раз, по-моему, о музыке или что-то в этом роде, но вся остальная группа, то есть остальные пять студентов, ее ровесников, не знали о существовании такого интервьюера. И я, кстати, не говорил об этом, как о характеристике такого вот... Ну, мы же там о смерти культуры вот коллега начинал разговор, а я говорил об этом, как об особенности инфополя, то есть само по себе, наверное, как минимум это некая данность, вот об этом я говорил.
К. Мацан
— Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот у меня на радио «Вера» недавно была беседа с одним священником, который к похожей теме подходил с другой стороны, он говорил, что, вот если посмотреть как раз на примере музыкантов, у молодых людей нет (он работает с подростками) нет одного кумира. Вот раньше ты был битломаном, и это тебя определяло всего, стиль одежды и так далее, или ты слушал панк, вот это такая твоя, в каком-то музыкальном смысле предельная идентичность, вокруг неё выстраивались там интересы и так далее. А сейчас спрашиваешь подростка: «Какая музыка тебе нравится?» Он показывает трек на телефоне, говорит: «Вот эта песня мне нравится» — «А кто поёт?» — «Да я не знаю, кто поёт, важно, что мне нравится вот эта конкретная песня, может быть, одна у этой группы и всё». И для этого священника это такая положительная ситуация, потому что молодой человек свободен, он вот не сковывает себя, не подчиняет себя каким-то там кумирам, авторитетам и так далее. Вот как вы на это смотрите?
В. Легойда
— Ну, это, наверное, требует осмысления, это интересная постановка вопроса. Я не уверен, что данные примеры или примеры подобного рода позволяют нам тут же, как сказали бы англичане: прыгнуть к заключению о свободе, потому что это может быть просто другой вид зависимости. Я понимаю, что, наверное, батюшка пытался связать это с Моисеевыми заповедями и сказать, что — вот, видите...
М. Борисова
— Он не творит себе кумира.
В. Легойда
— Да, но я боюсь, что наивно полагать, что вот ввиду изменения информационного пространства повреждённая человеческая природа выпрямилась, всё-таки догматически мы не готовы к таким выводам, хотя, наверное, так или иначе это может на что-то влиять. Я думаю, что скорее, вот так осторожно скажу: это находится в области того, о чём говорят сегодня специалисты по маркетингу, пиару, 15:03?отделомизации медийного пространства. ЛОМ я использую аббревиатуру — лидер общественного мнения, ЛОМы, ВИПы, как угодно их можно называть.
К. Мацан
— Опинион-мейкеры.
В. Легойда
— Опинион-мейкеры, да, то есть люди, которые на слуху, на виду и имеют какие-то группы, поддержки фанатские, поклонников и так далее, фолловеров, простите за выражение. И вот современное информационное поле, в том числе в силу того примера, который вы, Костя, привели, говорит нам о том, что они не так важны сегодня и в современном инфополе, и, скорее, вот для молодого поколения. Можно ли сделать вывод об их большей свободе? Ну, от мнения конкретных лидеров — наверное, но зависимость, с другой стороны, почти полная от некоторых источников информации потребляемых, она довольно серьёзная, какая же тут свобода? Я не готов сейчас говорить как-то глубже и основательнее, но боюсь, что всё-таки слишком оптимистичный вывод, и, как сказали бы мои коллеги по академической среде: недостаточно фундированный.
М. Борисова
— Я вот слушаю и думаю: интересно, а вот...
В. Легойда
— ... «когда пройдёт фрустрация», да? (смеется)
М. Борисова
— Фрустрация не пройдёт, я чувствую, никогда, но хочется как-то себе это объяснить. Я вспоминаю вот своё детство — голова была забита чрезвычайной шелухой, потому что это 60-е годы, и даже не буду подробно рассказывать, что утрамбовывали в голову ребёнка, начиная с детсадовского возраста, это не поддаётся описанию. Но, на моё счастье, у меня был старший брат, на шесть лет старше меня, и когда он поступил в институт, естественно, у него образовалась какая-то компания, какая-то среда общения, естественно, там было очень много завязано на музыке. И вот, казалось бы, это поколение «Битлз», это конец 60-х, это пик популярности, ну, естественно, и рок такой классический тоже. Но вдруг приходят вот эти студенты-второкурсники и приносят запись Вертинского. Почему-то вдруг у них проснулся какой-то повышенный интерес именно к Вертинскому, и это был какой-то разрыв шаблона, вот он тоже пел на языке, совершенно непонятном ребёнку 60-х годов, и так же, как, наверное, современным детям, нужно было брать либо за рукав кого-то из взрослых и сажать рядом, чтобы объясняли, либо брать какой-нибудь толковый словарь, потому что куча слов была непонятна, а уж когда он пел: «Я не знаю, кому и зачем это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой» — во-первых, непонятно, что это, о чём это, зачем это? Сразу вскрывается целая пропасть незнания для тебя. Но это был очень хороший такой внутренний пинок, который заставил очень многое захотеть узнать, скажем так. Есть ли такие... вы так любите иностранные слова, я тоже скажу иностранное слово: «триггеры» сегодня, которые могут заставить человека прорвать пелену, в которую он закутан, в силу условий, в которых он живёт и развивается, и рвануть куда-то вглубь?
В. Легойда
— Слишком серьёзный вопрос, чтобы брать на себя ответственность за какой-то уверенный ответ. Мне сейчас подумалось, опять же, это связано и с тем, о чём мы сейчас говорим, и с теми двумя разговорами, которые у меня сегодня были, впечатлениями, в которых я нахожусь. Я думаю, что, конечно, в конкретной ситуации, простите за банальность, очень многое зависит от семьи, от той среды, которая складывается в семье. Семья, конечно, тоже находится в той картине мира, которая существует, одна из особенностей как раз того, что мы сегодня встречаем в семьях, и то, что сильно отличается, скажем, от нашего советского детства — это то, что так как, скажем, в советском семье было понятно: «учись, получай образование», а сейчас — «готовься к ЕГЭ», да? Это другая установка, и вот этой опоры на стремление получения образования в том понимании, в котором оно было, и в котором, наверное, должно быть, вот в семье нет, но если она в семье есть, то она встречает сопротивление внешней среды. Но я думаю, что семья всё-таки, если мы исходим из, опять же, такого общего, вроде бы, не подвергающегося сомнению наблюдения, что дети играют в профессии родителей, и как-то я вижу во внешнем мире в основном подтверждение этого, то это означает в том числе и то, что, ну, вот там преподают родители, или кто-то из родителей философию занимается, имя Платон ребёнок так или иначе слышит с детства, видит книги там, или не видит книг. У меня вот был период, когда мне приходилось довольно много бывать в разных домах и квартирах по одной причине определённого характера, и я обратил внимание на то, что исчезли библиотеки, или исчезают, исчезли, нет домашних библиотек. То, что раньше невозможно себе представить, в любой всё-таки среднестатистической семье есть какой-то там шкафчик с книгами, они опознавались, а сейчас, скорее, это как вот друга старого: о, вот, привет, вот оно, приложение к журналу «Огонёк», «Библиотека» журнала «Огонёк», вот он, Конан Дойл, чёрные тома с красными там буквами и так далее. Вот мне кажется, что вот это вот может прорвать всё, что угодно. Думаю, что, опять же, тот пример, который вы привели, когда есть старшие брат, сестра, и там есть что-то, что непонятно, но вызывает интерес, я думаю, это всё-таки из области вечного, я не думаю, что это сейчас не работает. Наверное, всё равно по-прежнему, хотя... Я вообще просто пытаюсь сейчас на своих детей это переложить, у которых всё-таки есть возрастная разница — наверное, конечно, это чуть сложнее, потому что гаджеты много чего заменили, и мы, наверное, до конца даже не осознаём последствия этого общения с вот этим инструментом, и, наверное, все даже предположения о том, к чему это приведёт, они, скорее всего, окажутся ложными, не сбудутся, и, наверное, какие-то будут другие последствия, дай Бог, чтобы не такие страшные, как мы сейчас предполагаем.
М. Борисова
— Но если даже многодетные отцы и дедушки, которые бывают в этой студии, признаются, что уже вот последние годы они не улавливают вот нерв разговора с детьми, вырастив собственных, может быть, десять человек, они в какой-то момент говорят, что вот то, что работало, когда росли мои дети, сейчас вот на внуках уже не работает совсем, и у них какой-то другой совершенно набор каких-то своих вот главных вещей, они не знают, кто такой Гарри Поттер, ещё какие-то вещи, потому что что-то меняется так быстро и неуловимо, что даже родители с огромным опытом не успевают за этим.
В. Легойда
— Ну, смотрите, опять общая постановка вопроса. Ну, как не знают? Вот у меня 11, 13, 15 — все знают, кто такой Гарри Поттер. Не то, чтобы я это как-то прививал, говорил: «ребята, вот „Гарри Поттер“ рядом с Платоном», очень сложно говорить. Потом, есть же две противоположные и при этом верные мысли, что «человек не меняется», и «человек меняется постоянно», то есть, понятно, что есть природа человека, а есть контекст историко-культурный, как угодно его назовите, который, конечно приводит к тому, что мы по-разному проявляем свои какие-то общечеловеческие вот эти характеристики в разное время. Поэтому, чтобы делать такой вывод, его очень сложно сделать так умозрительно: «да, вот не работает то, что работало на внуках», может быть, в этой конкретной семье не работает. Тут надо смотреть либо исследования какие-то, либо все-таки оперировать примерами, потому что кто-то не знает только Гарри Поттер, именно по тому, с чего мы начали, я допускаю, вот мы можем взять любой из классов моих детей, и, наверное, в каком-то из этих классов найдется какой-то человек, который, может быть, не знает, допускаю. Сомневаюсь, но допускаю. Ну, вот это надо тогда анализировать, смотреть там, что, как, почему, а так боюсь, что мы немножко уйдем в такие, я это называю: такой «круглый стол».
М. Борисова
— Каждый о своем.
М. Борисова
— Даже, знаете, не то, что каждый о своем, я сейчас поясню, что я имею в виду, да не обидятся на меня представители одной из ветвей власти, которые должны писать законы, я когда оказывался в их кругу профессиональном, то меня часто поражало, что люди, которые должны заниматься законодательством, законотворчеством — во-первых, не прочитали тот законопроект, который мы пришли обсуждать, а во-вторых, имея возможность принимать законы, и, собственно, существуя для того, чтобы писать и принимать законы, они приходят вот на эту встречу, понимая, что там будут камеры, что-то бодрое говорят на камеру, зачастую не имеющее никакого отношения к конкретному тексту конкретного закона, который мы будем обсуждать, но вот поставив себе галочку, что они выступили «за все хорошее против всего плохого», и я называю это «круглый стол», что вот мы такой круглый стол провели, высказались: «ах, как плохо там», и какими бы правильными ни были эти слова, если они не релевантны задаче, которая стоит перед конкретной ситуацией, то это не имеет никакого смысла, вот мы с вами начали с темы смыслов, культура как пространство смыслов. Поэтому здесь вот я боюсь, что сетование отцов многодетных и дедушек, и я ни в коей мере их не пытаюсь упрекнуть, но мне сложно без конкретных примеров или без какой-то статистики обсуждать, хотя статистика, понятно, вещь такая вот сложная.
К. Мацан
— Мы вернёмся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Не переключайтесь.
К. Мацан
— «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, мы продолжаем наш разговор.
М. Борисова
— О смыслах, которые каким-то образом нужно друг другу передавать.
К. Мацан
— А «Светлый вечер» — вообще программа о смыслах и людях. Вот мы с людьми разговариваем о смыслах.
М. Борисова
— Да ты что! Это кто бы мог подумать. (смеется) Владимир Романович, вот всё-таки трансляция смыслов — это дело такое загадочное и, в общем, сколько людей, наверное, столько будет разных ответов. Но вот бывали же такие удивительные периоды в нашей истории, когда это получалось делать вот в массовом порядке, я имею в виду начало советского периода, 20-е годы, борьба с неграмотностью. Но колоссальное количество людей, которые всю жизнь занимались сельским хозяйством, ремеслом каким-то, на конвейере стояли, им вообще совершенно это всё было не нужно, не интересно, жили там, а потом всякие страшные события революции и гражданской войны, и вот начинается программа ликвидации безграмотности. И там же не просто учили буквы — там транслировали смыслы, которые этим людям были не нужны совершенно, в общем, они к их собственной жизни не имели никакого отношения, однако же огромное количество людей эти смыслы восприняло и дальше транслировало несколько поколений. А что это за феномен? И можно ли его повторить, и нужно ли?
В. Легойда
— Мне кажется, что во многом это то, о чём я уже сегодня сказал, со ссылкой на моего первого сегодня утреннего собеседника, во многом успех большевиков объясняется тем, что они предложили некую масштабную, грандиозную идею, так примитивизируя, скажем: построения земного рая, которая вот так или иначе сработала и дала людям понятную перспективу, так или иначе что-то в них отозвалось, присущее вот именно определённой культуре, определённому народу, и вот оно привело к довольно серьёзному результату, хотя понятно, что в конечном итоге это было обречено, поскольку, как христианин, я понимаю, что иначе не могло быть, потому что вот эта идея, она в любом случае была связана с радикальным отвержением веры. И вопрос о запасе прочности, который нам известен хорошо, это несколько десятилетий. Но то, что это был мощный такой посыл, и сказать, что вот как людям не нужны, людям всегда нужны смыслы, и, понимаете, вот я, как человек, увлекавшийся Маяковским в юности, могу сказать, что только одного творчества Маяковского достаточно, чтобы ого-го как повлиять. Причём, опять же, без серьёзного анализа, но вот сразу мне что вспоминается, вот я часто этот пример привожу в разных контекстах: Юлий Борисович Харитон — академик, один из руководителей Советского атомного проекта атомной бомбы, в «Арзамасе-16», в Сарове ныне, в своём дневнике пишет, уже будучи физиком, молодым, конечно, ещё, но уже вполне себе серьёзным учёным, он попадает на чтение Маяковским стихов и пишет: «Целое море новой поэзии открылось передо мной, это было одно из самых сильных потрясений в моей жизни». Если я не ошибаюсь, сейчас могу напутать, но, по-моему, это Харитон пишет не по горячим следам, а спустя какое-то время. Но даже если по горячим следам, это же, вот вам признание. Понятно, что Харитон не принадлежал к широким массам людей, которые ничего не хотели знать, он как раз таки много где поучился, включая заграницу, но сил воздействия, да? Причём вот эти смыслы... Кстати, ещё один мой собеседник вчерашний, он говорил о том, что... Тут терминологически с ним можно спорить, но он говорит, что есть культура идеологии, а есть культура пиара, и вот чем они отличаются? Он говорит: идеология — это вещь продуманная, фундированная, где смыслы все докручены, обоснованы, и группа людей, способных эти смыслы сформулировать, немало времени потратили на это, а пиара — это вот, условно говоря, обёртка и действие, которое не связано с продуманными смыслами, это вещь намного более поверхностная и легко теряющая свою эффективность. Своими словами сейчас передаю, он там какие-то исторические параллели приводил, но вот горькая правда в этом есть в том смысле, что если вот смотреть идеологию советскую и то, что сегодня у нас происходит, то, конечно, как кто-то мне говорил: «ещё там не было ничего, а уже песня „Растаял в далёком тумане Рыбачий, родимая наша земля“ уже формировала картину действительности». Не знаю, сейчас не готов сказать, так это или не так, но вот знающие люди говорили, что так, да. Это, конечно, серьёзная штука.
К. Мацан
— Вот мы говорим о передаче смыслов и традиционно в таком ключе пессимистическом, что смыслы теряются, и культура гибнет.
В. Легойда
— Я — нет, я не в пессимистическом.
К. Мацан
— А вот я сейчас добавлю оптимизма и спрошу, что вы об этом думаете. У меня недавно была беседа с хорошо вам и нашим слушателям известным Гавриилом Гордеевым, или как его знают под именем Гавр, он в прошлом резидент Comedy Club, сейчас продюсер, в том числе и кинопродюсер, и работает продюсером по оригинальному контенту сервиса «Okko». Мы с ним беседовали, и он такую мысль проявил, что было время в истории, например, российских сериалов, российского кино, когда 10 лет назад или 15 лет назад, что называется, «зашибали деньги» и снимали кино низкокачественное под таким подлозунгом: «пипл схавает», я сейчас тоже своими словами пересказываю мысли, не цитирую. Потом это стало выправляться, причем, он говорит, что нужно было период вот этого искушения пройти. Потом был период, когда нужно было просто создать кино и сериалы нормального качества, конкурентноспособного с западными, и вот сейчас этот этап тоже пройден, есть много продакшенов, много сериалов и кино с хорошей картинкой, и качество не уступает лучшим мировым образцам. И теперь, внутри российского сегмента, — говорит он, — идет конкуренция за смыслы. Вот мы сейчас в той стадии, в той фазе, когда уже людям недостаточно просто красивые картинки, нужно то, о чем с ними будут разговаривать, вот в этом поле главная конкуренция разыгрывается. Я думаю, хорошо, это положительный такой сигнал. А что вы об этом думаете?
В. Легойда
— Я буду очень рад, если это так, даже, может, скажу немного развернувшись в сторону пессимистической фрустрации, что был бы рад, если бы это было так. Я не ощущаю пока какой-то вот серьезной конкуренции за смыслы, вижу, что это пытаются проговаривать. Мне кажется, что даже на тех площадках не художественных, в которых мне приходится принимать участие, пока эти смыслы, эта попытка обрести, сформулировать, передать смыслы, она формируется довольно хаотически, связана вот с человеческим фактором, вот есть кто-то из управленцев, который отвечает за какую-то конкретную площадку, на которую собираются, с одной стороны, спикеры, с другой — молодежь, не молодежь, неважно, и вот в меру своего понимания и общепоставленных задач рамочных воспитания того, сего, пятого, десятого, вот подбираются гости. Это лучше, чем ничего, это точно лучше, чем было вчера, но стратегическое мышление предполагает намного более серьёзное осмысление тем людей, сочетании одного спикера с другим и так далее. Это, думаю, задача понятная и ту, которую сейчас пытаются реализовывать, но просто нельзя всё взять и сделать сразу. Движение, безусловно, на мой взгляд, оно положительное. Наверное, то же самое происходит и в кинематографе, здесь много своих подводных камней, просто в сфере художественного, когда правильный смысл считается индульгенцией даже бесталанному произведению, что недопустимо.
К. Мацан
— Это другая крайность.
В. Легойда
— Другая, да-да-да, но нам очень хорошо знакомая, потому что...
М. Борисова
— Наследие советского.
В. Легойда
— Нет, я имею в виду даже вот опыт, допустим, «Фомы»: столько сколько мы перевидали графомании в поэтическом и прозаическом виде, прикрывавшуюся тем, что — «ну, здесь же всё правильно по смыслу», а то, что это к поэзии и к литературе не имеет никакого отношения, считалось: «а, это не так важно». Поэтому, наверное, сдержанный оптимизм можно и нужно испытывать, но работы много впереди.
М. Борисова
— Владимир Романович, как знатному культурологу можно задать вопрос?
В. Легойда
— Да-да, пожалуйста.
М. Борисова
— Что такое культура? О чём вообще мы говорим?
В. Легойда
— Тут, если мы сейчас в академическое поле входим, то это надо будет очень...
М. Борисова
— Не надо в академическое, мы в нём заблудимся.
В. Легойда
— На мой взгляд, культура — это про смыслы. Я просто поясню, по-моему, я говорил это в интервью, которое вы вспомнили сегодня: смотрите, если мы возьмём, скажем: Александр Сергеевич, «наше всё», «солнце русской поэзии», человек, дравшийся на дуэли с Дантесом и так далее, у всех этих фраз будет одно и то же значение — Александр Сергеевич Пушкин, то есть, о Пушкине можно говорить по-разному, простите за столь глубокую мысль. Н у каждой из этих фраз при одном значении разный смысл. Вот если совсем примитивно, коротко, вот культура — это не про значения, а про смыслы. Ну, если этот пример немножко с другой стороны просто показать его, что называется, многогранность: человеку, который не знает, что такое радио, если показать микрофон, перед которым я сейчас говорю, и значение которого никуда не денется, он не поймёт, что это. Смысл — это наша способность соотнести нечто с самим собой. И при этом он всегда, в отличие от значения, вот я знаю, что такое микрофон, но, скажем, если бы я (я сейчас условно говорю) декорировал эту студию, вот у нас чёрный микрофон полностью, а у меня были бы вот эти проводочки белые. Почему? Потому что мне так нравится. И вот смысл — это уже появляются оттеночные вот эти вот нюансы, полутона. Я всегда студентам в этом смысле говорю, что если мы пойдём с вами в магазин, вот у нас в этой аудитории 100 человек, и все пойдём, задача — купить себе настольную лампу. Давайте предположим, чисто гипотетически, что выбор бесконечен. Я не знаю там, как по теории вероятности, но, наверное, если мы не 100 разных ламп купим, то их будет очень много разных, хотя функционально, с точки зрения значения, значение не поменяется — надо на столе освещать какое-то пространство светом, но люди выберут разные, почему? Потому что есть смысл. Вот культура — про смыслы.
К. Мацан
— Владимир Романович Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер», мы говорим о смыслах.
М. Борисова
— Это ваши преподавательские штучки.
В. Легойда
— Штучки, да. Ответа нет, но вроде как и есть, да? (смеются)
М. Борисова
— Да, очень красиво.
В. Легойда
— Мёд — это странный предмет.
К. Мацан
— А то, что культура в каждую эпоху уже давно умирает — вот умирает всё-таки или нет?
М. Борисова
— Ну, если вспомнить про 13:41леткульт, она должна была в конвульсиях умереть ещё в начале XX века, и Пушкина собирались сбросить с корабля истории.
В. Легойда
— Ну вот, смотрите, опять же, тема умирания культуры — это тема умирания тех смыслов. Вот студент или юноша студенческого возраста, которого мы сегодня вспоминали, который, бедный, обикался, наверное, уже за эти месяцы, которые я про него говорю, конечно, для него икона Рублёва умерла, её для него просто нет. Или там он на неё смотрит и не понимает ничего. И он смотрит на икону рублёвскую, читает, допустим, ему говорят: «вот, смотри, Флоренский написал». Шпенглер про это писал в «Закате Европы», он, правда, это в своей теории говорил, сравнивая развитие культуры с развитием человеческого организма, что вот молодость, зрелость, старость, дряхлость, смерть, вот смерть, по Шпенглеру — это неспособность считывать смыслы заложенные.
М. Борисова
— Я вспоминаю ваш разговор в «Парсуне» с Ольгой Дмитриевой, она приводила пример своей старшей дочери, которую она, считая себя идеальной мамой, повезла первый раз в Петербург. Естественно, они пошли в Эрмитаж, она долго водила её по залам, показывая ей шедевры мировой живописи, говорила: «Вот посмотри, ах, это Ван Гог, ах, вот это вот...» И в какой-то момент ребёнок сказал: «Мам, а когда мы уже пойдём есть?» И она поняла, что...
В. Легойда
— Перекормила.
М. Борисова
— Нет, что она проиграла, что этот ребёнок уже потерян. Но там мораль этой басни дальше, она говорит, что через четыре года оказалось, что девочка вдруг заинтересовалась историей и литературой, оказалось, что она единственная девочка в классе, которая прочитала «Войну и мир». И в результате вырос вполне нормальный, культурный, образованный ребёнок, но вот как бы по собственному желанию, а не по маминому хотению.
В. Легойда
— Ну, тут, видите, на самом деле, я думаю, что если этот пример брать, то мне понятна фрустрация мамы в тот момент, но там надо смотреть, ребёнок просто мог устать, и взрослые-то устают. Я вот другой пример из «Парсуны» вспомнил, на мой взгляд, очень хороший, к нашей теме об умирании культуры или отсутствии вот этого считывания смыслов — это Никита Владимирович Высоцкий мне рассказывал, что в детстве к нему домой приходил какой-то его товарищ в школьные годы, а у них в квартире стоял какой-то альбом по живописи, я не помню, там какая-то скульптура была обнажённая на обложке, Венера, не знаю, ну, что-то такое. И его товарищ говорил: «А пойдём вот в ту комнату, где баба голая на книжке», и вот это очень хороший пример, потому что это ровно то, о чём мы с вами говорим, культура — это про считывание смыслов, потому что — ну, действительно, обнажённая женщина, можно её воспринимать как «бабу голую», как учил нас Юрий Михайлович Лотман: вот чем отличается фотография или просто обнажённое женское тело от написанного — потому что оно во втором случае будет что-то означать, там будет вложен какой-то смысл. Человеку, идущему по улице, нельзя сказать, какой смысл, вот переходят люди на дорогу, какой там смысл? Никакого. Люди переходят на светофоре дорогу. А вот если это люди из группы «Битлз», то этот вот снимок, он сразу обретает некий смысл, становится символом, там, я не знаю, чего, мне до конца непонятно, кстати сказать, но вот он обретает...
М. Борисова
— Ну, просто это было на обложке альбома, поэтому ничего особого...
В. Легойда
— Ну, да-да-да. Есть, конечно, тут границы, потому что тут сразу вспоминается, как он называется — «Фонтан» Дюшана, который, в общем... ну даже не хочется про это говорить.
К. Мацан
— А вот не нужно ли здесь вообще, во всей этой теме вводить ещё более такие тонкие дистинкции в том смысле, что говорить о культуре массовой и элитной, высокой и народной? Раньше, может быть, ну «раньше», я сейчас в очень большое какое-то такое историческое обобщение пускаюсь, но вот, наверное, когда было небольшое образованное дворянское население и вот большое крестьянское в аграрной стране России население, и можно было говорить, что вот в деревне — неграмотные крестьяне, а в городе — грамотная буржуазия и дворяне, но сейчас всё уже перемешано, вот у меня дети едут в деревню, допустим, я по-отцовски так думаю: а с кем они там будут общаться? Вот с деревенскими ребятами, а чему они их научат?
М. Борисова
— ... которые сидят с теми же гаджетами и смотрят то же самое.
К. Мацан
— А потом я понимаю, что вот в Москве у нас в районе такие же ребята, как и там в деревне, то есть, уже вот этого социологического размежевания не происходит. И вот в этом более-менее гомогенном обществе всё равно будут те, кто будут ходить в музеи, это будет небольшая группа людей, и будет большинство, которые, может быть, этим не интересуются.
М. Борисова
— Но мы же про смыслы, а не про музеи.
В. Легойда
— Смыслы и музеи вообще, причём здесь? Скажете тоже, какие смыслы в музеях? (смеются) Вы знаете, насчёт высокой-низкой, массовой-элитной, насколько я понимаю, в современной культурологии происходит переоценка ценностей, потому что если понятие массовой... Ну, всё-таки понятно, что в академическом пространстве мы пытаемся избегать оценочных суждений, но тем не менее понятие массовой культуры, которая тоже имеет разные совершенно определения, может иметь, всё-таки мейнстримовское, насколько я понимаю, оно связано с Соединёнными Штатами, знаменитая цитата, забыл кого, что если там Рим дал миру то-то, то-то, то-то, вот Рим — то, Европа — то, там ещё что-то, Средние века — то, а вот США дали миру массовую культуру, и это там, условно говоря, от Макдональдса до Голливуда. Но при этом вот в этом был привкус такой: массовая как антитеза элитной культуре. Но вот, скажем, Интернет, который, простите за ещё одну банальность: радикально изменил нашу жизнь, он действительно настолько радикально изменил нашу жизнь, что появившиеся возможности теоретически массового, характера, то есть, когда ты можешь оказаться в этом самом музее и всё-таки поискать там смыслы, не отходя от кассы, так сказать, не отходя от гаджета своего, и вот, насколько я понимаю, в современной культурологии происходит такое переосмысление, или точнее так: категория массовой культуры и оценка её вот с точки зрения тяжеловесности, что ли, или там элитарности и прочего, она связывается с осмыслением понятия глобализации. Если мы глобализацию рассматриваем как процесс стандартизации и прочего, и прочего, то вот здесь более традиционное понимание массовой культуры. А если мы глобализацию рассматриваем, в том числе как процесс получения возможностей бо́льшим или больши́м количеством людей, которого не было раньше, то он не стыкуется с представлением о массовой культуре, как о культуре досуга, развлечения и прочего. Хотя вот я помню разговор с Юрием Павловичем, как-то мы говорили, он говорит: «Я вообще не понимаю, что такое массовая культура. Вот древняя Греция, античный театр — это что, не массовая, что ли, культура? Вот все приходили и смотрели с утра до вечера, ели, пили и прочее». То есть, тут, конечно, много упирается в необходимость определения, мне все-таки кажется, что, конечно, массовая культура — это не просто явление Нового времени, но и явление именно уже индустриального времени и постиндустриального, но это скорее, конечно, предмет таких академических дискуссий, которые тем и хороши, что их лучше не выпускать за пределы академического пространства.
К. Мацан
— Мой вопрос про массовую и элитную культуру связан еще с такой типологией, что, может быть, культура, которая — произведение искусства, музыки, литературы, которая просто легче воспринимается и не требует большей подготовки специальной.
В. Легойда
— Ну, вот Моцарт требует большой подготовки?
К. Мацан
— Вот это хороший вопрос.
В. Легойда
— А это хороший вопрос, потому что я об этом, знаете, впервые когда задумался, уж простите, я человек далекий от музыки, но когда я впервые смотрел, или во второй или в третий раз один из моих любимых фильмов Формана «Амадей», я видел, что Моцарт писал для совершенно разных аудиторий. А мы же сегодня говорим — Моцарт, ну, какой у нас ассоциативный ряд: Моцарт, классика, элитная, элитарная, не массовая культура. Но, простите, в фильме, понятно, что он там условно-биографический, и вообще-то на материале Моцарта художники следуют проблему, но там есть совершенно точные вещи, где просто приходят совершенно простые обычные люди, там хохочут, смеются, смотрят, слушают то, что написал Моцарт.
К. Мацан
— Но при этом эти простые люди всё равно представляют собой очень небольшую группу, небольшой процент населения, вот тех, кто в Зальцбурге живёт, приходят к Моцарту и слушают, я тоже где-то читал, что Моцарт писал для очень небольшого, на самом деле, количества людей, у которых есть возможность его концерт или оперу посетить.
М. Борисова
— Нет, Владимир Романович имеет в виду эпизод с «Волшебной флейтой», которая была поставлена в Народном театре, где там пили пиво...
В. Легойда
— Да. Я, правда, не знаю, насколько это биографически точно, но почти наверняка, да?
М. Борисова
— Но мысль совершенно прозрачная, по крайней мере, у автора, то есть там то, что мы называем попсой, вполне монтируется с каким-то количеством классической музыки, которую мы почему-то считаем элитарной. Ну, какой элитарный Шопен в большом количестве своих произведений?
В. Легойда
— Господа музыканты, поговорите, я с удовольствием послушаю вас. (смеется)
М. Борисова
— Просто я вспоминаю удивительное...
В. Легойда
— Старика Шопена?
М. Борисова
— Да-да-да, старика Шопена.
В. Легойда
— «Бывало, говорю: «Ну что, брат Шопен?..»
М. Борисова
— «... Да так, говорит, как-то всё, брат». (смеются) Я вспоминаю, в Советском Союзе был бум изображений «Неизвестной» Крамского и «Джоконды».
В. Легойда
— Даже в «Калине красной» есть репродукция.
М. Борисова
— На чём только не было! На каких-то брошках, плошках, я не знаю, чайниках, вазочках...
В. Легойда
— Ковры вот эти ужасные были.
М. Борисова
— Это что вот — это культура в массы?
В. Легойда
— Это китч. То, что вот наш друг Кшиштоф Занусси называет «китч», мне кажется.
М. Борисова
— Китч — это положительно или отрицательно?
В. Легойда
— Китч — это смерть культуры. Китч — это доведение чего-то, это вот такая пограничная история. Вот дальше уже смерть.
К. Мацан
— Ну вот не хочется говорить, но на этой ноте мы вынуждены наш сегодняшний разговор закончить, но мы продолжим его в следующую пятницу и, оттолкнувшись от этого дна про китч и смерть культуры, пойдём вверх, к позитиву и свету, к возрождению культуры. Я всегда вспоминаю в таких случаях это афористичное выражение Честертона из его трактата, если не ошибаюсь, «Ортодоксия», по-моему, что «в любую историческую эпоху всякий раз Церковь летела ко всем чертям, и всякий раз погибали черти, а Церковь возрождалась».
В. Легойда
— Аминь.
К. Мацан
— Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии у микрофона была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
М. Борисова
— До свидания.
Все выпуски программы Светлый вечер
«Зимнее небо»

Фото: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash
Как правило, затянутый тучами, низкими и тёмными, небосвод отражает печальное состояние человеческого ума. Действительно, грехопадение праотцов прежде всего омрачило умственную силу души, подпавшей под тиранию эгоистических похотей и помышлений. Но как иногда зимним днём вдруг погода прояснится и становится видно голубое небо, так и мы призваны внимательно и терпеливо молиться, покуда ум, освободившись, от помыслов и мечтаний, не станет ясным и спокойным.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды
7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.
Все выпуски программы Актуальная тема
7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.
Все выпуски программы Актуальная тема