
У нас в гостях был настоятель московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертанове протоиерей Павел Великанов.
Разговор шел о приближающемся Великом посте и ради чего в этот период приходится отказываться от стольких привычных вещей. Что человеку дает пост и как он влияет на духовную жизнь.
Ведущая: Марина Борисова
М. Борисова
— «Светлый вечер» на Радио ВЕРА. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, и сегодня со мной и с вами этот час «Светлого вечера» проведет наш гость, настоятель московского храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново протоиерей Павел Великанов.
Протоиерей П. Великанов
— Добрый вечер.
М. Борисова
— Ну, сегодня такой день, который говорит сам за себя — сегодня вечер среды на Масленой неделе. Значит, все уже в масле, все едят блины уже который день и собираются есть дальше, но, как это ни печально (а может быть, наоборот, радостно), среда и пятница Сырной Седмицы — они уже все-таки очень сильно окрашены постными нотами. И молитва Ефрема Сирина, и вообще как-то вдруг совершенно неожиданно другим воздухом веет. Самое время поговорить вообще, что нас ждет. Через несколько дней начнется Великий Пост, а мы, как всегда, не готовы. Вот можно ли сказать, что из года в год мы повторяем какие-то свои прежние ошибки в подходе к Великому Посту, в подготовке к Великому Посту, в осмыслении Великого Поста? Вы знаете, мне кажется иногда, что мы вообще даже не подходим к этому осмыслению, несмотря на то, что каждый год очень сильно стараемся. Не так давно я в старых своих публикациях нашла интервью, которое несколько лет назад брала как раз в канун Великого Поста у протоиерея Вячеслава Переверзенцева, который четыре года назад отошел ко Господу, и у него встретила удивительную мысль, которая мне сегодня показалась очень созвучной тому, о чем я сейчас пытаюсь размышлять. Отец Вячеслав сказал: «Мне очень нравится мысль, что цель Великого Поста, да и любого поста, это отказ не от дурного, не от греха (от греха мы должны отказываться всегда, каждый день) — постом же нечто новое входит в нашу жизнь, и когда мы отказываемся от чего-то хорошего ради лучшего». И вот с тех пор, как я на эту фразу наткнулась, я все время хожу ее повторяю и стараюсь ее каким-то образом для себя раскрыть в надежде, что, может быть, она поможет мне в кои-то веки провести Великий Пост не так, как всегда. (Смеется.) Как вам кажется, в этой фразе, в этой мысли есть то важное зерно, которое хорошо бы уловить накануне Великого Поста?
Протоиерей П. Великанов
— Да, без всякого сомнения, очень глубокая и правильная фраза, вполне в традиции святых отцов, их отношения и понимания поста, что пост — это не самоубийство ради даже какой-то высокой цели, а все-таки это перераспределение ресурсов, которые сами по себе не являются грехом, сами по себе не дурны, но ради чего-то высшего можно и поступиться ими. Хотя мне, конечно, не откликнулись ваши слова в отношении того, что постоянно совершаем одни и те же ошибки. Вот как нам избежать этих ошибок, как бы нам научиться правильно поститься — не откликнулись потому, что вот, на мой взгляд, проджект-менеджмент и духовная жизнь — это такая история, обреченная на провал по определению, потому что для управления проектами нужна только моя воля, а смысл всей духовной жизни заключается в том, что «не моя воля, но Твоя да будет». И любая попытка вот Бога простроить постом так, как нам было бы с Ним интереснее и проще взаимодействовать, ну, она, конечно, скорее всего, закончится провалом. И наоборот — как только мы отказываемся от непосредственного такого расположения каких-то реперных точек нашего пощения и понимаем, что вот есть некая фиксированная рамка поста, установленная Церковью, которая тоже достаточно все-таки динамичная, она не железобетонная, она все-таки гибкая. Есть разные меры поста, которые мы обсуждаем с духовником, с друзьями, с духовными братьями, сестрами из своего опыта, есть какая-то разумность, целесообразность, которая позволяет нам вот выстраивать некое пространство поста. Но дальше что там будет, мы учимся больше доверять Богу и позволять Ему действовать в нас так, как Он хочет. Потому что сколько бывало таких интересных случаев... Вот не так давно у меня был очень интересный эпизод, когда один человек, только-только начинающий воцерковляться, в прямом смысле в состоянии истерики подходил к началу поста, потому что никогда раньше не постился, и вот прямо в Прощеное Воскресенье решил, что «ну знаете что, да идите вы все куда подальше с этим вашим постом, я поститься не буду». И буквально на следующий день, в первый понедельник Великого Поста он оказывается в больнице в таком положении, в такой ситуации, что всю первую Седмицу в прямом смысле слова без крошки еды проводит. И когда возвращается из больницы, он уже говорит: «Я все понял, больше не хочу, я буду дальше поститься как следует». Вот, понимаете, это пространство как раз взаимодействия между Богом и человеком, которое, конечно же, обостряется во время Великого поста не только потому, что мы больше кладем поклонов, меньше едим и вообще стараемся как-то немножко подсобраться... Да непонятно, почему! Вот непонятно, почему именно Великим Постом всегда происходит какое-то... В воздухе вот прямо, знаете, есть аромат поста, есть какое-то вот это состояние поста. Причем, его нет ни в какое другое время — ни Успенским постом, ни Петра и Павла, ни Рождественским — там близко ничего такого нет. Хотя, ну, с какой-то формальной точки зрения, это тоже всё посты, их тоже надо соблюдать. Но вот этот аромат Великого Поста, когда, знаете, идёт... я бы такой образ использовал — когда начинается ледоход. Вот уже солнышко светит, вроде бы, река еще закована панцирем льда, а ноги уже чувствуют глубинный какой-то гул, и вскоре ты видишь, как это панцирь разрушается, и его сносит уже талая вода куда-то дальше по течению реки вниз. Вот это вот почти не воспринимаемый внешними органами чувств аромат поста — он, конечно, по-другому как-то переустраивает самого человека. И поначалу, если он кажется жуть жуткой, особенно первый год, когда люди начинают только поститься, то по мере жизни в Церкви он становится настолько желанным и настолько любимым, настолько, даже не побоюсь использовать это слово, вкусным, что дает определенную закваску и силу на весь оставшийся год. Я думаю, хорошо, правильно проведенный пост... В том смысле правильно, что проведенный пост — он очень трудно переходит в пространство праздника. Все-таки это вот, знаете, это какое-то... Вот что самое главное в весне? Я не помню, чьи это слова — кого-то из поэтов, что ли: «В весне самое главное то, когда она еще не наступила». Когда вот все еще заковано в лёд, в снег, когда солнце только-только где-то начинает проблёскивать, а может быть, даже ещё лучше, вообще не проблёскивает — мрак, хмурь и всё прочее, а ты видишь, что весна-то уже пошла! Почему? Потому что где-то там, смотришь, почки чуть-чуть увеличились, или, там, на каких-то кустах серость вдруг расцветилась то красным, то голубоватым, то сиреневым. То есть, явно там начинает какая-то пробиваться жизнь. Её, практически, не заметно. Вот чем меньше её заметно, тем она сильнее действует. Когда уже потом весна раскроется во всей силе — ну, тут уже да, уже всё. Но вот эта какая-то... какое-то тонкое ощущение неизбежности победы света над тьмою, тепла над холодом, над мраком — оно бесконечно увлекательно. Оно вселяет, вот не знаю, какую-то радость в жизнь, запрос на то, что да, да, да, вот ощутить, где-то здесь рядышком быть. Вот просто в этом смысле такая же весна души — это вот предвкушение... не просто предвкушение Праздника Пасхи, Светлого Христова Воскресения, а это, знаете, как будто заглядывание в какую-то очень такую маленькую, тоненькую щёлочку. Как-то... Причём, даже не заглядывание, а как-то краем глаза — вот что-то там такое мелькнуло, но оно такое прямо пронзительное, оно такое какое-то настоящее, оно такое прямо какое-то... как будто тебе, знаете... укореняющее тебя вот в бытии, что туда-то смотреть не хочется, потому что страшно представить то, что будет, если этого не окажется, если это будет утрачено.
М. Борисова
— Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». Мы, естественно, говорим о Великом Посте, который вот-вот начнется. Ну, отец Павел, вот очень красиво, очень поэтично, ну просто вот слушал бы и слушал... Но дело в том, что мы не только слушаем — мы же еще и размышляем. И вот тут начинаются самые удивительные приключения, когда мы начинаем размышлять о Великом Посте и о том, как бы нам хотелось бы его провести. Кстати, я бы сказала, что самый счастливый Великий Пост был первый, потому что всё внимание было сконцентрировано на том, чтобы выполнить необходимый свод правил — что нужно непременно сделать, если ты хочешь быть прилежным христианином. На самом деле, это было упоительно интересно, потому что это было в первый раз, и всё, что связано с богослужениями Великого Поста, с особенностями чтений Великого Поста, — вот это всё настолько занимало внимание, что уже на какие-то сомнительного плана духовные размышления не хватало ни сил, ни времени. (Смеется.) Поэтому это было вообще счастливейшее время в моей жизни. А потом неизбежно приходят размышления — ну как бы после прочтения святоотеческой литературы сядешь, подопрёшь щёку и начинаешь размышлять...
Протоиерей П. Великанов
— И думаешь: «Ох...»
М. Борисова
— «Ох...» — думаешь, да. Так вот, этот великий «ох!» звучит, наверное, точно так же, как мог бы прозвучать у апостола Петра, когда он рванул было пойти по воде к Учителю, а потом вдруг сообразил, что идёт-то по воде, и начал тонуть. Вот это происходит, я полагаю, с большинством из нас, когда мы начинаем пытаться размышлять на духовные темы. Вот что ж тут делать-то? Очень хочется прийти к формуле Блаженного Августина «люби Бога и делай что хочешь», но как к этой формуле прийти, совершенно непонятно.
Протоиерей П. Великанов
— Мне кажется, всё познаётся в действии. И пост в этом смысле — он хорош и опасен именно тем, что актуализирует глубоко скрытые в нас кризисы. Когда мы лишаем себя возможности такого... анестезии удовольствия едой, развлечениями, то есть, всем тем, что доставляет нам, ну, какую-то передышку, то, конечно же, вот то, что у тебя внутри сидит, ты сам во всей своей сложности, греховности, страстности, яростности и так далее, начинает себя чувствовать гораздо более вольготно. Вот почему многие любят ходить в разные экстремальные походы, прямо на грани вот между жизнью и смертью? Почему есть люди, которые ищут войны, ищут нахождения на передовой, ищут находиться там, где витает смерть в воздухе? Потому что через это они встречаются с самим собой более подлинным, чем когда они находятся в комфортных условиях. Они вдруг видят самого себя, ну, в ситуации вот такой совсем не симпатичной. Они открывают сами в себе стороны, от которых, может быть, даже и не поверили бы, что они есть в них, если бы не сама ситуация, если бы не реальность вот конкретной истории. Вот. И пост в этом смысле — это произвольное рождение кризиса, да? Есть, например, в медицине, когда человек находится в таком «застрявшем» состоянии в плане динамики болезни, способ, когда провоцируют кризис. И вот эта провокация — она, скорее всего, будет способствовать тому, что у человека появятся непонятно откуда ресурсы дополнительные внутренние и он выскочит из этого состояния медленного умирания. И мне кажется, что цель и задача поста именно в этом — что мы потихонечку провоцируем свой внутренний кризис, но такой, знаете, кризис управляемый все-таки. И меру поста мы можем тут как-то регулировать, и происходит это всё под надзором, и сами мы как бы на всё это посматриваем. Но первая задача поста — это, конечно, дать возможность душе в стесненных обстоятельствах поближе познакомиться с собой и увидеть, а что именно конкретно препятствует нашему движению к Богу. Потому что у любого человека всегда есть — неизбежно! — есть определенная доминирующая страсть, или, там, одна или две. Вот, как правило, человек, который проходит через генеральную исповедь за всю жизнь, зачастую он прямо видит это, ну, с какой-то вот прямо очевидностью. Тут когда человек от случая к случаю приходит на исповедь и видит там вот: одним, вторым, третьим согрешил, пятым-десятым-двадцатым, третьим-четвертым-восьмым, у него иногда может складываться впечатление, что он, в общем-то, в равной степени склонен к любому греху. Но в действительности такого не бывает, это, своего рода, такой, знаете, даже не антипод святости, а какая-то инверсия святости. Человек, который органичен во всех грехах, он... в общем-то, я даже не представляю, насколько... Мне кажется, это совершенно невозможно. Вот насколько возможна органичность добродетели, потому что она вокруг Бога, вокруг одного центра, вокруг света, настолько же невозможна органичность во всяком грехе, потому что всегда человек будет влетать в какую-то крайность. И вот тенденция влетать в какую-то сторону — это и есть свидетельство некоей доминирующей страсти. И у отцов — у Иоанна Лествичника, у Аввы Дорофея, у Исаака Сирина — у них много внимания уделяется тому, чтобы подсказать, как распознать в себе эту доминирующую страсть, то есть, ту самую колею, куда тебя сбивает постоянно, из которой ты не можешь выбраться. И вот как раз таки неспособность самого человека выбраться своими силами из этой колеи — это является одним из таких признаков того, что это точно твоя любимая наезженная колея. Потому что с большим количеством грехов, в которых мы каемся, в действительности мы можем сами справиться — мы можем просто взять и не сделать. Вот у нас хватает какого-то внутреннего ресурса понять, что это не должно, это греховно, это неправильно, мы говорим себе «нет», «хочется — а нельзя» — и пошел дальше, в общем-то, всё. А вот доминирующие страсти — они, конечно... А если бы и с ними мог человек справляться, даже со значительным усилием, с хорошей волей развитой (что само по себе уже тоже вопрос), тогда и Христос был бы не нужен. Тогда можно было бы руководствоваться замечательными правилами стоиков и всем стройными шеренгами отправляться в Царство Небесное. Но вот для того-то Христос и приходит, что мы не в силах вытащить сами себя за волосы из болота наших, так скажем... нашей порочности. И вот там, где мы точно себя не можем вытащить, и мы знаем это, что мы снова и снова влетаем в одно и то же и никакие наши попытки ничего не дают, это дает нам основание, осознав свою немощь, развернуться к Богу и сказать: «Господи, ну вот, всё, собственно говоря, а дальше — Ты. А дальше — Ты. Я — всё, я вот капитулирую, я не могу ничего здесь сделать. Во мне нету того самого ресурса, тех сил, той воли, того желания, в том числе, чтобы даже пытаться как-то с этим совладеть. Я пытаюсь делать, но это детский лепет». И вот это, наверное, самое правильное, самое здоровое расположение человека по отношению к Богу во время поста — ты понимаешь, почему тебе Бог нужен, зачем тебе Бог нужен. Если этого нет, то, конечно, пост — ну, как-то он... он может превратиться в очень такой интересный духовный трип и не более того, чем.
М. Борисова
— Есть масса способов, описанных в святоотеческой литературе, как этого не допустить. Но, честно сказать, мне не привелось видеть воочию, как эти способы воплощаются в современную жизнь современного верующего православного христианина. Потому что все-таки есть средостение между тем, что мы читаем и пытаемся осмыслить, и тем, как мы живем на самом деле. И вот этот зазор — он... его хочется убрать (ну просто чтоб не мешался), но он не убирается. Может быть, так и надо, может быть, в этом есть какая-то польза для нас — что мы не можем просто транспонировать то, что мы видим у святых отцов, в нашу реальную повседневную жизнь?
Протоиерей П. Великанов
— Да. Мы не можем всё это перенести механически именно потому, что это живые слова из живого опыта. У нас слова могут быть те же самые, но опыт уже другой. И наша природа — она тоже все-таки сильно изменилась с того времени. Тут бессмысленно пытаться применить какие-то критерии, в какую сторону она изменилась — в лучшую, в худшую? Мне кажется, тут никто не сможет однозначно ответить. В чем-то — в гораздо лучшую (по крайней мере, на улице не так часто убиваем друг друга, как это происходило, там, не знаю, в Средние века). С другой стороны, в гораздо худшую, потому что мы оказались сегодня настолько размазаны по всему, что живем в цивилизации победившего уныния как не-горения, как не-... состояния, противоположного вот этой внутренней ревности, устремленности такой прямо, увлеченности чем-то, да? Мы размазаны по бесконечному количеству быстрых, легких и неглубоких удовольствий, которые нас держат настолько крепко, что едва ли можно из этого выбраться. Поэтому, конечно, да, то, о чем говорили святые отцы, по сути, это все работает, но как конкретно в нашей сегодняшней жизни это применимо — это зависит только от нас самих. Мы ориентируемся на их установки, мы их пытаемся разархивировать — те смыслы, которые они спрятали, скрыли в своих... под своими словами, и дальше думаем, как нам это реализовывать в нашей жизни. Ну вот, например, на мой взгляд, прекрасный способ реализации — это отказ от сидения, там, за сериалами, в социальных сетях, отказ от праздного пересылания друг другу каких-то там смешных, забавных, веселых, там, картинок...
М. Борисова
— А как же котики?
Протоиерей П. Великанов
— ...в том числе, и котиков. (Смеется.) Ну вот это — это пост, да. Это пост. Это пост, это нормально, это правильно. Ну вот мы сознательно ограничиваем себя в том, что не является для нас жизненно необходимым. Вот мы, может быть, впервые задаем себе вопрос: «А без чего я могу обойтись?» Причем, я не могу обойтись без удовлетворения моих базовых жизненных потребностей. Я не могу жить на улице — ну не могу, да? Я не могу, там, не есть на протяжении суток. Ну не могу, мне будет плохо, это мы уже проходили, мы знаем. Там, я не могу не пить воды, я не могу, там, не спать определенное количество часов. Но кроме вот этого всего «не могу» у меня огромное количество всякого-разного, от чего я могу, в общем-то, совершенно спокойно как бы избавить себя, и не то чтобы прямо со скрежетом зубов — ну, да, будет какой-то дискомфорт... Да, вот если пост... Тут, давайте, тоже такая есть... Я думаю, вы, как человек, давно воцерковленный, знаете вот эту особенность, что в определенных ситуациях пост становится не только приемлемым, но даже любимым.
М. Борисова
— Ого! Да-да-да, да.
Протоиерей П. Великанов
— Вот. И вот ты думаешь: «О, сейчас пост! Какая красота! Вот она, весна души! Вот сейчас раскроешь!» И смотришь так свысока, пригорюнившись на тех, кто с ужасом смотрит на пост: «А-а, слабаки, да вам бы мой опыт!» И понимаешь, что, конечно, это абсолютно ложная, неправильная установка, потому что если тебе пост не доставляет никакого дискомфорта, ну вот это уже не пост, это уже что-то другое, и в этом нет никакого повода для самовозвеличивания. Ты просто... ты промазал — вот выстрелил, но совсем не туда, куда надо. Потому что пост, конечно, должен приносить определенный дискомфорт. Пост должен создавать, в первую очередь, я даже сказал бы, не столько вот это состояние как бы сознательного причинения себе боли (в таком... в широком смысле слова, как неудовлетворенности от чего-то), а как, скорее, пространство расширения сферы обитания, среды своей какой-то... Вот как выйти из тесной, но хорошо обжитой комнаты на улицу — вот для меня пост в первую очередь это. Именно выгрузиться из всего того, чем ты облип в своей жизни, и попробовать в таком вот разгруженном состоянии ответить себе на вопрос «а дальше куда?».
М. Борисова
— Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново, проводит с нами сегодня этот «Светлый вечер». В студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на Радио ВЕРА продолжается. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость — протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве. Отец Павел, вот есть такая вечно повторяемая ошибка, и я даже не знаю, есть ли кто-нибудь из верующих православных христиан, которые эту ошибку не совершают Великим Постом. Мы очень много раз слышали и читали слово «метанойя». Мы много раз повторяли определение, что же такое вот, что должно произойти внутри нашей души, когда мы истинно покаемся. И вот эта установка на то, чтобы во что бы то ни стало, если нужно, за уши притянуть себя в это состояние, очень часто закрывает собой другие цели возможные, и Великого Поста в том числе. Но я, скорее всего, ошибаюсь, но мне кажется, что пережить состояние полного перерождения благодаря покаяния можно ну раз, ну, может быть, пару раз в жизни. Это уникальное состояние, которое невозможно тиражировать. Мы все время пытаемся... ну подтолкнуть себя к тому, чтобы вот и еще раз попробовать испытать это, и еще раз, и мы настолько становимся поглощены вот этой целью... То есть, у нас все время происходит подмена цели — ну, мне так кажется. Если мы слышим песнопение «Покаяния отверзи мне двери, жизнодавче», покаяние — дверь, да? Предполагается, что она открывается, и дальше идет какой-то путь куда-то. В конце пути есть та цель, к которой все это движение ведет. У нас зачастую получается, что покаяние становится самоцелью, и никакого движения дальше, за эти двери не происходит. Вот как вырваться из этого порочного круга?
Протоиерей П. Великанов
— А я бы предложил посмотреть на ваш вопрос из аллегории игры на каком-то музыкальном инструменте. Вот представим себе ситуацию, что некий выпускник музыкальной школы, который, ну, все-таки научился играть на фортепиано, слышит, как играет какой-нибудь выдающийся пианист, и понимает, что ну это, конечно, позорище — то, что он играет. Он берет это произведение и начинает его каждый день вовсю наигрывать — до мозолей на своих пальцах. А как вы думаете, что с ним произойдет? Ну, наверное, предположим, что он, там, полгода играет это произведение. Станет ли он играть так же, как это гениальный, выдающийся пианист? Ну конечно же, нет. Он возненавидит эту игру и, скорее всего, потом просто вообще перестанет подходить даже к своему инструменту. Почему? Во-первых, потому, что он не гениален. У него, несомненно, есть какие-то свои таланты, но явно этот талант не в этой сфере лежит. Второе — тот музыкант, который на самом деле высокопрофессионален, он всю жизнь вложил в свою игру. И то, что мы слышим, это всего лишь маленькая верхушка огромного айсберга, под которой — титанический труд, огромная рта мысли, чувства, переживания, образ и так далее, и так далее, и так далее, чего, конечно же, у нашего выпускника школы в принципе не то, что нет, а быть не может, потому что у него своя работа, у него, там, условная семья, там... Вот. И поэтому механический перенос одного на другое ничем хорошим не закончится. Вот мне кажется, у нас произошел именно такой же механический перенос очень высоких и совершенно правильных монашеских ориентиров на практическую жизнь обычных людей. Потому что там, где монашествующий видит не то, что фальшиво взятую ноту, а где он видит не до конца совершенно правильно снятый палец с клавиши, который даже преподаватель музыкальной школы не сможет различить. У него вот нет настолько тонкого чувства и слуха, что вот неправильно, а музыкант услышит, и он скажет: «Да, как же я налажал, а?», а весь зал будет сидеть в полном восторге и говорить: «Вот это да! Вот это божественная музыка!» А он про себя думает: «Ну и дурак же я! Как же я вообще мог так опростоволоситься?» А нашему-то простому игроку — ему дай Бог просто в ту ноту попасть, и уже будет, слава Богу, хорошо. От него никто не ждет, что он будет собирать, там, многотысячные аудитории слушать, как он играет на пианино. Так вот задача все-таки наша — она в том, чтобы мы научились просто играть на духовном инструменте нашей души, на нашей душе, на скрипке нашей души вот мелодию, которая просто хорошая, которую можно слушать, от которой уши не сворачиваются в трубочку, потому что в ней каждая вторая нота фальшивая. Вот. И когда мы это научимся играть, то дальше Господь откроет следующий некий горизонт, к чему мы можем дальше двигаться. И мы знаем, что многие люди, которые как бы по факту являются, в общем-то, дилетантами, ну, любя игру, слушая музыку, они к закату своей жизни могут прямо даже очень достойно играть. Конечно, они не будут выступать в крупнейших залах но многие с удовольствием придут их послушать, потому что знают, что вот там Василий Петрович, вообще-то, прямо как-то... прямо разыгрался, разыгрался, молодец, молодец. А, значит, если возвращаться к теме покаяния, конечно, я с вами совершенно и соглашусь. Соглашусь в каком смысле? В том, что покаяние — это тшува, это поворот, это вот когда мы двигаемся в одном направлении, в какой-то момент понимаем, что это направление ведет нас в пропасть, и разворачиваемся в другом направлении. Но мы не можем постоянно поворачиваться, потому что нам придется какие-то снова искать пропасти вокруг. Все-таки этих пропастей не так и много. И если сравнить настоящее покаяние с капитальным ремонтом дома, то вот сколько раз в течение жизни человек устраивает капитальный ремонт своего жилища или переезжает в другой дом? Ну, скорее всего, это — ну, я так уж увеличу сказанное вами, — ну не больше, наверное, десятка раз, да? Вот просто представить себе, что человек больше десяти раз меняет пространство своего обитания, в котором живет, ну это вообще тяжело. Это уже ощущение, что ты, вообще-то, живешь на вокзале, да? И то же самое, мне кажется, и с покаянием. Конечно, каждый период жизни, каждые обстоятельства — все может очень по-разному сильно меняться, и оно иногда действительно требует от человека какого-то глубинного переосмысления. Ну, во-первых, это переосмысление едва ли может быть привязано к церковному календарю — оно зачастую будет обусловлено другими факторами жизни, которые с календарем никак не согласны. Вот. Во-вторых, это, конечно, требует определенной внутренней зрелости. Покаяние должно вызреть, вот оно не может... его нельзя... как сказать... его нельзя форсировать. Это, ну, в каком-то смысле, такой процесс отчуждения от греха, если идет речь именно о грехе, что вот какая-то здоровая часть твоей души должна отделиться от больной для того, чтобы эту больную часть можно было от себя отбросить. И здесь — ну, опять-таки, хочется вернуться к какой-то медицинской метафоре — бессмысленно недозревший какой-то фурункул пытаться вырезать, почему? — потому что не произошло вот это растождествление живого с мертвым. Оно еще вот... оно еще в борении, оно еще в процессе. Когда уже вот он будет... когда процесс... в общем-то, когда победа уже произойдет и он уже будет как-то сформирован, тогда можно его вскрыть, там, и вычистить, и дальше будет процесс заживления. Но вы не можете ради того, что вам поставлена задача «А сегодня у нас по расписанию вскрытие гной Ника»... «Как это? Я не понял! Что значит — „гнойника нет“? Вы должны были еще месяц тому назад его завести-то! А ну, быстро, срочно заводите!» — ну, конечно, это немножко о другом. Это немножко о другом. Поэтому я разделил бы так — что, конечно, весь призыв Церкви к покаянию (в этом смысле я с вами не соглашусь) — он, конечно, действенный. Но в какой смысле он действенный? Он действенный в том, что вот это пространство некоей внутренней пустоты и встречи с самим собой — оно, конечно, нас побуждает к тому, чтобы над какими-то сторонами души глубже задуматься, всмотреться в них, сфокусироваться на них. И в этом смысле, конечно, здесь у нас безграничное поле для творчества, для какого-то... Ну даже, в определенном смысле, свобода. Свобода! Мы можем постом в пустоте себя увидеть в каком-то новом ракурсе, который, может быть, для нас окажется совершенно неожиданным. Ну, условно говоря, мы в начале поста думали: «Вот этим постом я буду бороться со своей страстью чревоугодия!», да? А тут выясняется, что какое там чревоугодие! Там столько гордыни и осуждения, там столько куда более сладкого превозношения над всеми остальными, по сравнению с которым ты хоть мясо ешь, ты столько удовольствия не получишь! Вот. И тут, конечно, да, тут есть над чем работать. И в этом смысле Церковь вполне обоснованно ждет от нас, что если не во время такого внутреннего утеснения мы обратим внимание на эти вещи, то в другое время мы тем более их не заметим.
М. Борисова
— Протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве, проводит сегодня с нами этот «Светлый вечер». Мы, естественно, говорим о покаянии, к которому хотелось бы нас приблизиться, когда начнется долгожданный наш Великий Пост...
Протоиерей П. Великанов
— Вы знаете, вот я еще хотел бы добавить очень важный момент... Особенно в последнее время как-то он мне... ну вот прямо стал меня беспокоить. У нас практически вытеснена из нашего церковного сознания очень важная сторона покаяния — это то, что Иоанн Креститель называл «принесите достойные плоды покаяния». У нас покаяние зачастую воспринимается как просто рассказ священнику с сожалением о том, что я сделал. И, типа, после этого — а чего, с меня взятки гладки! Я покаялся, я — всё хорошо, какие ко мне вообще проблемы? Все искренне! Но, пардон, твое покаяние — оно не вотелеснено, оно не овеществлено, и, что самое главное, оно тебе ничего не стоит! Вот искренне раскаянный грех — он должен иметь цену. Не обязательно в материальном, физическом каком-то или денежном эквиваленте (хотя это тоже хорошо), а ты должен понимать, что у твоих поступков есть оборотная сторона. Вот как грех влечет всегда к себе удовольствием, но оборотная сторона этого удовольствия должна быть связана с неудовольствием, со страданием, с какой-то болью, с каким-то ущемлением своих интересов, своих возможностей, там, и так далее. Если этого нет, то это просто пустобрёхство. Тебе это ничего не стоит — прийти, сказать: «Батюшка, я согрешил тем-то тем-то». А чего это тебе стоит? Ни-че-го. Потому что если тебе это ничего не стоит, а) во-первых, ты в этом не каешься, б) ты с такой же лёгкостью, и даже с двойной лёгкостью снова вернёшься к тому же самому греху.
М. Борисова
— Но тогда объясните, почему не произошло покаяния у Иуды, который заплатил за свой грех достаточно высокую цену, включая то, что он сам себя казнил. Он признал свой грех, он не взял плату...
Протоиерей П. Великанов
— Он вернул.
М. Борисова
— ...вернул плату, и он вынес себе приговор и привел этот приговор в исполнение. Но покаяния не было.
Протоиерей П. Великанов
— Покаяния как разворота к Богу — да, действительно. То есть, он... он застрял в самом себе, он застрял в своем представлении о том, как что должно быть и почему оно должно быть именно так, а не как иначе. И вот здесь, если мы говорим о искреннем покаянии как принесении определённого плода, то здесь, конечно, в первую очередь, о том, что человек позволяет Богу быть не так, как он считает нужным, а так, как Бог есть. Вот есть Бог, есть определенные заповеди, есть определенная опять какая-то рамка. Е спасатели человек жёстко вылетает за их пределы, покаянием является не выстраивание какой-то другой, параллельной рамки (что, собственно говоря, и пытался сделать Иуда), а просто возвращение с ущемлением для себя самого. То есть, для него что было бы ущемлением? Это, конечно, признание, да, признание себя предателем перед общиной, перед Христом. Это отказ от... не то, что отказ, это... Ну представляете, какой надо принести ущерб своей репутации, своему представлению о себе самом как нормальном человеке, если ты приходишь и говоришь, что «да, это я предатель, это я вас предал»? Это огромное, так скажем... это огромное смирение надо человеку иметь. Это жертва — фактически, принести своё представление о себе в жертву ради того, чтобы быть рядом с тем, кто, собственно говоря... кто является... причиной смерти которого ты являешься. И вот если бы это произошло, то я не сомневаюсь, что такое покаяние Господь бы принял. Но для этого требуется переступить через себя. Вместо того, чтобы запускать вот процесс саможаления... Ведь то, что происходит с Иудой, это такой ярко выраженный некий предел саможаления. Он застревает на самом себе — ему жалко самого себя, и через свое застрявшее представление о себе самом он идет и совершает самоубийство. Потому что выскользнуть, как бы переступить через себя самого он уже не может.
М. Борисова
— То есть, мы в какой-то степени повторяем ошибки Иуды (ну, не в таких масштабах), потому что сконцентрированы на себе самих?
Протоиерей П. Великанов
— Да, да. То есть, мы застреваем в самих себе и не можем вырваться вот... То есть, это, знаете, такую тоже метафору хочется привести — знаете, как мышей ловят на клей, да? Кладут в серединку приманку ароматную, вокруг мажут этот невысыхающий клей, и как только мышка, устремляясь к этой приманке — хоп! — касается этого клея, начинает трепыхаться, еще больше-больше залипает и умирает. Так вот когда человек совершает грех, то можно представить себе, как он лапкой в этот клей попал, но вместо того, чтобы трепыхаться и пытаться от нее, ничего не потеряв, убежать, он отрубает себе эту лапку. И дальше всю жизнь уже она будет без этой лапки — но живая. Вот. Покаяние в этом смысле, настоящее, подлинное покаяние — оно всегда должно быть... ну, в каком-то смысле, нести какой-то ущерб для самого человека, сознательный. Ущерб не физический, конечно — ущерб в плане каких-то... какого-то комфорта, какого-то удовольствия, какого-то достатка — чего угодно. У него должно быть своё физическое измерение. Вот я чем дальше живу, особенно в плане какой-то пастырской практики, тем больше в этом убеждаюсь. Нет ничего страшнее, чем греха, под которым... в котором человек, вроде бы, кается, но покаяние, которое ничего для него не весит.
М. Борисова
— Но есть ситуативные согрешения — в поступках, в каких-то принятых неверных решениях...
Протоиерей П. Великанов
— Нет-нет, ну, мы говорим о каких-то, конечно, таких прямо вот серьёзных грехах, значимых грехах, о которых человек чётко сказал: «Господи, я, конечно, Тебе верю, но побудь, пожалуйста, там, за дверью, закрой, пожалуйста, дверь с другой стороны, с той стороны». То есть, когда человек чётко сказал Богу, что «я предпочитаю себя», имея возможность этого не делать. Это чёткое противодействие Богу. А всё остальное наше — ну, это наш хлам, это наше несовершенство, это наша несвятость, это вот наша загрязнённость грехом, мутность наша, которая, конечно, ничего хорошего в ней нет, но это, скорее, грех немощи, чем грех как сознательный отказ Богу быть.
М. Борисова
— Но если у человека действительно случился такой кризис душевный, и если он в какой-то момент такую слабину допустил и сказал внутри себя: «Господи, отойди, постой в сторонке, я хочу, чтобы не Твоя была воля, а вот здесь и сейчас хочу, чтобы воля была моя», Господь отойдёт? Отойдёт. И...
Протоиерей П. Великанов
— Конечно, отойдёт. Он себя навязывать не будет.
М. Борисова
— И человек рано или поздно попадёт в ситуацию, когда он поймёт, что случилось. И когда он захочет покаяться, захочет изменить ситуацию, но она по щелчку пальцев не изменится. И он будет ходить на исповедь и раз, и двадцать раз, и он будет предпринимать всевозможные усилия, чтобы изменить что-то в своей судьбе, он будет ездить по святым местам, он будет обращаться к старцам... На это уйдут годы, прежде, чем...
Протоиерей П. Великанов
— Это не так установка, неправильная установка. Понимаете, все-таки христианство — оно христоцентрично, а не грехоцентрично. И грех в этом смысле для нас — всего лишь помеха, всего лишь какое-то препятствие вот в нашей устремлённости к Богу. Вот тоже очень интересная тема — я бы назвал её «темой духовной стерильности». Вот пост, вообще все наши духовные подвиги — они... их можно, знаете, сравнить... Вот есть люди, которые, в силу определенной психологической травматизации в детстве, они озадачены порядком и стерильностью вокруг себя. Они терпеть не могут, если что-то где-то вот не на местах, там, идеально не выметено, не вычищено. Всё должно быть аккуратно, идеально расставлено по своим местам. А другой человек — он даже не замечает, стерильно, не стерильно, там лежит, не там... Он берет вот то, что у него под руками, и рисует картину. И рисует гениальную картину, и он весь вот в этой картине, он живёт вот в этом пространстве. Ему, может быть, там, знаете, каких-то красок не хватает — он не прекращает работу, он берёт другие. Он, может быть, даже понимает, что да ну лучше было бы пойти купить правильную краску, чем вот эти вот«, но ему важнее... Ему даже наплевать на то, что кто-то скажет: «Ну чего, дурак, что ли? Ты чего там нарисовал вообще? Там лицо, там, какой-нибудь фиолетовой краской!» Понимаете? А вот он находится в такой увлеченности вот этим образом, который он хочет воплотить, что ему даже мнение других людей малоинтересно. Вот мне кажется, верующий человек, устремленный ко Христу, он примерно такой — он не о том, чтобы вокруг него всё было сделано идеально правильно, чтобы он сам был ни в чём не погрешимый такой — знаете, вот такой праведничек«, которого ни за что нельзя никоим образом упрекнуть. Он, скорее, вот чокнутый, чокнутый в хорошем смысле, художник, для которого гораздо важнее быть рядом, чем быть приличным. Или, там, условно говоря, молодой человек, влюблённый в какую-то девушку, может быть настолько в неё влюблён, что ему даже безразлично то, как он сам выглядит, просто лишь бы где-нибудь там рядышком, хотя бы краем глаза находиться неподалеку и как-то ее воспринимать. Он просто про себя забывает, он даже забывает, там, условно говоря, надеть правильный, там, костюм и приходит не пойми в чём — не потому что он эпатирует, а просто он даже не задумывается, у него мысли даже про это нет. Вот монашествующие те же самые — иногда они могут восприниматься как, ну, неадекватные — в плане пренебрежения к своей одежде и всему прочему. Или когда мы читаем отцов, что одежда монаха должна быть такой, что если ее кто-то бросит в пыль, никакой разумный человек не захотел бы ее поднять — ну тряпка, просто грязная тряпка. Не потому, что это такой эпатаж (хотя это тоже может быть), а просто он этого не видит, ему это неинтересно. Он прикрылся чем-то — и всё, какая разница? Всё равно всё это сгниёт, всё равно это не пойдёт с ним в Вечность. А он у Христа, он где-то... он туда увлечён. Да любой хороший учёный — он тоже такой же сумасшедший! Понимаете, любой человек, у которого что-то внутри горит, он всегда «чокнутый» — для тех, у кого ничего вот внутри не горит. И вот если там, внутри ничего не горит, конечно, человек будет стараться, чтобы вот всё расставить по полочкам, быть неукоризненным, всё было хорошо. А другой — где-то и есть его за что, и сильно даже, поругать, где-то он, может, и оступается, но зато он вот даёт какой-то свой результат. Вот это горение — оно привлекает и других людей, и после себя он оставляет какой-то такой вот яркий, сильный отпечаток.
М. Борисова
— Великий Пост может послужить огнивом?
Протоиерей П. Великанов
— Однозначно. Вот у Феофана Затворника, замечательного святителя нашего, есть такая мысль, что собранный человек начинает гореть. И вот цель нашего подвига Великого Поста именно в том, чтобы нас, распластавшихся, размазавшихся по горизонтали, собрать воедино, и вот когда это происходит, внутри появляется горение. Внутри появляется та самая печь, вот это вот печение, попечение о высшем, в состоянии, котором у человека абсолютно другое качество его присутствия в жизни.
М. Борисова
— Спасибо огромное за эту беседу. Сегодня этот час «Светлого вечера» с нами провёл протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертаново. С вами была Марина Борисова, до свидания.
Протоиерей П. Великанов
— Всего доброго, и продуктивного Великого Поста!
М. Борисова
— «Поститесь постом приятным»!
Протоиерей П. Великанов
— Да!
Все выпуски программы Светлый вечер
- «Становление города Владимира». Сергей Алексеев
- «Мы в глазах других». Священник Алексей Дудин, Александр Гезалов, Елена Смаглюк
- «33-е воскресенье по Пятидесятнице». Священник Николай Конюхов
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Псалом 32. Богослужебные чтения

Однажды протоиерей Александр Шмеман записал в своём дневнике: «Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться». Эти слова напрямую связаны с главным нервом 32-го псалма Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем внимательно — нам ведь тоже интересно понять, как Бог и радость связаны друг с другом?
Псалом 32.
[Псалом Давида.]
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.
5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их:
7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.
10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей.
11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.
13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;
14 с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:
15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
16 Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
17 Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
19 что Он душу их спасёт от смерти и во время голода пропитает их.
20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;
21 о Нём веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
Весь псалом — сплошная ода радости. Но в этой оде есть и достаточно много обоснований — почему и правда, невозможно знать, что Бог есть — и не радоваться! Давайте посмотрим внимательнее.
Первое основание — Бог верен. Он — «твёрдое основание», его Слово право и дела верны. Что это значит в отношении каждого из нас? То, что Богу можно доверять. Звучит странно, не правда ли?
А дело вот в чём. Как мы знаем из библейской истории, единобожие Израиля находилось в очень плотном и агрессивном окружении языческих верований. Там богов было — на любой вкус и цвет. Отчасти мы можем почувствовать эту специфику, когда знакомимся, например, с историей шаманизма — где с духами всегда надо держать ухо востро: они коварны, своевольны, непостоянны, легко могут подвести в самый неподходящий момент. Духи — те же «языческие боги»: и что они собой представляют на практике, иудеи прекрасно знали.
Теперь с этого ракурса посмотрим на слова Давида. Он кричит от радости о том, что его Бог — совсем не такой, как эти языческие духи: Он — не лукавит и не двоится; Он не ищет какой-то Своей выгоды, Он не предаёт, Он сохраняет верность Своему слову и не переступает через Свои обязательства. Ещё бы рядом с таким Богом не радоваться!..
Идём дальше. Бог, Которому поёт свою песню Давид, — Творец всего мироздания. Не полчище каких-то непонятных сил, бесконечные трансформации через эманации, перевоплощения и прочая нагромождённая путаница — а Он, лично, можно даже сказать, «собственноручно» и создал всё то, что существует. Причём, надо отдать должное — создал не только вполне функционально, но и потрясающе прекрасно — именно для нашего, человеческого глаза! Как тут не радоваться!
А когда Давид смотрит на историю своего народа — через какие перипетии пришлось проходить, из каких непролазных дебрей выбираться, какие непреодолимые вражеские силы под действием Бога рассыпались в пух и прах — Давида просто охватывает ребячий восторг: да, это всё — Он, наш Бог — именно таков, Он — целиком и полностью «за нас!» Ну и как же тут не скакать и не плясать от радости!
Одним словом, Давид не только декларирует, что рядом с Богом и радость будет — но и доказывает эту истину с разных сторон. Так что когда нам в очередной раз придут помыслы пострадать и поунывать — самое время взять 32-й псалом и хотя бы немного прикоснуться к этой радости от близости к нашему Господу и Спасителю!
Первое соборное послание святого апостола Петра
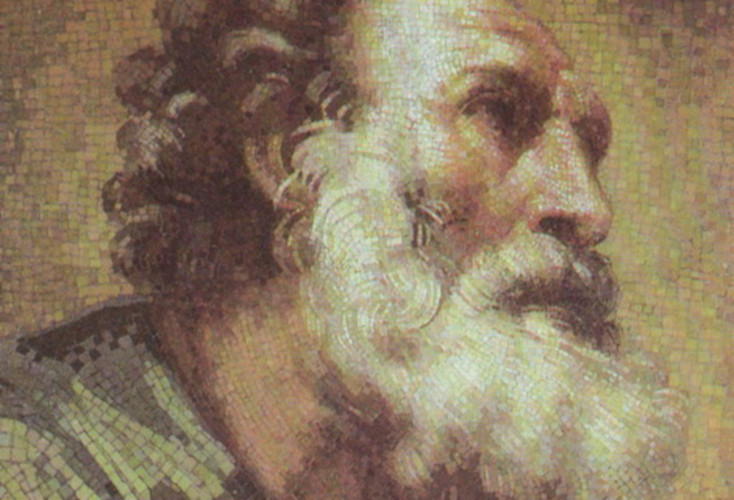
Апостол Пётр
1 Пет., 59 зач., II, 21 - III, 9.

Комментирует священник Антоний Борисов.
Дерево, как известно, познаётся по плодам. А человек? Правильно. По делам. Можно сколько угодно рассуждать о высоком и добром, но если всё словами и заканчивается, толку от рассуждений немного. Во всяком случае, именно такую мысль развивает в своём первом послании апостол Пётр. Отрывок из 2-й и 3-й глав этого библейского текста читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
Глава 2.
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Глава 3.
1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;
9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Послания апостола Петра (а их в Библии — два) носят именование соборных, то есть адресованных не конкретному лицу, а всей полноте Церкви. Хотя, быть может, мы просто не знаем, кому именно апостол Пётр писал. Какой именно общине или человеку. Но это не имеет какого-то особого значения, поскольку содержание посланий действительно касается каждого христианина. Вне зависимости от места и даже времени его проживания. Ведь, согласитесь, прозвучавшие строки, на самом деле, звучат очень актуально.
Апостол Пётр призывает своих читателей следовать примеру Господа Иисуса Христа, подражая Его пониманию мира и человека. Так, Христос никогда не боролся с людьми, а только со злом, которое люди совершали. Спаситель во время Своего земного служения проявлял поразительную мудрость, каждый раз оказываясь способным отделить человека от его ошибок. Христос никогда не мстил, не отвечал злом на зло. Но, приняв на Себя тяжесть пороков этого мира, упразднил власть тьмы через Крестную жертву. И даровал нам свободу — свободу от зла. Или как пишет апостол Пётр: «ранами Его вы исцелились».
Благодаря Христу мы теперь имеем возможность не только не бояться зла, но и не страшиться одиночества. Ведь тот, кто верит в Спасителя, следует Его заповедям, никогда не будет одинок. Во-первых, Христос будет рядом, утешая и поддерживая. Во-вторых, заповеди Господа Иисуса предполагают служение милосердия. А там, где милость, участие, терпение, там дружба и любовь. Благодаря Христу, через Христа мы получаем возможность найти родных по духу людей.
Рассуждает апостол Пётр и о том, как должны выстраиваться отношения между супругами. Он призывает мужей и жён с заботой и нежностью относиться друг ко другу, думать не только о себе, своих интересах, но и о нуждах другого. И Пётр, например, просит жён заботиться внутреннем, чем о внешнем, ведь внешняя красота приобретает какое-либо существенное значение, если она изнутри освящена добродетелями.
А мужей апостол призывает к чуткости. Мы слышали замечательные слова: «(Мужья), обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот как интересно получается. Если муж относится к жене с небрежением, то его молитвы Бог не примет. Потому что милость от Господа приходит только к тому, кто сам проявляет милость по отношению к ближнему. А ближе жены у мужчины никого нет.
И, конечно, по-настоящему вдохновляет окончание сегодняшнего чтения. Призвав читателей к единомыслию, состраданию, дружелюбию, апостол Пётр пишет: «благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Эти слова означают следующее. Если человек считает себя христианином, значит — людям рядом с ним должно быть хорошо. Ведь плодами настоящей веры являются милосердие и сострадание. Именно так на практике проявляет себя упомянутое апостолом Петром благословение, исходящее от Бога через верных Господу людей.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Творить добро: как стать участником «Клуба волонтёров»

Работа волонтёром — это не только общение с подопечными, благотворительные акции, но и текущие административные задачи. Здесь важно найти баланс, и Евгении Агаджанян — координатору проектов «Клуба волонтёров» — это удаётся.

В свободное от рабочих вопросов время Женя с группой добровольцев помогает нескольким многодетным семьям. Недавно одной из них потребовалась помощь с организацией ремонта. Трудились всей командой: как волонтёры, так и сами подопечные. Закупили материалы, поклеили обои, установили натяжной потолок, покрасили рамы и обновили освещение.
«Клуб волонтёров» существует в России более 20 лет. На регулярной основе ребята помогают многодетным семьям в сложной жизненной ситуации, а также поддерживают 25 детских домов и интернатов в 12 регионах страны. Основное внимание активисты уделяют подопечным в посёлках и небольших городах.
Для того чтобы присоединиться к Клубу волонтеров достаточно прийти на День открытых дверей, который ребята проводят каждые 2 недели. Подробную информацию об этом можно найти на сайте организации.













