
У нас в гостях была Заслуженный учитель России, детский психолог Татьяна Воробьева.
Наша гостья рассказала о своем непростом, но ярком жизненном пути и о том, как она пришла к тому, чтобы стать детским психологом. Татьяна поделилась, что она любит свое «служение», так как в нем она видит Бога.
А. Леонтьева
— Добрый «Светлый вечер». Сегодня с вами в студии: Анна Леонтьева…
К. Мацан
— И Константин Мацан. Добрый вечер.
А. Леонтьева
— Сегодня мы говорим о семье с Татьяной Владимировной Воробьевой, детским психологом, заслуженным учителем России и человеком, которого востребовали снова к нам в студию после первой нашей передачи. Я думаю, что и не в последний раз. Добрый вечер, Татьяна Владимировна.
Т. Воробьева
— Добрый вечер вам.
А. Леонтьева
— В прошлой передаче мы очень много, очень густо говорили. Это была такая передача, где я расплакалась, когда вы читали письмо своей матери.
К. Мацан
— Причем, как мы знаем, по отзывам от слушателей, расплакались слушатели тоже.
А. Леонтьева
—Все, наверное, расплакались. Мы говорили о вашем детстве, о множестве ваших открытий. Но, сейчас мы, наверное, хотели бы немножко вернуться в тот период, Татьяна Владимировна, когда вы рассказывали о том, как вы очень большую часть детства провели в детском доме. И вы сказали, что это было очень хорошее время. Для нас с Костей это было очень необычно, потому что мы привыкли думать, что детский дом — это сложное заведение и…
Т. Воробьева
— И что не всем там хорошо.
А. Леонтьева
— Да. Что ребенок выходит оттуда травмированный. И хотелось бы, наверное, к этому вернуться, да, Костя?
К. Мацан
— Просто мы прошлую беседу как раз на этом закончили. И решили, что мы к этой теме в следующий раз обратимся. Вот, продолжаем разговор.
Т. Воробьева
— Во-первых,
это было советское пространство. Сегодня мы понимаем, что оно было
глубоко идеологическим, хотим мы это принять или не хотим. И, конечно,
детский дом был пронизан идеологией, идеологией Павлика Морозова, «Тимур
и его команда» — мы все в этой идеологии жили, понимали ее или не
понимали. Но мы понимали, что «Гайдар шагает впереди…» и так далее.
Однажды, маленьким ребенком, на которого обращали внимание, многие
хотели удочерить. Мне об этом не говорили, но я не была статусным
ребенком, которого можно было удочерить, потому что мою маму не лишали
родительских прав. Но однажды, стоя у большого стенда, я до сих пор это
помню, где было написано «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», я
услышала нечаянно разговор двух женщин, одна из которых особенно
благоволила ко мне. Она сказала: «Всё это вранье и чушь». Мое детское
сердце возненавидело ее в одну секунду. А там было написано, что к
1980-му году мы достигнем коммунизма, бесплатное питание и бесплатное
всё. И мы в это, конечно, глубоко верили. Мой детский дом, надо
рассказать немного его историю, это необычный детский дом. Это 51-й
московский детский дом, который находился на Рогожском валу, он
находился вот в самом центре старообрядческом. И наши окна, спальни
наши, игровые площадки выходили на дом архимандрита. А сверху из спальни
можно было видеть жизнь этого дома. Это было длинное-длинное
одноэтажное здание, где приходили люди в черных одеяниях. Это было очень
любопытно.
Но самым любопытным было Рогожское
кладбище. Это было просто место моего паломничества. Я не знаю, почему.
Я очень его любила. Я знала, наверное, каждую могилу — вот здесь Савва
Морозов, а вот здесь воины, погибшие в войне. То есть для меня это был
поход всегда удивительно светлый, радостный и добрый. Но чтобы туда
попасть, ведь надо было создать себе маршрут — надо было сделать подкоп
под забор. Ну, можно было выйти и дойти до кладбища, всё можно было
сделать очень просто. Но нужен был подкоп. Вот такой подкоп мы сделали,
выползали туда. Выползали мы сразу на бывшие святые озера, которые
осушили и сделали стадионом завода «Серп и молот». Там мы катались на
коньках, не умея этого делать. Были одни-единственные ржавые
«снегурочки». И ты шла по снегу, потому что по льду это было невозможно,
и показывала, как ты катаешься. Но ты каталась. А еще огромное
количество храмов. Это необыкновенно. Но в храм, конечно, хотелось
заглянуть не с позиции познания Бога — не было такой позиции. А с одной
целью: найти баптистов, сектантов — ну, Павлик Морозов во всем.
А. Леонтьева
— А, то есть вы хотели там кого-то обличить.
Т. Воробьева
— Конечно.
К. Мацан
— Разоблачить.
Т. Воробьева
— Разоблачить, обличить. Но всякое разоблачение заканчивалось, как только ты входила, и ты была поражена этим подушечкам, этим женщинам, стоящим, где платочек только на три уголка завязан, никаких вот этих шею закрутить — всё очень строго, очень благочестиво. И необыкновенно красиво. Потом эти женщины давали тебе просфору, очень пресную, в виде баранки. Она была очень невкусная, но почему-то я тоже понимала, что ее нельзя бросить, ее надо как угодно грызть, но бросать нельзя. Говорила ли я кому-либо об этом? Нет. Не знаю, почему. Душа детская понимала, что не надо говорить, нечего сказать, потому что стоишь зачарованная. Но однажды мое любопытство привело меня в огромную колокольню, которая находится рядом с этими храмами. По преданию, в этой колокольне стоял Наполеон и смотрел на Москву. Рогожский вал, это тогда, скажем, последняя застава была Москвы, если мы вспомним картину Перова «У Рогожской заставы». И я зашла в эту колокольню и впервые испугалась — черные мрачные здания, стоят огромные сундуки, окованные железом — и так мрачно, так страшно. Первый раз мне захотелось убежать отсюда. И поэтому мое детство, мое отрочество сочеталось с советскими лозунгами и с удивительным интересом, любопытством к храму, к его жизни. Однажды я осмелилась, подошла, я не знаю, кто это был из клириков, и сказала: «Я так хочу петь». Я не знала слова «клирос». Он говорит: «А ты знаешь церковнославянский?» — «Нет». — «Но все равно, приходи на левый клирос». Где левый, где правый, я тоже не знала. Конечно, я не пришла никуда. И вот здесь начинается мое горькое хождение по творческим мукам. Хор — огромный хор детского дома, который будет выступать на первом телевидении, на Шаболовке. Это был наш хор. Ходили на хор обязательно. Преподавала там замечательная красивая девушка, имени ее я никогда не вспомню, конечно, по-моему. Галина. Она такая светлая, я на нее всегда любовалась. Я стояла самой первой и пела громче всех. Но то, что я пела, конечно, никому не нравилось. И однажды завуч в гневе сказала: «Что ты козла дерешь?» Меня так это обидело, но я продолжала петь. И когда мне говорили: «Слушайте друг друга», — я думала: как это слушать? Я прикладывала голову к рядом стоящему. Но… со слухом было всё плохо. И когда наш хор должны были повезти на Шаболовку, всем сшили очень красивые плиссированные сарафаны синего цвета, белые блузки. И был единственный человек, которому ничего не сшили — это была я. Меня не взяли.
А. Леонтьева
— Вас не взяли в хор?
Т. Воробьева
— Нет.
К. Мацан
— Душераздирающе.
Т. Воробьева
— Душераздирающе. Я и сейчас вспоминаю, чуть не плачу.
К. Мацан
— И мы тоже с Аней.
Т. Воробьева
— Это было так больно, это было так ужасно. Но я пережила эту боль своей бесталанности. Потом образовался музыкальный кружок, Меня туда взяли. Но тоже попросили быстро уйти. А потом была хореография. Всё было. Заметьте, я неслучайно перечисляю, как много нам давали. В хореографии я очень легко двигалась, я легко брала рисунок движения, но я не могла попасть в такт под музыку. Для меня это была такая же огромная тайна. Я смотрела на чужие ноги, я смотрела везде и на всё, но я не могла понять, что такое под музыку. Меня тоже попросили оттуда уйти, хотя мне наша любимая, она была руководителем кружка, которая сшила из разных лоскутков нам чешки, тогда чешек не было, конечно. И мне она особенно, видимо, она как-то меня выделяла. И она мне всё сшила, всё сделала, чтобы я ходила в этой короткой юбочке, в этих чешках, самых удобных, как мне казалось, самых красивых. Но из хореографии меня тоже попросили уйти. А потом был драмкружок. Там ставили какие-то очень интересные спектакли, но, к сожалению, для меня не оказалось роли. Вот роли, к которой мы подходили по возрасту, я не прошла, видимо, кастинг — роли для меня тоже не оказалось. И я осталась совершенно бесталанным человеком. Но что удивительно — сама жизнь детского дома, наполненная общением, событиями, разными приключениями, она не позволяла человеку сформировать эти комплексы неполноценности, настолько она была яркая, эта жизнь — это были поездки, это были экскурсии. Однажды мы поехали в Кремль на новогоднюю елку, и я потерялась. Это стало моим жизненным кредо, я так хорошо ориентируюсь. Я потерялась — и сам ужас, что я больше не вернусь в свой любимый детский дом, для меня это было невозможно представить. Там, конечно, все служащие спохватились. Конечно, меня нашли. Детский дом жил огромной жизнью, у нас была дача в «Заветах Ильича», у нас был пионерский лагерь, по-моему, поселок называется Пушкино, где протекает река Нара. Нас возили в «Артек», самых лучших. Меня туда не возили, я не была самой лучшей. Конечно, были приключения, были глупости, и были опасные глупости. У нас бани своей не было, и однажды нас повели в баню, она была через дорогу, рядом с библиотекой имени Белинского, где я была постоянным и самым, наверное, любимым абитуриентом этой библиотеки. И я нашла копейку. Вот первый раз — денежка, копейка. Я купила спички.
А. Леонтьева
— Да, я как раз подумала: коробок спичек — копейка.
Т. Воробьева
— Я его и купила. Но где же его зажигать? Можно было, конечно, на участке, но нет — в спальне, накрывшись одеялом, мы чиркаем спичками. И зажигается подушка.
К. Мацан
— Кошмар какой.
Т. Воробьева
— И такая дымовуха, сегодняшними словами. И что с этой дымовухой делать? Я забыла сказать о том, что этот детский дом был в здании призрения для раненых воинов. Это старинное здание, удивительное по своей красоте. Его, конечно, потом испортили новостроем. Это была анфилада лестниц, огромная, торжественная. Под ней были помещения, видимо, тогда для прислуги или для персонала, где была наша небольшая раздевалка. А потом второй этаж и столовая — это огромное помещение с амурами, с виноградными лозами. Это всё было огромным. И стояли старинные вазы. И вот в эту вазу я запихнула эту подушку. Ну, что было, можете себе представить.
А. Леонтьева
— Горящую?
Т. Воробьева
— Конечно, горящую, дымящуюся. Она перестала гореть, она просто дымила. Но что было, можно себе представить. И вот что удивительно — всегда покрывал воспитатель. Я не знаю, за любовь или за страх они работали, потому что времена еще были страшные — только что умер Сталин, то есть все проживали эти события. Это сейчас мы понимаем, в то время мы не понимали. И воспитатель нас всегда покрывал, он всегда закрывал нас, всегда. Конечно, мне досталось. Ну, поругали. Никаких гадких слов, их вообще не было, в лексиконе воспитателя не было гадких слов — уничижающих, обижающих. Я их не запомнила в своей жизни. Второе приключение тоже было очень серьезным, как испытание. Мы полезли, хотели полезть на кладбище через наш подкоп с моей подругой. Потом решили, нет, давай через забор, надо же себя тренировать. Мы полезли через забор. Я нечаянно задела ногой свою подругу, ее звали Шура Романова, я до сих пор ее помню очень хорошо. Я спрыгнула, потом спрыгнула Шура. Она сказала «ой». Ее нога была закрыта пальто. Когда она открыла ногу, там не было огромной части кожи с мясом, она была выдрана. И этот кусочек висел на гвозде и раскачивался. Господи, это было так страшно! Крови еще не было, рана побелела, кровь пойдет потом. Что делать? Бежать от Шуры? Куда бежать, кого звать? Но, к счастью, люди были вокруг нас очень отзывчивые. Ее подняли, донесли в поликлинику, ее там зашили, в изолятор положили. Я забилась за шкаф от трусости, я никому не сказала. Но Шуру-то принесли и сказали. А Шура молчит. Мы же друзья. Потом я прокралась к ней в изолятор: «Шура, как ты?» И я сажусь на эту только что зашитую рану.
К. Мацан
— Кошмар.
Т. Воробьева
— Со всей тяжестью.
А. Леонтьева
— Мы еще только начали беседовать, а у меня сердце уже скоро остановится.
А. Леонтьева
— С нами Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России. Началась очень драматично беседа — с приключений в детском доме.
К. Мацан
— Как Шура отреагировала?
Т. Воробьева
— Шура, как всегда, терпеливо. Это был удивительно терпеливый человек, смиренный, скромный. Во всем глубоко обязательный. То есть Господь мне давал в ее лице пример, какой надо быть. Я была совершенно не такой — я училась легко, в диапазоне «2» и «5». Были предметы, которые мне прекрасно давались, были предметы, которые я не понимала. И став взрослым человеком, окончив курсы нейропсихологии, я поняла, что это межполушарная незрелость. Но это будет потом. Об этом не надо говорить, но тем не менее. А Шура всегда была скромной, тихой. Но воспитатели почему-то считали, что я очень умная и способная девочка. И поэтому всегда с ребятами, которые плохо учились, мне говорили: «Таня, пойди и объясни ему, как надо делать». И я шла и объясняла. Но думала: «А что я объясню? Я сама не знаю». Но разбиралась с ними, потому что надо было объяснять. Учились мы в немецкой школе общего типа. Немецкая школа, она не входила в статус детского дома, она была отдельная, для всех ребят. Немецкий язык мы учили со второго класса. Это не значит, что я им владею, я им не владею. Потому что, к сожалению, всё мое самое светлое детство, с его походами, с его соревнованиями, с его радостями, огорчениями, глупостями — конечно, глупостей было много, но все равно такой светлой радостью и любовью, оно закончилось. Оно закончилось тогда, когда я узнала, что приезжает моя мама. Меня вызвали и сказали: «За тобой приедет твоя мама». Моя мама забрала прежде всего мою сестру. Меня возьмут только через год. И я так была этому рада. Но, к сожалению, произойдет реформа — детские дома из Москвы все уберут, их больше не будет. Будут интернаты, а это будет совсем что-то другое. Я не была ни дня в интернате. Потом, по роду своей профессии, я столкнулась с этой позицией. Это совсем другое. И для меня самым трудным…
К. Мацан
— Простите, а почему разница того детского дома, где вы жили и тех интернатов, которые пришли им на смену?
Т. Воробьева
— Другой дух. Интернат — это уже уход детей домой. Детский дом — вы всегда в детском доме.
К. Мацан
— То есть они приходят в интернат на день, на учебу…
Т. Воробьева
— Не на день они приходят, а на неделю или на три дня, в зависимости от того, что сегодня исповедуют или что тогда исповедовал статус того интерната. Но эти дети были домашние, семейные. И они, как правило, приходили из семей не лучших. И отсюда отсвет очень большой. Пробыть там, и потом стать другим — это трудно, это я всей своей жизнью потом знаю. И занимаюсь именно этими проблемами. А детский дом предполагает равный коллектив, равный. Самым трудным и большим горем для меня было, самым большим горем, когда однажды я услышала в спину брошенное кем-то: тюремщица. Я помню, что даже не понимая глубоко этого смысла, всего, что туда вкладывается, меня это очень ударило, мне стало очень больно. Контингент детей был самый разный — были дети погибших воинов, были дети, как теперь я понимаю, ссыльных, тех, кто были, как родители Шуры Романовой, в Ухте и за Ухтой где-то они там были…
К. Мацан
— А «тюремщица» вам кто сказал?
Т. Воробьева
— Я не знаю, это кто-то бросил из детей.
К. Мацан
— Это когда вы еще были ребенком?
Т. Воробьева
— Да, когда мне было лет 8, лет 9.
К. Мацан
— В детском доме?
Т. Воробьева
— Да, в детском доме.
К. Мацан
— А почему «тюремщица»?
Т. Воробьева
— Потому что моя мама сидела в тюрьме. Помните, я сказала, что контингент детей был самый разный. Здесь были и дети военных, и дети репрессированных родителей. И дети, конечно…
К. Мацан
— То есть это такой сленг внутридетдомовский.
Т. Воробьева
— Да. И вот такое прозвучало в мою спину. И я помню, как меня это очень ударило. Очень ударило. Как ребенок детского дома, вот я сейчас рассказала светлую сторону. А в ней была и другая сторона, которая отражала нас, какие мы все. И что нам хотелось и о чем нам мечталось. И конечно, хотелось авторучку, которую подарили Тамаре Новожиловой, потому что она уходит в другой детский дом, а тебе так хочется эту авторучку. И ты ее крадешь. Заворачиваешь в ковер, а потом хитро и лукаво вместе со всеми ищешь. И потом якобы находишь. И всё тебе сходит с рук. До поры. К ребятам, у кого были родители, приезжали родители. Они им привозили конфеты и так далее. И, конечно, тебе очень этого хотелось, потому что к тебе никто никогда не приезжал. Мама отчима, бабушка, которую я поминаю всегда в своих молитвах очень светло, она привела меня в детский дом. И первые слова, которые она сказала: «Это чужая девочка, это не наша». Вот тогда я впервые услышала, что я чужая. И я была поражена — от меня отреклись, от меня вот так явно отреклись. Медсестра наша, Нина Ивановна, строгая, суровая, проверила мою голову — нет ли в ней педикулеза. А у меня очень пушистые, мелко вьющиеся волосы, их было много, такая копна. Наголо меня постригать не надо, потому что при малейшем подозрении на педикулез головы постригали наголо. Это, конечно, очень трудный момент, пережить его очень трудно. Вот как я попала в 51-й детский дом. А потом к одной из девочек приехала мама. И она привезла необыкновенную коробку конфет — на ней был нарисован Буратино, и мне казалось, что коробка была таких необыкновенных размеров, мне так хотелось ее, так хотелось попробовать! Но я не знала, угостит Люда или не угостит. И я эту коробку взяла и положила к себе под подушку. Естественно, ее хватились. Я точно так же стала искать лицемерно эту коробку с конфетами. И кто-то нечаянно подвинул мою подушку и увидел, что коробка лежит под ней.
А. Леонтьева
— Мы сейчас просто умрем с Костей.
Т. Воробьева
— Я понимаю, это то, что я прожила. Никто не кричал. Ведь опять можно было солгать, что это кто-то положил. Но что произошло с детской душой, которая любила ходить и смотреть храм? Произошло такое чувство стыда, такое чувство страха! Я побежала в ванную комнату. Это умывальник, на полу, я до сих пор буду помнить красные на полу кафелинки. Я встала на колени и закричала: «Господи, милосердный, я не хочу в тюрьму, я не хочу быть тюремщицей!» Я так испугалась тогда, что я сяду в тюрьму, что моя жизнь оборвется и я не увижу своего любимого детского дома, что я не попала в тюрьму. И сижу перед вами. Это была огромная, огромная милость Божья к маленькому ребенку, который настолько искренне закричал, что он не хочет в тюрьму.
А. Леонтьева
— Татьяна Владимировна, ну все, я тоже сейчас буду плакать.
К. Мацан
— Вы рассказываете вещи, которые невозможно слушать вправду без слез. Они бьют в самое сердце…
А. Леонтьева
— На сухом психологическом языке это называется детскими травмами.
Т. Воробьева
— Это не травмы. Это уроки. Я не люблю, когда родители говорят о травмах, о комплексах. Есть уроки. Я всегда говорю: есть задача и ее надо решать. Не надо говорить «комплекс», не надо говорить «травма». Есть задача, которая обусловлена чем? — условиями. А нам надо ее решать.
А. Леонтьева
— Татьяна Владимировна, вот здесь я бы очень хотела получить то, что называется на нашей передаче сплошной пользой. Потому я помню, что после нашего разговора с вами, мы ехали с вами в машине, и вы что-то такое говорили. Это касалось психологии, но это было мне совершенно неведомо, притом что я очень много общалась с психологами. Вы сейчас говорите о том, что не нужно говорить слово «травма», которое мы все время говорим — мы уже привыкли к этому слову. Мы знаем, что нам нанесены травмы, что мы их должны их как-то проживать, что мы должны их прорабатывать, иначе у нас жизнь не склеится. Но кто-то прорабатывает, кто-то нет. Но тем не менее, есть присутствие этих травм. А вы говорите, что это были уроки.
Т. Воробьева
— Да, это были уроки. Это были уроки. Когда вы говорите слово «травма», вы уже предполагаете саможаление, виновность окружающих.
А. Леонтьева
— Безусловно.
Т. Воробьева
— Виновность обстоятельств. И вы закрываете самое важное, самый важный путь — путь благодарности, путь познания себя. Путь причинности, своей причинности. Мы сразу закрываем — мы сразу всех нашли виновными. Это неправильно. Этого быть не должно. Отсюда прорастают эти зернышки эгоцентризма — для меня, про меня — я же травмированный: я из многодетной семьи, я из детского дома… Мне должны дать фору. Нет — это твой путь, это твоя дорога, эти твои обстоятельства, это твои чувства, это твоя совесть, это твои цели. Вот и решай.
К. Мацан
— То, что вы говорите… Вот вы сейчас произнесли слово «благодарность». Я как раз сижу и думаю о том, что вот это слово, наверное, такой ключик, как мне кажется, к осмыслению самой проблемы детских домов. Потому что мы много раз уже и в этой студии с разными экспертами говорили о том, что хорошо бы, чтобы в современной России детских домов не было. Они не могут быть миссией, они не могут быть полезной и приемлемой формой. Так говорят люди, которые занимаются сиротами. И с этим вот гуманистическим пафосом трудно не солидаризоваться. И, наверное, неправильно было бы ваши слова о вашем прошлом, о вашем детстве, воспринимать, как некую апологию детских домов. Но тем не менее, то, как вы об этом рассказываете, показывает, что вы нашли в себе силы — возможность и ресурсы — быть благодарной за это. И через это как бы идти дальше.
Т. Воробьева
— Я не находила этих ресурсов — они были внутри меня. Ребенок не находит ресурсов — они внутри. Внутри того, что вокруг него. Если вокруг тебя свет — тебе светло. Если вокруг тебя тьма — тебе темно. А в темноте и страшно, в темноте и галлюцинации бывают.
К. Мацан
— Мы к этому разговору вернемся после небольшой паузы. Я напомню, что сегодня у нас в «Светлом вечере» Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России. В студии Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
А. Леонтьева
— Сегодня мы говорим с Татьяной Воробьевой, детским психологом, заслуженным учителем России. Прошла уже половина беседы и у нас сломались все стереотипы. Мы вышли из всех терминологий. Я напомню, что в первой беседе, которую мы здесь проводили, Татьяна Владимировна сказала, что для психолога самое первое пособие по психологии — это труды апостола Павла. А сейчас мы уже ликвидировали понятие «детская травма»…
К. Мацан
— И пришли к понятию благодарности. Я хочу свой вопрос чуть-чуть продолжить. Я понимаю, что вы, как ребенок, не рефлексировали, не артикулировали на тему того, что «я благодарна судьбе». Но в какой-то момент, видимо, уже во взрослой уже жизни, вы пришли к этому, если угодно, императиву благодарности.
Т. Воробьева
— Да.
К. Мацан
— В связи с чем и как это произошло? Как вы впервые подумали о своем прошлом детском доме не в терминах травмы и «меня обидели», а в терминах, что «это был мой путь и я эту задачу для себя решила». Или решала.
Т. Воробьева
— Я
поняла вопрос. Я могу сказать только одно: всё познается в сравнении.
Если мы говорим о психологии, психология — наука о душе, мы знаем это. А
с чего начинается душа? Душа начинается с чувства. Человек рождается
прежде всего с чувствами. Так называемое мышление — оно потом. А уж
воля, она совсем потом. Поэтому чувства, разум, воля. Вот какие чувства
ты прожила, когда тебе сказали: «За тобой приехали, тебя забирают». Что я
прожила? Мне хотелось спрятаться в ту самую — помните, я сказала про ту
маленькую под лестницей раздевалку — и не уходить. И не уходить. Потому
что потом начнется немножко серое отрочество, где мне будет трудно
дружить. Детский дом, тем не менее, давал определенную чистоту. Мне
трудно было общаться с ребятами с улицы, которые ругались матом и так
далее. Я этого не знала, я вообще не знала многих слов, понятий,
представлений из грязного мира — детский дом сумел сохранить в нас
удивительные чистые души. А вот по поводу вопроса, когда вы стали это
понимать? Это я стала понимать тогда, когда я поняла, что я люблю людей —
я люблю людей. У меня всегда было радостное чувство, тем не менее было
радостное чувство — готовность дружить, готовность общаться, готовность
делиться. Мне так этого всегда хотелось. Не всё получится в моей жизни
именно с этим, не всё получится — будет и грустно, будут и очень трудные
моменты в жизни, когда я останусь одна, совсем на улице, без
возможности еды, одежды. И именно тогда дружба покажет и другую сторону,
другую боль. Но от этого я не перестала любить людей. А вот я вернусь к
тому, Константин, о чем вы сказали — о детских домах. Априори отвергать
детский дом неправильно. Я всегда говорю, что все средства хороши,
которые хороши для детей. Когда мы что-то рубим резко и говорим: вот это
плохо, а вот это хорошо, это совсем не значит, что это именно так.
Благотворительный детский дом, в котором я сегодня присутствую, я
работаю — я не работаю, я служу.
Это
удивительный детский дом, он напоминает детский дом моего детства. Я с
такой любовью люблю этих мальчишек, и я с такой любовью вижу обратную
связь — простую, искреннюю. Я вижу ту работу, которую мы делаем. Она так
мне напоминает! Только она гораздо более богатая и более широкая,
потому что в ней есть Бог, в ней есть вера — поэтому это другое, это
совсем другое. Государственные детские дома — вот они да, они сегодня
действительно очень грустные. Очень грустное, к сожалению, явление. Но
ведь и опекунство сегодня очень часто носит еще более грустный характер.
Еще более грустный — когда взяли и отдали. А это ведь не собачка, это
душа человека. А он почувствовал себя в семье, а вдруг семья не понесла.
Причин очень много, я над этой проблемой много работаю, над ней думаю,
много говорю, выступаю. Поэтому я говорю, что все средства хороши, где
хорошо будет ребенку. Мы должны всё использовать — то, что поможет
малышу, мальчику, юноше, у нас одни мальчики, чувствовать себя
полноценным, радостным, благодарным человеком. Да, детский дом, где нет
веры, он действительно, к сожалению, обречен на гибель многих ребят. Это
действительно так. Когда наш детский дом закрыли, я уже девочкой,
наверное, мне было лет 14, приехала на выпускной вечер, на встречу
выпускников 51-го детского дома, в интернат, он находился в Кузьминках. И
я стала спрашивать: где те, с кем играли, где казаки-разбойники, где
все наши приключения, где поиски шпионов, где кладоискание, чего только
не было в нашей жизни. Этот погиб, этого буфером поезда убило, этот в
тюрьме, эта в тюрьме… Господи, а кто же остался? А остались единички!
Единички! Вот тогда я сказала, что я больше никогда не поеду на вечер
встреч с выпускниками. Я больше не могла переступить этот порог никогда в
своей жизни, ни в каких программах, сетях я не пытаюсь ни найти, ни
задать вопросы. Никогда. Не хочу.
А. Леонтьева
— Татьяна Владимировна, вас не хочется прерывать, но мне хочется сказать, что вы особенное явление. Из того, что вы говорите о благодарности, об уроках, отрицая все эти термины, которые про травму сейчас приняты. Я должна сказать, что после нашей первой встречи… Я присутствую на сайте, где собираются дети, травмированные. Сейчас очень модно слово «токсичные». Это дети «токсичных» родителей, они обсуждают родителей. Это такая площадка сброса их негативных эмоций, площадка даже поддержки. Может быть, что-то почитать на эту тему. Но все они объединены одним чувством — они очень ненавидят своих родителей. И я на этот сайт выложила пост, что у меня в гостях была психолог, которая сказала, что для того, чтобы выздороветь, нужно себе сказать, что таких родителей послал тебе Бог. И я спросила: как вы думаете, это работает? На самом деле, это был, тоже такой термин есть, триггер. Всех триггернуло, все начали писать очень возмущенные мне ответы, что, дескать, вы пришли, у нас тут такое было прекрасное сообщество, а вы… Можно сказать, что крамолу я сказала. Но меня очень впечатлило то, что вы сказали, то есть мне это показалось универсальным лекарством. Даже если мы считаем, что наши родители нас как-то травмировали, а мы теперь все сейчас так считаем, потому что что-то, да травмировало. И говорим, с вашей позиции, что таких родителей послал Бог, то не есть ли это универсальное лекарство для нашего же собственного излечения?
Т. Воробьева
— Конечно, это не просто универсальное лекарство — это духовное лекарство. Сейчас в детский дом поступило двое детей. Вы говорите, травмированных. Да, травмированных очень сильно — они ненавидят свою маму, а отец их недавно умер. Ненависть такая, что только «она» и по имени-отчеству. Они жили два последние года с отцом, у него онкология была. Но мать их должна забрать. По статусу мы не можем девочек оставить у себя, у нас только мальчики в детском доме. Умер папа. И мне надо найти слова, надо найти слова. Я боюсь слов написанных — слова надо говорить глаза в глаза, слова надо говорить и видеть. Иначе эти слова могут обернуться всем чем угодно. Какие же слова мне пришлось сказать? Я пригласила их к себе, мы уже знакомы, мы беседовали, я к ним, так сказать, дорожку протянула к ним. Я говорю: «Знаете, сейчас вашему папе нужна больше всего ваша молитва. И я скажу больше — нет молитвы более сильной, чем молитва детей, потому что вы чище, вы лучше, вы святые. Но молитва Богом не принимается, если мы просим и при этом ненавидим. Бог не примет такой молитвы. Но ведь это ведь молитва о том, кто вас любил. Разве ради этого мы не попросим, не скажем: "Господи милосердный, Ты помоги нам! Пусть не полюбить, но не обижаться. Ты только прими нашу молитву об усопшем отце нашем"». Да, мы встали втроем и разревелись, конечно. И мы стали читать молитву вместе. Потом они обняли меня и сказали мне спасибо огромное. Пройдет некоторое время, придет девочка и скажет: «Татьяна Владимировна, я всё понимаю, я понимаю те слова, которые вы мне говорите. Но я пока не могу». И не надо. Пока не можешь — ты не можешь.
А. Леонтьева
— Не может полюбить мать.
Т. Воробьева
— Да. Ты и не можешь. А ты и не сможешь, если ты не попросишь об этом: «Дай мне, Господи, любви от благодати Духа Твоего. Дай мне хоть капельку, хоть капельку ради папы моего». Вот и всё. А полюбить — это невозможно. Это не нам принадлежит — это принадлежит Тому, кто дает это чувство, кто Сам любовь и от Своей любви даст каждому из нас, если мы будем просить. Вот и просим — просим, стучимся. Когда мы достучимся, я не знаю. Но пока мы не достучались, мы будем здесь, где есть любовь, где тебя любят. Где ты можешь прийти ко мне, и мы с тобой поговорим.
А. Леонтьева
— Ничего себе, детский психолог. Всё не так, как я привыкла. Всё не так, что я слышу, что я читаю. То, что вы говорите, это совершенно меняет мое представление о психологии.
К. Мацан
— А если вернуться к мысли о том, что главный учебник по психологии — это апостол Павел. Это некое афористичное обобщение. Понятно, что всё сложнее, как говорят сегодня. Но, а что еще, например, из апостола Павла, из его посланий, из его фраз, цитат, вам чаще всего приходится использовать или вспоминать или обращаться для какого-то личного вдохновения?
Т. Воробьева
— Я могу сказать, что послания апостола Павла к Тимофею — два послания этих, они удивительные по своей силе. Там всё прописано — там прописано, как жить, что делать и что не делать. Вот эти два послания они действительно очень емкие. Да в каждом послании можно найти — и в послании апостола Иуды можно найти очень много нужных слов.
К. Мацан
— Например?
Т. Воробьева
— В данном случае, в этом послании сказано, что нельзя приближаться даже к одежде блудника. Когда мы говорим о целомудрии и так далее, эта мысль совершено не используется в обществе.
К. Мацан
— Послание Иуды, да?
Т. Воробьева
— Да, Иуды. Оно не звучит нигде и никак. Ведь мы знаем слова «с преподобным преподобен будешь» пророка Давида. Мы это знаем. Но мы не пользуемся этим. Но когда вдруг, что даже вот такая мелочь, даже такая мелочь, как одежда, недопустима в общении. Высокая планка? Высокая планка. Но если мы понимаем большое, то мы и маленькое сможем понять. Поэтому когда есть, тогда что-то дадим. Когда ничего нет, когда мы читаем массу литературы, особенно западной, особенно проамериканской литературы психологической, мне всегда становится немножко страшно. Совсем недавно мне пришлось столкнуться с такой проблемой — молодой клинический психолог, пишет честно. Интеллект. Я говорю, пока у тебя нет ключа к пониманию, что такое интеллект, а интеллект — это проблемно-поисковая работа. А что же вы в этой проблемно-поисковой работе для нас так важно? Наглядно-образное мышление, наглядно-действенное мышление, вербально-логическое — какое? Наглядно-действенное мышление — посмотреть, поглядеть. Совершенно верно. Заложить в речь, в память: это синее, это легкое, это шершавое, это приятное, это неприятное. Наглядно-образное — да мне не надо уже глядеть, у меня есть память, я помню, я могу сравнить. Анализ, синтез, обобщение, систематизация — это наглядно-образное мышление, выраженное в речи. Вербально-логическое — мне ничего не надо, я могу уже оперировать и апеллировать к понятиям и представлениям. Вот что такое интеллект. А вы по одному тесту Векслера, по четырем картинкам, ставите ребенку, что у него олигофрения, слабоумие. А он ребенок — он имеет потенцию на рост, на развитие, на социум, в котором он будет находиться. Но так смело нельзя. Ведь вы поставили клеймо, из которого выйти очень трудно будет. Вы уже опосредуете человеческое направление в его жизни, вы уже ставите ему знаменатель, под которым его действия уже ограничены. А кто дал такое ограничение? Вот поэтому я всегда говорю, что я, как психолог, я не работаю тестами. Я не работаю тестами.
А. Леонтьева
— Вы работаете глаза в глаза, правильно?
Т. Воробьева
— Абсолютно правильно. Мне говорят — вопросы. Я говорю, что я должна видеть ребенка. И я не разрешаю называть проблемы — я должна видеть ребенка. И, исходя из того, как я буду смотреть, какие вопросы буду ему задавать, я отвечу на тот вопрос, который я увидела, увидела проблему. И о ней я буду говорить — о проблеме, мной отмеченной. Вот это очень важно. Это очень важно. Психология — наука о душе, а не о пятке и не о животе. А коли о душе, то давайте подумаем о чувствах, о разуме, в воле, И с чего мы начнем помогать ребенку? — конечно, с его чувства комфорта. Чтобы ему было хорошо. Вот перешли на психологию. Не переходим на нее.
К. Мацан
— Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы уходим от психологии и возвращаемся обратно к семье.
А. Леонтьева
— Татьяна Владимировна, во-первых, мы ликвидировали все понятия, которыми я могла бы оперировать. Но начали мы разговор с того, что вы очень большую часть детства провели в детском доме. При этом продолжили разговор мы тем, что не было у вас никакой психологической травмы, как мы вам ни навязывали эту тему, а были уроки. И эти уроки помогли вам. Мы уже говорили в этой студии, были у нас психологи, даже был психиатр. Мы говорили, что психологами от хорошей жизни не становятся. Была такая у нас тема. Как вы думаете?
Т. Воробьева
— Я
никогда не думала, что я буду заниматься детской психологией. Никогда
не думала, никогда. Жизнь продолжала мне давать очень серьезные
испытания. Я уже сказала о том, как было просто в детском доме жить и
как было трудно входить в коллектив. Это был домашний мир, мир домашних
детей, у которых были, а у меня ничего не было. И я начала врать, что у
меня капроновое платье есть, но оно сгорело над газом. И что я была в
Африке — вот видите следы от оспы? Это была прививка от оспы. Это меня
обезьяна покусала. Мне так хотелось стать для них интересной, значимой.
Но что удивительно, я стала интересной и значимой без всякого вранья. Но
это вранье обличил учитель, классный руководитель на собрании, на
котором присутствовала моя мама. Она сказал о том, что «ваша дочь много
врет». Она так и сказала, она не пощадила уши и самолюбие родительницы,
она сказала «врет». И когда мне об этом сказали, я поняла, что надо
прекратить. Надо быть такой, какая я есть. Удивительнейшим образом я
очень легко подружилась со всеми, как-то удивительно это было легко.
Дружбы глубокой, той, настоящей, ее не было. Я подружилась с одной
девочкой, она будет в дальнейшем актрисой театра в ТЮЗе, потом Зеленый
театр. Но потом случится очень большая трагедия. Я перейду в 9-й класс, и
мою маму арестуют. Обыск будет на моих глазах, всё будет на моих
глазах. Помните, я сказала: идеология Павлика Морозова. Я всё понимала.
Вообще, детская душа всё понимает — детская душа не зашорена хитростью и
лукавством, понимает абсолютно всё. И всё правильно понимает. Не надо
никаких слов. Я понимала, что она врет, что эти безумные деньги, которые
появляются в доме, эти застолья, где присутствует директор школы,
учителя, мне всё это было очень неприятно, мне было тяжело. Мне было
очень тяжело, я очень стеснялась своей мамы. Я врала и лгала другим, что
это не моя мама. Моя мама — врач. И я придумывала себе ту ситуацию
семьи, в которой я хотела быть. Я примеряла чужие материнские одеяла на
себя. Вот тетя Катя, вот если бы она была моей мамой. Я не принимала
свою маму. И я понимала, что всё плохо в нашей семье. В нашей семье всё
плохо. Всё очень плохо. И когда маму забрали в тюрьму за воровство и
мошенничество — она якобы представлялась, что она имеет отношение к
каким-то возможностям получить квартиры, брала взятки. И вокруг нас,
соответственно, был огромный конгломерат людей, которые внешне
заискивали перед ней, верили ей. А потом они обрушились ненавистью на
меня: «Ты знала, какая твоя мать». Я знала. У меня не хватило силы
сказать замечательному врачу, которая приходила к нам: «Не надо, не
давайте денег, не ходите сюда». У меня не хватило сил, у меня не хватило
смелости. Я все понимала.
Тогда
я решу уйти из школы, потому что я не хотела никому говорить, что мою
маму посадили в тюрьму — детское самолюбие. Всё это присутствует, всё
это присутствует. А школа, которую я так полюбила, которая стала для
меня близким и родным домом. И однажды учитель истории на уроке… Я была
послушным ребенком, детский дом формирует послушание в хорошем смысле
слова. И вдруг учитель истории сказала: «Если ты думаешь, что твоя мать
может…». Она это в присутствии всего класса сказала. Я задохнулась от
того, в чем меня упрекают — что тебе всё можно. А потом случилось то,
что случилось. И я решила, что я уйду из этой школы. Я поеду в другую
школу, за несколько остановок, и буду там учиться. И туда приехала моя
подруга, которую я очень любила, которая была у нас в доме много раз,
которую очень любила мама. Она не знала о том, что маму посадили в
тюрьму. Всем я сказала, что мама уехала на север, то есть я защищалась
изо всех своих сил. В девятом классе мне было трудно, потому что голод
подступил очень близко. Я поднимала руку на уроке и просила выйти. Класс
начинал смеяться — они думали, что у меня энурез. А я подходила к
столовой и подбирала крошки, пока никто не видел. А потом класс объявил
мне бойкот, со мной никто не разговаривал, считали, что я гордячка,
зазнайка. Я не была гордячкой, я не была зазнайкой. Я просто не могла
никому ничего сказать. А потом однажды мы поедем на лыжах, и девочка
скажет: «Твой дом здесь рядом. Дай мне попить, я очень хочу пить». Я
привела ее к себе в дом. Знаете, как у Окуджавы: «А в доме нашем пахнет
воровством». И она говорит: «Какой у тебя странный дом. Как будто у тебя
нет мамы». И вот тогда, наверное, от отчаяния я выпалила: «Да, у меня
нет мамы. Она сидит в тюрьме. Иди и скажи всем». Я не знаю, что она
сказала ребятам, я не знаю. В середине 10-го я уйду из школы, потому что
надо было что-то есть. И мне напишет характеристику класс. Почему-то
тогда надо было писать характеристику.
А. Леонтьева
— Да-да. Я помню, что надо было писать характеристику.
Т. Воробьева
— И класс мне написал такую характеристику классную, как бы сейчас сказали, что я, оказывается, необыкновенный человек, со мной очень многие хотели дружить — все, все, все. И тогда я узнала, что, оказывается, я хороший человек и не такой плохой.
А. Леонтьева
— Напоследок.
Т. Воробьева
— Но осталась ли у меня обида? Нет. Я не запомнила этих ребят, они не вошли в мою душу, они не вошли в мою память, они не стали для меня значимыми. Но обиды и травмы — у меня не было этого ничего. Жизнь, юность перекрывает всё своими красками, своими чувствами, своими эмоциями, тем, что завтра. Я не знаю, проживали ли вы когда-нибудь, когда вы в детстве вдруг просыпаетесь и на сердце такая радость, как будто всё так хорошо! Когда я однажды я проснулась, мне приснилось, что я протяну руку и там много конфет шоколадных. Я протянула, а их нет. Но плакать не стала. А потом начнется мой трудовой путь. Ну, конечно, не психологом. Вдруг однажды одна соседка из нашего дома скажет: «Таня, а что не пойдешь в детский сад работать? Там и кормят». Я приду в детский сад. Мне не будет еще 18. Там будет исполняющая обязанности, и она меня возьмет. Мне до дня рождения еще будет 4 месяца. И она дает мне маленькую группу ясельную, которых надо накормить. А они маленькие, столы маленькие. И я встаю на колени, чтобы их накормить. И я так устаю. И я думаю: почему они не едят? Я бы всё съела. Почему они не спят? Я бы сейчас поспала крепче всех. Но удивительнейшим образом я понимала, не зная этой работы, не понимая эту работу, ничего в ней абсолютно не представляя, мне интересно с этими ребятами. Я пела с ними песни, которые я не умела петь. Но с ними можно было петь, никто и не скажет, что ты фальшиво поешь. Я танцевала с ними. Я не знала, что такое занятия, я не знала, что такое программное содержание — я ничего этого не знала. И когда пришла настоящая заведующая, она сказала: «Это ваша ошибка, я бы ни за что ее не взяла на эту работу». То есть я ей не понравилась. Пройдут годы и когда я уже стану, наверное, неплохим специалистом, мы встретимся с ней на одной из конференций. И я ей скажу: «Ирина Максимовна, а вы помните? Вы сейчас пришли ко мне учиться. Когда-то вы сказали, что вы бы меня не взяли. Как ошибочно первое мнение». Вот так я пришла в эту жизнь, в эту специальность. Я прошла все ступени — это и научная работа, это методическая работа, это преподавательская работа, это огромный-огромный пласт познания, но всегда с руки. Поэтому я никогда не боюсь сказать: «Давайте я с руки покажу, как надо». Психологом можно стать, как я говорю, только от горшков, пройдя…
А. Леонтьева
— От горшков?
Т. Воробьева
— Да. Что значит — от горшков? Как врач может стать врачом, только пройдя медбратовскую работу и так далее, наша специальность требует безупречного знания детей. Каждой возрастной позиции, ведущей линии, информативных показателей — только так можно стать патопсихологом, клиническим психологом. Если мы не знаем нормы, мы никогда не выделим неправильность, патологию. Надо знать безупречно детей. Поэтому это будет и кафедра педиатрии, это будет бесконечное пополнение знаний в зависимости от того, какую проблему ты решаешь. Это будут интересные проекты, за которые потом я получу звание. Это проект реабилитации детей с органическим поражением центральной нервной системы в доме ребенка. Детские дома меня не оставят в моей жизни — я много лет посвящу этой проблеме.
А. Леонтьева
— Я так понимаю, что вы до сих пор…
Т. Воробьева
— Конечно.
А. Леонтьева
— Более того, если есть такое выражение «психолог от Бога». У меня такое ощущение, что Бог… Мы сегодня прослушали чрезвычайно драматичную историю, отследили ваш путь, просто чуть не плакали.
К. Мацан
— Да, плакали.
А. Леонтьева
— Плакали. Просто делали вид, что не плачем. Но вся эта череда событий привела к тому, что вы сейчас помогаете каким-то сложным деткам?
Т. Воробьева
— Почему сложным? Это неправильное слово — «сложный». Человек — это же эксклюзив.
А. Леонтьева
— Опять не то…
Т. Воробьева
— Не надо, нельзя. Мы сразу закрываем выход, радость, возможность. Вот почему я говорю, что очень важно слово искать — очень правильное слово. Однажды в одной из книг, подаренных мне дивеевским священником, я читала там лекции в гимназии для преподавателей, для родителей и так далее. Мне подарили книгу, удивительную книгу. Сейчас не могу вспомнить ее название — это большой фолиант, очень известного священника. И он там рассказывает о своей встрече с архимандритом, покойным ныне, Кириллом (Павловым). И вот он говорит, что самый большой дар — это дар слова. И у меня, у взрослой женщины, выросли крылья. Я поняла, что за музыкальный слух, музыкальное воспроизведение, за ритмический рисунок я перед Богом отвечать не буду. За театральную роль я перед Богом отвечать не буду в полной мере. А вот за слово я буду отвечать. Поэтому психолог — это прежде всего слово. И слово, очень правильно найденное. И слово, за которое ты несешь ответ. Это огромная ответственность. Прежде всего — не самолюбие, не гордыня, не тщеславие, не себя показать и людей удивить. А, во-первых, попробуйте к ребенку прикоснитесь злой рукой, когда он к вам пришел? Ведь с ним надо поздороваться — у вас в руках уже должно быть добро, у вас уже ладонь должна быть открыта: давай с тобой познакомимся. Как тебя зовут? А меня как зовут? А что ты волнуешься? Давай-ка вздохнем. И вот теперь я слышу: пятерка, мы с тобой можем начинать работать. Понимаете, слово — не прогибание и не назидание. Слово понимания и готовности услышать — вот это слово должно быть сказано и родителю и ребенку. Он должен захотеть к тебе прийти. Подчас бывает резко. А потом: «Татьяна Владимировна, можно я к вам приду?» — «А ты же на меня обиделся». — «А можно я к вам приду?» — «Конечно, можно». Поэтому — не проблемы. Проблемы выставляют родители. Ребенок не понимает, что это проблемы. Нам надо увидеть и помочь решить эту задачу. Помните — задачу.
А. Леонтьева
— Задачу.
К. Мацан
— Спасибо огромное за эту беседу. Вообще, опасно такие беседы делать для нервной системы нашей и наших слушателей…
А. Леонтьева
— Опасно, но в то же время спасительно.
К. Мацан
— Я как раз хотел к этой второй части тезиса обратиться, что, наверное, ради таких встреч мы и работаем.
А. Леонтьева
— Мы и живем.
К. Мацан
— И живем, да. Мне очень понравилось, Аня, выражение, упомянутое тобой — «психолог от Бога». Мне кажется, у нас сегодня в гостях был психолог от Бога, где «от Бога» — это не фигура речи, а реальность. Есть посланник от Бога — вот пришел психолог от Бога нам что-то сказать. И это было воистину так. Спасибо огромное. Татьяна Владимировна Воробьева, детский психолог, заслуженный учитель России, была сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания.
А. Леонтьева
— Татьяна Владимировна, браво вам. Спасибо вам.
Т. Воробьева
— Спасибо огромное за внимание.
Иван Айвазовский. «Утро на морском берегу. Судак»

— Маргарита Константиновна, как хорошо ранним утром на побережье! Какой рассвет! Воздух прозрачный, море спокойное...
— Да, Наташа. Крым чудесен! Впервые я приехала сюда двадцать лет назад. Писала работу об одной из картин художника Ивана Айвазовского — она называется «Утро на морском берегу. Судак». Величественная крымская природа и Чёрное море были для художника вдохновением и отрадой...
— «Утро на морском берегу» вы сказали? Я ничего не слышала об этой работе. Подождите-ка, найду-ка её в интернете...
— Она не слишком известна, но мне очень нравится. Айвазовский написал её в 1856 году.
— Вот, нашла! Какая благодатная картина! Ровная гладь воды, золотой свет над морем. Вдали, в утренней дымке видны очертания крепости, стоящей на скале...
— На среднем плане мы видим парусник, он будто растворяется в тумане. А впереди, чуть ближе к зрителю — к берегу причалила лодка. Несколько человек в ярких одеждах — вероятно, купцы — забирают из лодки какие-то вещи и переносят их на берег, в повозку, запряжённую волами.
— Фигуры людей такие маленькие по сравнению с водным пространством...
— Но ещё более внушительным на картине кажется пространство воздушное — как раз этой теме я и посвятила в студенческие годы свою курсовую работу о картине Айвазовского «Утро на морском берегу». Художник умел писать небо так, чтобы оно ощущалось не просто фоном, а пространством.
— Будто чувствуешь дуновение свежего морского воздуха... Написать воздух красками! Удивительно!
— Это и взволновало меня тогда, много лет назад. Линия горизонта едва различима, и кажется, что море и небо сливаются. А оттенки голубого, сиреневого и розоватого передают радость от наступления нового дня.
— Как сейчас, на рассвете... Посмотрите, какие краски на небе перед нами! Солнце поднимается над морем, а душа радуется... Какой прекрасный мир создал Господь!
— Наверное, похожие чувства возникали у Айвазовского, когда он вот так же, как мы с тобой, только полтора века назад, сидел на рассвете у берега моря, вдыхал прохладный черноморский воздух...
— А перед ним стоял мольберт с холстом, а на холсте рождался шедевр, посвящённый морю — картина «Утро на морском берегу. Судак».
— Мазок за мазком на этом холсте появлялись очертания остатков древней крепости и фигуры людей, морская гладь и скалы...
— Да, рассматриваю картину и понимаю — здесь есть, о чём поразмыслить. Хочется увидеть полотно вживую. А в каком музее оно хранится?
— В Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге, который мы с тобой, Наташа, собирались посетить этой осенью.
— А сегодня предлагаю съездить в Феодосию, на родину художника, и зайти в картинную галерею, которая носит его имя.
— Отличная идея, Наташенька. Там хранится много пейзажей, воспевающих красоту крымской земли.
Все выпуски программы Свидание с шедевром
Вафли
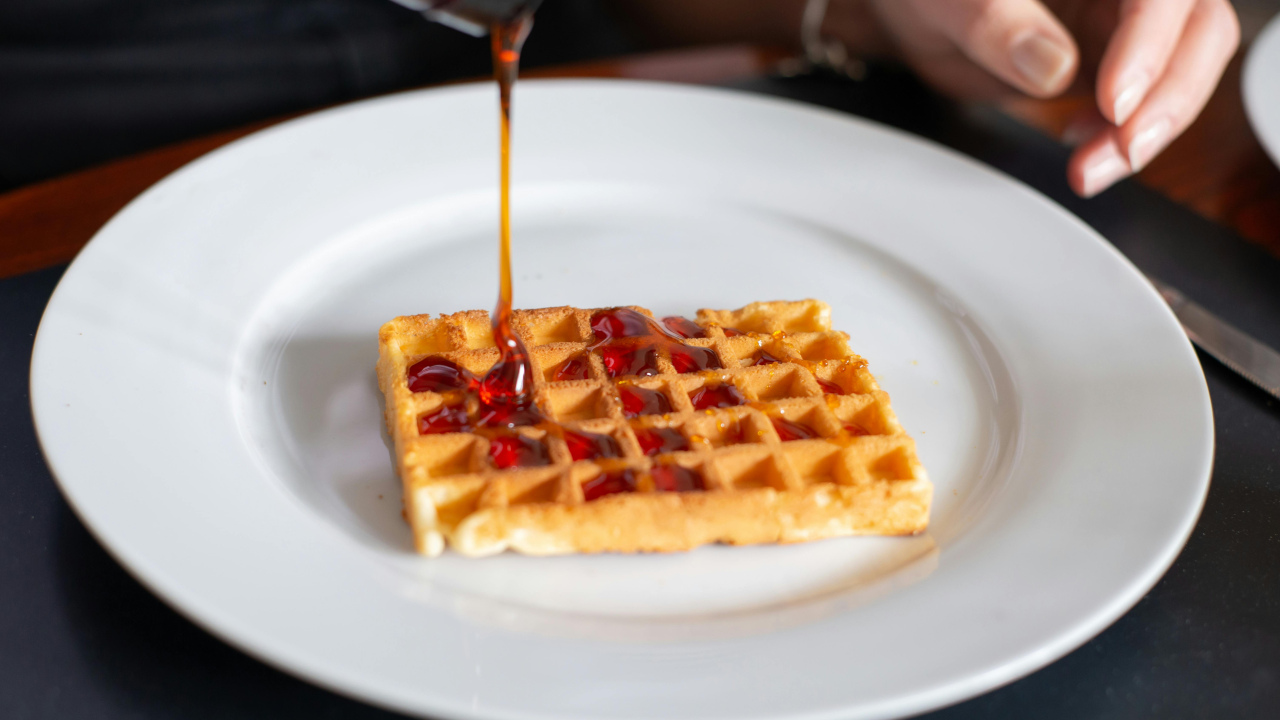
Фото: Kampus Production / Pexels
Минуты утра тают как секунды. Кофе уже на плите. Левой рукой перемешиваю тесто для вафель, хочется поддержать детей перед школой чем-то вкусным. Правой листаю сообщения школьного чата в смартфоне — объявлен сбор макулатуры. Достаю из-под раковины на кухне накопленные для этого случая старые газеты.
Второй раз бужу детей, стучу в дверь ванной, поторапливаю мужа. Прислушиваюсь... По характерному звуку понимаю — кофе убежал. Бегу к плите, протираю её, чтобы не возвращаться вечером к застывшей лужице, смотрю на часы. Ловлю себя на раздражении. Опять всё пошло не по плану. Пока вафли пекутся, наливаю то, что осталось от кофе в чашку, делаю глоток и подхожу к окну.
Взгляд падает на старушку, что стоит на тротуаре, опираясь на палочку. Я её знаю — это Баба Нина из соседнего дома. Она часто здесь гуляет. Живет бабушка со взрослой дочерью, но та много работает, приходит домой поздно. Радость для бабы Нины — поговорить с людьми, а все спешат. Это понятно — работа, учёба, дела...
Чувствую в сердце тепло и благодарность, что моя жизнь наполнена семейными хлопотами. Есть кого будить, кого торопить, кому печь вафли... Кладу несколько вафель в пакет, по пути в школу угостим бабу Нину. Делаю ещё один глоток кофе и уже совсем в другом настроении иду вновь будить школьников. Надо будет выйти из дома пораньше, поговорить с бабой Ниной.
Текст Екатерина Миловидова читает Алёна Сергеева
Все выпуски программы Утро в прозе
Галины булочки

Фото: Lum3n / Pexels
Пришла я как-то на работу пораньше. Нужно было доделать годовой отчёт. Но работа не клеилась. Мне вдруг очень захотелось есть. Вспомнила, что вчера не ужинала, а утром даже кофе не выпила. «Эх, вот бы сейчас галиных булочек» — подумала я, вспомнив потрясающую выпечку, которой нас иногда угощает наша сотрудница, отвечающая за уборку в офисе.
Вот, странное дело, никто из нас никогда не называл Галю уборщицей. Она — наш друг, член нашей большой офисной семьи. Всегда выслушает, всегда поддержит и никогда никого не осудит. И только я подумала об этом, как вижу её, идущую ко мне с улыбкой и бумажным кульком в руках. Это те самые булочки! С маком и мармеладной начинкой. А тесто... Ах, какое это тесто!
Сегодня Галя тоже пришла пораньше. Я сделала два кофе, и мы с ней устроили себе 10-минутный перерыв. Хотя, какой перерыв? Рабочий день ещё даже не начался. В общем, пока я наслаждалась кулинарными шедеврами от Гали, сама она рассказывала истории про своего сына, который стал монахом, про свои хозяйские заботы... И как-то ненавязчиво сумела меня подбодрить.
Когда я рассказала о том, как не ладится работа, она просто погладила меня по плечу и сказала: «Ничего, милая, ничего... Господь всё управит». И вдруг стало теплее на душе от её слов. Годовой отчёт я доделала на одном дыхании!
Текст Клим Палеха читает Алёна Сергеева
Все выпуски программы Утро в прозе














