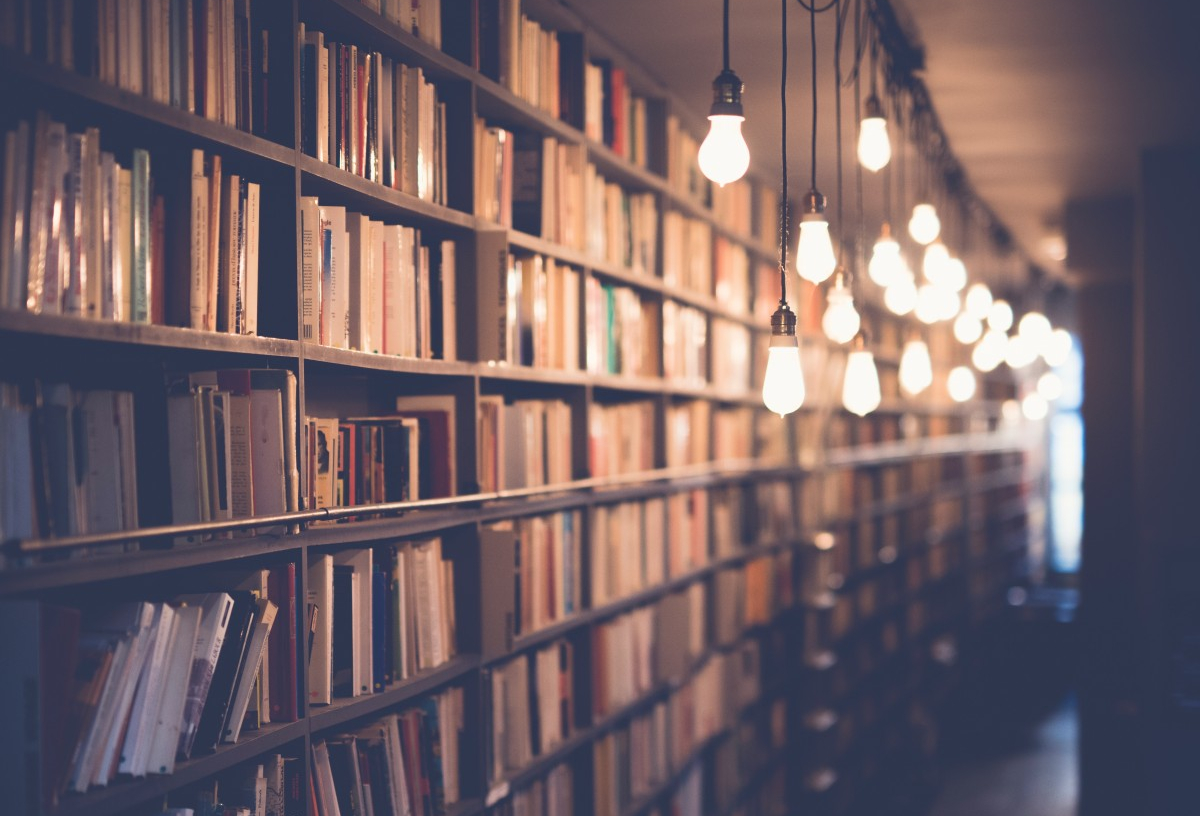
Гость программы — Олег Матвейчев, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат философских наук.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об Акиме Волынском и его окружении. У нас в гостях профессор Финансового университета в Москве, кандидат философских наук Олег Анатольевич Матвейчев. Здравствуйте, Олег Анатольевич!
О. Матвейчев
— Здравствуйте!
А. Козырев
— Помимо того, что передо мной ваша новая книга, которая называется «Титаномахия: Аким Волынский в философских дискуссиях Серебряного века», я не могу не вспомнить о том, что вы играете важную роль в нашем философском сообществе как организатор Евразийской философской премии и Евразийской философской конференции, которая уже два года проходит в Москве, и которая собирает наши лучшие философские силы, в том числе, среди номинаций есть номинация «Исследование по русской философии». Я сейчас не предвосхищаю результаты следующей премии, но мне кажется, что книга очень интересная, потому что вам удалось затронуть судьбу, историю одного человека, который далеко не в первом ряду русских философов и сам даже не совсем философ, но тем не менее очень значителен для русской мысли, русской критики, потому что русская философская критика — это совершенно особый жанр, которым занимались русские философы: Розанов, Соловьев, Франк. Они были или одновременно, или после Акима Волынского, а Аким Волынский был таким связующим звеном между XIX веком, между эпохой Владимира Соловьева и Серебряным веком, даже немножко, мне кажется, захватил советскую эпоху, да?
О. Матвейчев
— Да, немножко захватил советскую эпоху, но буквально сразу же умер, это как раз одна из причин того, что его забыли: он не попал в эмиграцию, но и не попал в советскую философию, и получилась такая вот отрезанная часть биографии. Все его поздние работы оказались неизданными, только в последние годы совместными усилиями, моими и коллег из Питера, мы издали его последние работы, это — «Гиперборейский гимн» и «Рембрандт». Причём, если «Гиперборейский гимн» — это небольшая книга, то «Рембрандт» — это 900-страничный фолиант, посвящённый величайшему художнику. Такое исследование мощнейшее, которое изучает каждую картину, каждый афорт, каждый набросок, причём в мельчайших деталях. Это просто событие в области искусствоведения мирового масштаба, то есть сто лет это лежало где-то и сейчас появилось.
А. Козырев
— То есть это вообще не издано?
О. Матвейчев
— Вообще никак. Это просто лежало в рукописи, мы всё расшифровали и издали. Сейчас сразу три издательства одновременно выпустили эту книгу.
А. Козырев
— Учитывая, что у нас замечательное собрание Рембрандта в Эрмитаже, «Возвращение блудного сына» — великая картина, все идут в Эрмитаж посмотреть на «Возвращение блудного сына». Я думаю, что более известна, наверное, книга Волынского «Леонардо да Винчи».
О. Матвейчев
— Книга «Леонардо да Винчи» в своё время, конечно, сделала ему имя, и прежде всего в Европе, когда он её издал. Совет города Милана преподнёс ему памятную доску, чествующую его за этот труд и за то, что он ещё и передал большое количество своих материалов во Флоренскую библиотеку, оценку его трудов искусствоведы итальянские отразили. Но мы должны подчеркнуть такой важный факт, что Волынский — основоположник иного взгляда на эпоху Возрождения. Мы же все знаем, что к Возрождению относятся люди по-разному: кто-то с восторгом, собственно те, кто его открыл — Мишле и Буркхардт — это были люди-фанатики той эпохи. Это середина XIX века, потому что раньше никакого Возрождения не знали, ни у Дройзена, ни у других великих историков никакого Возрождения, собственно, нет, а Мишле и Буркхардт открыли Возрождение и стали его пропагандировать.
А. Козырев
— Когда мы спрашиваем: «Был ли Ренессанс в русской культуре в Древней Руси?», этот вопрос можно бумерангом вернуть Европе и спросить: «А был ли мальчик?», как писал Горький, «а был ли Ренессанс в Западной Европе?» Потому что в традиционной историографии после Средних веков шло сразу Новое время.
О. Матвейчев
— Да, конечно. Был такой восторг у Ницше и у большого количества просто интеллигенции перед Возрождением. У нас Мережковский был одним из ярых пропагандистов, и его роман соответствующий. А Волынский дал отрицательно оценку Возрождению в своей книге «Леонардо да Винчи», тоже, кстати, большая книга с большим исследованием мировоззрения Леонардо да Винчи, его картин, причём очень скрупулёзным. Стиль Волынского — описывать каждое пятнышко на картине и его интерпретировать, разъяснять, почему оно здесь появилось, а оно, естественно, не случайно. Волынский был спинозист, он видел во всём пространственном обязательно отражение духовной субстанции, и у него закон достаточного основания: если что-то появилось на картине, значит, это кому-то нужно.
А. Козырев
— Мне показались интересными слова Гиппиус, которые вы приводите, что «до путешествия по Италии с Мережковским и Гиппиус Волынский не умел отличать картину от статуи».
О. Матвейчев
— Ну, это, конечно, преувеличение большое. У них был между собой и роман, и скандал, соответственно, вовлечённые в этот треугольник любовный Волынский, Гиппиус и Мережковский, как много нежных о себе оставили воспоминаний, так и резко критических. Но факт остаётся фактом, что Волынский обозначает Ренессанс как период культурного упадка, деградации духовной, а вовсе не Возрождения. Это потом транслировал Флоренский, а позже и Лосев, у которого это очень полно развернулось, как мы знаем.
А. Козырев
— Знаменитая «Эстетика Возрождения» Лосева.
О. Матвейчев
— Да, здесь он уже дал волю, так сказать, но корнями это уходит к Волынскому. Как мы можем наблюдать мировые исследования — Волынский оказывается первым в мире, кто отрицательный взгляд на Возрождение позиционировал.
А. Козырев
— А что его не устраивало в Возрождении?
О. Матвейчев
— Его не устраивал, прежде всего, вот этот откат к язычеству, откат от монотеистического Бога, от Единого Бога, от идеализма, от символизма определённого. То есть уход в живописание плоти, разнузданной чувственности он считал деградацией, которая ни к чему хорошему не приведет. Он с этими же явлениями, кстати, боролся и в своей современной жизни, мы же знаем, что Серебряный век тоже любил эти вещи.
А. Козырев
— Но надо ещё заметить, что Волынский по происхождению — еврей, его настоящая фамилия Флексер, а пик антисемитизма, костров, инквизиции — это как раз эпоха Возрождения, это Испания конца XV века. Удивительный феномен, почему это совпадает — с одной стороны, вроде бы, гуманизм, представление о титанизме человека, а с другой — расистский подход с изгнанием евреев из Испании, когда тот же Барух Спиноза, его предки оказались в Амстердаме, в Голландии, потому что там горели костры. Я думаю, что в определённой ксенофобии эпохи Возрождения для него тоже была какая-то угроза, которая пятно определенное на это время накладывала, да?
О. Матвейчев
— Да, конечно, он в этом смысле был совершенно нетерпимый. Кстати говоря, даже будучи совсем молодым человеком, он осмелился заметку написать против Соловьёва, когда тот выступал за некий диалог между иудаизмом и христианством. Волынский сказал: «Посмотрите, что творится на улицах, вот это черносотенство препятствует всяческому диалогу, это утопия вообще».
А. Козырев
— Черносотенства ещё не было тогда.
О. Матвейчев
— Черной сотни как таковой не было, а погромы какие-то уже были.
А. Козырев
— Официальная политика рестрикции, уже были ограничения, черта оседлости, это 80-е годы.
О. Матвейчев
— Да, это всё было. Ну, а испанскую философию Волынский знает, цитирует, и, конечно, судьбу Спинозы он прекрасно изучил, потому что был первым спинозистом, я бы сказал, в России. До первого издания Спинозы в России Волынский успел опубликовать о нём научную работу и потом сам стал издавать Спинозу, а мы его, как первого спинозиста, не чтим.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», у нас сегодня в гостях Олег Анатольевич Матвейчев, профессор Финансового университета. Мы говорим о герое его последней книги — Акиме Волынском, который был выдающимся критиком, я думаю, даже религиозным мыслителем. Вы вспомнили о Спинозе. У Соловьёва была статья «Понятие о Боге», где Соловьёв, отвечая Введенскому, доказывал, что Спиноза никакой не атеист и что Спиноза помог Владимиру Соловьёву очнуться от юношеского атеизма, от нигилизма и внедрил в его сознание понятие божества. Вот такой спинозистский тип религиозности, который был очень распространён в эпоху Волынского. Спинозу читал и восхищался им Пётр Ильич Чайковский, Спинозу конспектировал Сергей Иванович Танеев, ученик Чайковского. Что это? Почему такая любовь к Спинозе? Это что, альтернативная такая вот светская религиозность?
О. Матвейчев
— Здесь сказать за всех очень трудно. Волынскому Спиноза оказался созвучен в силу, во-первых, еврейского происхождения, он же воспитывался в синагоге, потом в гимназии, и когда он уже попал в Санкт-Петербургский университет и получил светское образование, Спиноза оказался той фигурой, которая помогла ему совместить, с одной стороны — полностью еврейское воспитание и учение талмудического, раввинистического характера, которое он очень плотно получил, а с другой — светскую европейскую мысль одновременно. Всё это у него концентрировалось в Спинозе и, конечно, для него Спиноза никакой не атеист, никакой не пантеист, а чистый, что называется, монотеист, какой только может быть. Спинозовский абсолют проявляется просто многомерно, есть атрибуты пространственные, есть атрибуты, так сказать, в разуме, и он всё время пытался эти вещи совмещать. То есть вот этот методологический аспект спинозизма Волынский взял для себя. Волынский же много о чем пишет: о картинах, о танце, он писал о Достоевском, о Лескове, о Толстом, то есть его обширная критика связана с культурой, с искусством, но везде один и тот же принцип — постраничные разборы каждой детали. Если он анализирует Достоевского, то, пожалуйста, — почему брови у Рогожина такого-то цвета, например.
А. Козырев
— Тут есть опасность, что за деталями можно не увидеть целого. То есть когда мы анализируем картину и начинаем вглядываться в каждый уголок этой картины, мы не видим целого, а целое захватывает нас некоей первой интуицией, почему импрессионисты так старались схватить первое впечатление в своих импровизациях красочных.
О. Матвейчев
— На мой взгляд, целое всё-таки Волынский захватывал, его нельзя назвать таким уж совсем деталистом, который описывает что-то ради самого процесса описания, он делает и обобщения серьёзные. Если говорить про его интуицию, то он довольно много таких вещей сделал, которые для сознания того времени были неочевидны, а его философская интуиция как раз опережала даже время. Вот я Лескова упомянул: ведь он был забыт и только на страницах «Северного вестника», который Волынский возглавил как главный редактор, он дал Лескову слово и переоткрыл его для публики, вернул его. Вообще сам канон, вот сейчас любого спросим: кто у нас самые великие писатели русские, и все сразу скажут: ну, конечно, Пушкин, конечно, Гоголь, Достоевский, Толстой, Лесков, Чехов...
А. Козырев
— Лескова не все называют.
О. Матвейчев
— Лесков там будет где-то в десятке, например. Это канон, устоявшийся для русского человека, а ведь в конце XIX века — начале XX все было иначе — Пушкин считался дворянским писателем, Гоголь был вообще ренегат, предатель и религиозный мракобес, Толстой, Достоевский — это что-то типа какого-то розового христианства и так далее. А прогрессивными были: Чернышевский, народники всевозможные, Глеб Успенский, Короленко, Помяловский — вот кто были в каноне, а эти все уже «отставшие».
А. Козырев
— Но даже если говорить о таком духовном направлении в литературе, то, например, такая фигура как Писемский, вот мы с Андреем Теслей беседовали в нашей передаче о нем — не Писемский, но Гончаров остался все-таки в пантеоне русской литературы, а Писемский был не менее известен и не менее читаем в свое время, но почему-то время как бы отбирает.
О. Матвейчев
— По-другому расставляет приоритеты. Вот те приоритеты, за которые бился Волынский, которые сейчас у нас, он их тогда стал переозвучивать и молотом сокрушать тех божков, которые были у русской интеллигенции в середине XIX века. Он ударил по Белинскому, по Чернышевскому, по Добролюбову, по Писареву, тогда считалось немыслимым, что можно на этих великих авторитетов вообще поднимать руку. Волынский стал нерукопожатным, как сейчас говорят. Когда он пришел на юбилей к Скабичевскому, где собрался весь литературный Петербург, чуть ли не 500 человек, его оттуда вытолкали взашей и сказали: как этот человек вообще может здесь появляться после того, что он сделал? Даже Соловьев, который отнюдь не разделял мировоззрение Чернышевского, и то высказал подруге Волынского Гуревич, что не всякий должен знать Гегеля (а Волынский упрекал Чернышевского в незнании Гегеля), но мы обязаны уважать подвижничество этого человека, то есть он не смел поднимать руку на Чернышевского, все считали, что он мученик, святой.
А. Козырев
— Я узнал из вашей книги, что, оказывается, Волынский стал источником четвертой главы «Дара» Набокова.
О. Матвейчев
— Да, Набоков очень оценил Волынского.
А. Козырев
— Там герой Годунов-Чердынцев в «Даре» пишет «Жизнь Чернышевского» и пользуется критикой Волынского. Это очень интересно.
О. Матвейчев
— Да. А через 15 лет выходят «Вехи», которые, по сути дела, говорят то же самое про русскую интеллигенцию, понятно, что более философски глубоко, чем это сделал Волынский. И если Волынский критиковал больше эстетические теории, то в «Вехах», естественно, в 3D и философия, и социальная роль русской интеллигенции, но тем не менее, запал тот же самый. Люди — участники «Вех», проснулись знаменитыми, их переиздавали, десятки чтений в Мережковском кружке состоялись, посвящённые «Вехам». Волынский пришёл немножко раньше и получил все оплеухи, не получил этой славы, хотя он был пионером своего рода. Вот мы говорили уже, что Возрождение он по-своему оценил, спинозистом был первым, но он был и одним из первых неокантианцев тоже.
А. Козырев
— Вот, смотрите, «Вехи» критикуют русскую интеллигенцию с позиции, скажем так, православной церковности, то есть и Булгаков, и Бердяев, и Франк, который позднее крестится, они такие неофиты. Они критикуют Чернышевского, Белинского с точки зрения христианского идеала, а Волынский с точки зрения чего критикует? Он ведь не был человеком воцерковлённым и, по-моему, даже не был крещён.
О. Матвейчев
— С позиции идеализма. Он все свои статьи собрал в сборник, который назвал «Борьба за идеализм» (кстати, это название взял потом Бердяев себе) и, по большому счёту, религии ветхозаветной, иудейской, монотеизма такого, широко понимаемого, потому что, если для официального иудаизма Спиноза — это еретик всё-таки, то для Волынского Спиноза — чистый иудей и в нём голимый иудаизм, он это всем и доказывал, так что зря ему херем объявили.
А. Козырев
— А у Волынского не было херема?
О. Матвейчев
— У Волынского тоже был херем своего рода, как раз за увлечение христианством. Он, когда вошёл в любовный треугольник с Мережковским и Гиппиус, очень много с ними времени проводил, то увлёкся христианством не на шутку и даже провёл несколько месяцев на Афоне, посетил все монастыри, выстаивал многочасовые службы, вникал в иконопись, в догматику и собрался креститься.
А. Козырев
— А как он попал на Афон?
О. Матвейчев
— Ну, добился диамотириона.
А. Козырев
— Не будучи крещёным?
О. Матвейчев
— Не будучи крещёным, вот каким-то образом ему составили протекцию.
А. Козырев
— У нас православному человеку попасть на Афон безумно сложно, человек 150 пускают паломников, а тут...
О. Матвейчев
— Да, ну где-то добился, какую-то протекцию ему составили, может быть, как раз видя в нём духовный большой потенциал.
А. Козырев
— Как же афонские монахи его не крестили?
О. Матвейчев
— Он уже почти готов был. Когда вернулся, он написал Иоанну Кронштадтскому письмо. Письмо где-то, видимо, затерялось, потому что Иоанн Кронштадтский на письма отвечал, но в данном случае не было ответа. Дальше он митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию написал, тот ему ответил и пригласил на беседы. Они три часа спорили о крещении, Волынский настаивал на той точке зрения, что иудеи должны в христианство приниматься автоматически, если они хотят, то есть допускаться к Чаше, они и так как бы внутри традиции. А у нас было сказано: нет, если хочешь быть членом Церкви, пожалуйста, водой крестись тоже.
А. Козырев
— Не только Духом, но и водой.
О. Матвейчев
— Да. И он думал, думал, думал, но крещение водой не принял. Он оставался близок к христианству, но через некоторое время, особенно под влиянием книг Розанова, постепенно стал отходить от христианства. И уже после революции даже написал ряд антихристианских статей, утверждал себя уже в рамках более широкого идеализма и того же самого иудаизма. Есть такая фраза даже: «Я был иудеем, им и останусь».
А. Козырев
— Ну, тут нет ничего зазорного по происхождению, по рождению, по семейному происхождению, он же из Житомира, по-моему, был, да?
О. Матвейчев
— Да, половина людей в Житомире были евреями на тот момент, когда он там воспитывался.
А. Козырев
— Но интересны вот эти искания, они ведь не только Волынскому свойственны. Вот Гершензон, Шестов, люди этой эпохи, которые стоят, казалось бы, у порога Церкви, и которые внесли огромный вклад в русскую философию не просто потому, что они — создатели каких-то оригинальных концепций, они написали прекрасные работы. Шестов написал о Паскале гениальную работу «Гефсиманская ночь», Гершензон написал о славянофилах, о Чаадаеве, о Грибоедовской Москве, но при этом они как бы замерли на пороге Церкви.
О. Матвейчев
— Да, тут целый ряд факторов, в том числе это было связано и с политическими моментами. Если говорить про Шестова, я много книг его прочитал, и вижу очень серьёзную антитезу Волынскому, мы, может быть, об этом поговорим, потому что Шестов очень чётко разделял иудейское мировоззрение — Иерусалим и Афины, то есть всю европейскую традицию.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Финансового университета в Москве, кандидат философских наук Олег Анатольевич Матвейчев. Мы говорим сегодня об Акиме Львовиче Волынском (Флексере), литературном критике, религиозном мыслителе, ярком представителе философского идеализма и русского Серебряного века. В первой части нашей программы мы вспомнили очень много имен, и современников его, и предшественников, вспомнили, как Волынский безжалостно расправлялся с русской революционной демократией с традицией политического радикализма. Вы пообещали рассказать, какая же разница между Волынским и Шестовым. Шестова, кстати, сейчас много переиздают, много читают, Шестова очень хорошо знают во Франции, он переведен на французский язык, а Волынский немножко как бы позабыт как мыслитель. Один француз мне сказал: «Шестов нашел свой трюк», а Волынскому не удалось «найти свой трюк»?
О. Матвейчев
— Волынский в то время как раз хорошо был известен. Когда вышли его книги, например, про Достоевского, его статьи, это моментально все переводилось в немецких журналах, а работы о Леонардо да Винчи появились в итальянской прессе. Кстати говоря, немцы в значительной степени о Достоевском узнали через Волынского, он был таким серьезным пропагандистом, так сказать, культуртрегером, и русскую литературу пропагандировал в Европе очень успешно. Он путешествовал, с ним встречался Виламовиц-Мёллендорф, классик филологии немецкой, который бросал перчатку Ницше. Они, кстати, учились в одной школе и соперничество у них давнее и принципиальное по вопросу о том, как Грецию нужно понимать. Волынский занимал позицию Мёллендорфа, и Мёллендорф этому был очень рад. Дальше он встречался с Лу Андреас-Саломе, возлюбленной Ницше, у нее жил в Баварии. То есть он и лично, и в качестве литературном был большим серьезным культуртрегером.
А. Козырев
— По-моему, он был одним из первых трансляторов Ницше в России — «Северные цветы».
О. Матвейчев
— Можно сказать, что он транслятор Ницше в России, но в негативном плане. Он с самого начала противостоял публично этому увлечению, которому был подвержен Мережковский, позже Блок, естественно, Иванов и так далее. Он всех их клеймил ницшеанцами, пытался объяснить, чем пагубен Ницше и не стоит им увлекаться. Он вообще считал, что мода на Ницше скоро пройдет, хотя сам определенным образом ницшеанством был заражен. Вот здесь как раз возвращаемся к вопросу о Шестове, который был младше Волынского, но здесь принципиальное расхождение у них в понимании исторического процесса. Для Шестова, как и для Данилевского, Европа и, например, авраамические религии — это были разные культуры и разные цивилизации, они вместе не сойдутся, поэтому книга «Афины и Иерусалим», хоть она более поздняя, как раз это и говорит, что слишком разные ценностные и прочие основания.
А. Козырев
— Ну, это ещё Тертуллиан сказал во II веке, что «Афины Иерусалиму, что язычники христианам», да?
О. Матвейчев
— Да, и вообще там много такого рода вещей о том: «что греку — мудрость, то еврею — искушение» и так далее. Понятно, что не Шестов это придумал. Но позиция Волынского была несколько иной, и он, скорее, ставит точку в известном споре Ясперса и Вебера по поводу странного первого тысячелетия до нашей эры — «Осевого времени». Ясперс, концепция «Осевого времени».
А. Козырев
— То есть известного нам спора, ему он был неизвестен.
О. Матвейчев
— Ему этот спор был неизвестен, но его философская интуиция была в том, что он сумел на него ответить. Как получилось, что в первое тысячелетие до нашей эры огромное количество мировых философий, религий и так далее на пространстве от Китая, Индии, Ирана, Балкан (опять же, берём Ближний Восток), Европу, Германию и так далее, всё вот это — почему? Что это за боженька поцеловал землю вдруг в этот момент, что такой всплеск этих всех религий, всего? Ответ, который давал Вебер — что, наверное, нужно найти какой-то общий корень, откуда всё это происходит. И вот такой общий корень как раз Волынский и постулирует в Гиперборее, термин «Гиперборея» он берёт, как и многие тогда, в начале века, от Ницше и многих историософов, которые тогда были в моде в кружках. Но он говорит о том, что совершенно реально было некое протоисторическое государство или цивилизация, скорее можно говорить о цивилизации, которая находилась на севере и которая стала луковицей, из которой потом выросли остальные цивилизации и культуры. Почему именно на севере он её постулирует, и почему для него это принципиально? Он даёт странный эстетический ответ, который мы, как учёные, наверное, как аргумент научный не приняли бы, но это вот такая интуиция. Как человек, который был и на севере, и в Италии, в южных странах, везде, он говорит, что монизм мог родиться только на севере, а изначальная религия любого человечества — это монизм, единобожие. Он говорит: «Никогда, ни в коем случае нельзя рассматривать ситуацию так, что сначала было многобожие, какой-то анимизм, и потом, на десятом каком-то этапе мы пришли к единобожию как некий поздний такой эффект. Нет, единобожие как раз изначально должно быть, а потом в качестве деградации происходит язычество». И монизм мог возникнуть только в монолитной, как он говорит, северной природе, а на юге, где буйство красок, где такое разнообразие, такая гетерогенность, гетерономность всего, только язычество возникнуть может, и вообще, там изнеженность, никакого аскетизма и религиозного духа настоящего никогда не будет. То есть юг он вот так презирал и считал, что на севере всё возникло. Он считал, что тогда народы были едины: арийцы, семиты и так далее, это всё было одно, и семиты, пришедшие с севера и поселившиеся в Палестине, сохранили вот этот монизм, они-то и стали позже евреями. Не видел он различия между Афинами и Иерусалимом, более того, говорил, что религия греческая, религия Аполлона и религия иудейская, монистическая, идут из одного корня полностью.
А. Козырев
— У этого могут быть какие-то научные подтверждения, гипотезы или такая вот эстетическая гипотеза, что люди севера цельные, а люди юга очень чувственные, страстные?
О. Матвейчев
— Я к Волынскому пришёл, изучая как раз научные современные подтверждения о Гиперборее, потому что арктическая гипотеза о том, что с севера пришли цивилизации, была сформулирована в начале XX века рядом учёных, даже в конце XIX века. То есть и в Америке, и во Франции, был такой Мейе, потом в Америке — Уоллен, по-моему, потом Бал Тилак в Индии, такое движение было, но они же все на основании фольклора, каких-то археологических данных и прочее. Потом, о Дюмезиле можно говорить — общность религии европейских народов. Но все науки гуманитарные не впечатляют учёных, которые хотят строгих аргументов. Только в XXI веке появились исследования генетические и палеогенетические, которые конкретно доказали, что индоевропейцы пришли в Индию, основали там ведическую культуру, принесли туда религию и индоевропейские языки, это произошло во II тысячелетии до нашей эры. Точно также они пришли и в Иран, и в Китай, и добрались даже до Египта и Палестины, генетические следы теперь найдены, что они туда пришли. То есть получилось, что сто лет назад то, что говорил Волынский, что евреи пришли с севера, выглядело как бред и абсурд, а теперь это получает генетические подтверждения и журналы «Human Genetics» и «Nature» публикуют статьи об этих генетических следах, о том, как с севера в Иудею приходили люди.
А. Козырев
— И в то же время Господь с Моисеем на Синае встречался, а не где-то там в Карелии, на каких-нибудь горнолыжных курортах.
О. Матвейчев
— Не в Карелии, конечно, встречались. Опять же, где заповеди давались, даже сейчас существует несколько «претендентов», скажем. Синай — это одна из гипотез, а есть еще несколько других гор, которые там были. Сейчас вообще очень сильно потрошат Ветхий Завет, разбираются, там каждая глава написана была в разное время, пытаются найти вот эти эпохи, потому что в синагогах преподавалась единая традиция, что изначально все это дано в качестве священной книги и так далее, сейчас это все рассыпается очень сильно. Но нас даже не это интересует, а то, что вот это влияние северное, северной культуры, северных народов было очень большое. Есть книги, вот недавно Петров Сергей Анатольевич, кандидат наук из Питера, написал книгу о влиянии ахеменидской Персии на религию, на становление иудаизма в Израиле. Вот сейчас Израиль с персами воюет, закидывают друг друга бомбами, мы на это смотрим. А в то время это была единая культура, которая обменивалась различными импульсами. Большое влияние, кстати, греки оказали.
А. Козырев
— Почему-то вспоминается Вячеслав Иванов, поэма «Человек»: «Когда противники увидят с двух берегов одной реки, что так друг друга ненавидят, как ненавидят двойники», иногда действительно сын восстаёт на отца и близкие люди: брат на брата, как Авель и Каин.
О. Матвейчев
— Такая вот внутривидовая конкуренция. И с греками та же история была, ведь после основания Александрии Александром Македонским перемешивание еврейских и греческих учёных было очень большим, и до этого были контакты. Есть исследования, которые говорят, что концепция создания Бога из ничего принадлежала вообще Филолаю греческому, а потом была занесена в те круги, которые тогда создавали еврейский канон, и эта идея там нашла всеобщее отражение. То есть интуиции Волынского были довольно пророческими по отношению к современным научным исследованиям.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор Финансового университета Олег Анатольевич Матвейчев. Мы говорим об Акиме Волынском, авторе книги «Русские критики». Начали с критиков, с литературного идеализма, с увлечения Спинозой и Кантом, ещё про Канта не сказали, а вдруг оказалось, что Волынский — автор какой-то совершенно фантастической историософской концепции, что была Гиперборея, древнейшая цивилизация. Были, правда, ещё сторонники Атлантиды, вот к Атлантиде он никак не относился?
О. Матвейчев
— Нет, к Атлантиде он никак не относился, эта тема его абсолютно не волновала, но учтем, что он много был в Греции, прекрасно знал греческий язык, изучал греческий танец, греческую эстетику, аполлоновскую религию.
А. Козырев
— В конце жизни танцами занимался, был директором техникума хореографического?
О. Матвейчев
— Мало того, что был директором техникума, он написал «Книгу ликований», это учебник по классическому балету, он вступал в спор с Баланчиным, с Фокиным о том, как надо танцевать. Более того, поклонниками теории Волынского о танце были, кстати, и Кшесинская, и Спесивцева, Рубинштейн, Павлова, а Рубинштейн вообще долгое время была его гражданской женой.
А. Козырев
— «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется».
О. Матвейчев
— Вот знаете, фильм Алексея Учителя «Мания Жизели», там Волынский присутствует в качестве любовника и наставника Спесивцевой. Зная древнегреческую культуру очень глубоко, он, конечно, у греков читал много о том, что они сами производили себя от Гипербореи, они этого не скрывали, там у них этого много, что из Гипербореи идет вся мудрость, приходят учителя и прочее-прочее. А Атлантида — это только у Платона, там буквально в паре диалогов он упоминает, что это легенда, которую рассказывают некие мудрецы. То есть его атлантическая гипотеза никогда сильно не волновала, он был поклонником Русского Севера, если так можно выразиться, и, конечно, поклонником того, что должен быть диалог религиозный, диалог между традициями различными.
А. Козырев
— Вы занимались же много и издавали Мартина Хайдеггера, вот эти грёзы о пространстве, такая философская топология, наверное, очень многое значит. Если мы вспомним роман Чернышевского «Что делать?», «Четвертый сон Веры Павловны», там снится какая-то удивительная земля, где всё хорошо, где уже осуществлена утопия —это район Тигра и Ефрата, то есть Чернышевский смотрит туда, в Палестину. А Волынский, который по происхождению еврей, и должен был бы туда смотреть, смотрит на север, и там ему видится вот эта мекка человечества, Олимп человечества, центр, средоточие. Это удивительно.
О. Матвейчев
— Удивительно, и ещё раз говорю, это базируется на его эстетических представлениях о монотеизме, о монизме, как таковом.
А. Козырев
— А эта гиперборейская идея была известна современникам, с кем он общался: Толстому, Мережковскому, Розанову?
О. Матвейчев
— Нет, она пришла к нему в конце жизни, это уже послереволюционная идея. По сути дела, он был одержим тремя вещами: Гипербореей, о чём он написал, Рембрандтом, по которому он в течение десятилетий писал книгу, и поздняя любовь у него — Фёдоров, он прочитал его и полностью согласился с неким возрождением, воскресением всех мёртвых, но, конечно, не в таком натуралистическо-физиологическом виде, как это было у Фёдорова.
А. Козырев
— То есть, не Соловьёв, а Фёдоров. С Соловьёвым он разругался, причём я так и не понял до конца, почему. Видимо, это какой-то психологический был момент.
О. Матвейчев
— Личные отношения, постоянные взаимные нападки, как-то это пошло у них. Одно время он пытался заманить Соловьёва к себе в журнал.
А. Козырев
— И Соловьёв печатался, стихи печатал.
О. Матвейчев
— Очень короткий период, да. Но потом они разошлись и дальше уже друг друга не любили. А Фёдорова он прочитал довольно поздно. Бердяев, по-моему, принёс какую-то заметку о Фёдорове в «Биржевых ведомостях», прочитал её Волынскому, и Волынский погрузился в него очень плотно. Конечно, не без критики, показав с богословских позиций наивность Фёдорова и материализм определённый, но согласился с общей идеей того, что мы должны служить роду, что будет всеобщее воскресение. То есть в данном случае, если он и иудей, то точно не саддукей, которые воскресение отрицали, он как раз за всеобщее воскресение выступил и посчитал, что его этика, на которой всё время Волынский настаивал, что любая литература должна быть этичной, любое произведение искусства, любая картина должна быть этичной, это от Канта он взял, потому что крупнейшую, огромную работу по Канту размером с диссертацию он написал одним из первых, до Введенского ещё, кстати. Он школу не создал, в отличие от Введенского, а кантианец мощнейший был, один из первых.
А. Козырев
— Она вышла?
О. Матвейчев
— Она вышла в «Северном вестнике», несколько номеров занимает большой трактат о Канте. И вот этот примат этики он везде пропагандировал. В этом смысле для него Фёдоров был эталоном этической философии, и он сказал, что, если Россия исчезнет когда-то и явится к Богу на суд, единственное, чем Россия оправдается за всё своё существование — это «Философия общего дела» Фёдорова. Скажет, «это создано было у нас» — абсолютно этическая концепция всеобщего братства, всеобщей жертвы. Это, конечно, ему было очень близко.
А. Козырев
— Но интересно, что среди русских мыслителей были очень церковные люди, как, например, Константин Леонтьев, который в конце жизни стал оптинским монахом. Это явный крен в сторону эстетики, то есть эстетики жизни, такого эстетического мирочувствования. А Волынский, конечно, религиозный мыслитель, но отнюдь не церковный и даже не христианский. Вот такой примат этики, как это объяснить? Может быть, этика в чём-то компенсирует такое отсутствие веры?
О. Матвейчев
— Ну, вера была для него такой традиционно иудейской. Мне кажется, здесь из Канта это легко всё объясняется, потому что Кант разрушил у молодого Волынского, на тот момент ему 25 лет было, веру в иллюзию разума и прогресса. То есть, прочитав «Критику чистого разума», он просто понял, что разум — это обманщик, который докажет всё, что угодно, и всё. И вот эти люди, русская интеллигенция, которые верят в прогресс, в материализм, в науку и так далее — это все люди, которые не прочитали Канта. И он бегал с этой книжкой и пропагандировал: «Люди, у нас в России плохо знают Канта. Вы что, всерьёз верите в разум? Вы что, всерьёз верите в науку? После Канта можно верить в науку?» Вот с таким рвением он бегал. А что остаётся тогда, если нет прогресса, нет науки, нет разума? Или ты уходишь в иррационализм чистый какого-нибудь Гартмановского или Ницшеанского типа, или ты уходишь в этику. Тем более у Канта как раз этика-то и обосновывается, то есть «Критика практического разума», этические основания. Он говорит, что Кант пытался человеческую этику создать. А зачем? У нас есть, собственно говоря, Бог, который этические заповеди дал, мы должны Ему верить, вера выше разума. И он это уже продвигал. Кстати, Флоренский сходным образом аргументировал примат веры над знанием. У священномученика Илариона (Троицкого) тоже есть про веру и знание. Я думаю, что много кто в русской философии высказывали, что вера — это не от недостатка знания.
А. Козырев
— Несмелов ещё.
О. Матвейчев
— Несмелов, да. Вера обладает бо́льшим приматом. У Волынского абсолютная аксиома, что вера гораздо выше знания и вытекающими из нее заповедями, этическим поведением. Другое дело, что он невоцерковленный был человек с христианской точки зрения и от синагоги был отлучен, поэтому оставалась у него светская вот эта религиозность.
А. Козырев
— А его личная судьба? Он так и остался одиноким мыслителем, кораблем, плавающим в открытом море и ни к чему не пристающим? Или все-таки он для себя нашел в конце жизни тихий приют?
О. Матвейчев
— У него была в молодости жена, сын родился и умер, а потом дочка, которая прожила всю жизнь и была у его смертного одра.
А. Козырев
— То есть дети были?
О. Матвейчев
— Да, вот дочка осталась в конечном итоге. Потом, кстати, у дочки родились выдающиеся довольно для нашей советской истории люди, занявшие в науке определенное место, в микробиологии, в космонавтике и так далее. Но сам он остался одиноким. Да, был роман с Гиппиус, был роман с Идой Рубинштейн, танцовщицей, какие-то еще женщины были, но он остался один. Он всю свою жизнь посвятил искусству, философии, был аскетом и, когда он умирал, даже Мариэтта Шагинян, по-моему, назвала его истинным коммунистом, потому что у него ничего не было. Единственный пиджак, в котором он всегда ходил на все приемы, банкеты, в нем он лежал и в гробу, у него не было никакого имущества, квартиры не было, он вечно снимал квартиры. А свою библиотеку, пять, кажется, тысяч томов, по тем временам огромную, он всю подарил государству. То есть человек в этом смысле беззаветно был преданный, монахом, наверное, нельзя его назвать, но аскетом точно можно назвать.
А. Козырев
— Рыцарем, я бы сказал, такой идеи. Когда мы говорим о философском идеализме, надо понимать, что это не только мировоззрение, не только философская концепция, но это и путь жизни определенный, когда человек верит в идею, во что-то возвышенное, духовное, которое проявляет себя в творчестве. Книга о Рембрандте, которую вы упомянули, — это выдающееся совершенно явление, неизвестное в русской культуре, потому что наша культура настолько богатая, что вот такие титанические произведения могут веками, по крайней мере, десятилетиями оставаться под спудом, и хорошо еще, если в каких-то архивах они сохранились и дошли до нас. Я думаю, что сегодня это будет темой для исследований, для диссертаций, для изучения. Вообще возможно достать ее, купить?
О. Матвейчев
— Да, одновременно сразу три издательства в прошлом году выпустили, хоть и ограниченным тиражом, но можно везде найти. Она большая, можно с удовольствием читать, особенно искусствоведы и любители Рембрандта найдут там очень много всего интересного. Я, например, когда читал, понятно, что навязчивая такая у него идея показать, что Рембрандт был иудеем, хотя это нигде никак не засвидетельствовано документально, но он находит везде черты иудейского быта в его картинах. Но даже дело не в этом, вот когда я читал описания его известных работ типа «Ночного дозора» и других, то просто поражался свежему совершенно взгляду, необычному, а не тому, который нам присущ в традиционном искусствоведении, он совершенно иначе смотрит на все работы. Я думаю, в мировую искусствоведческую сокровищницу эта работа войдет просто потому, что она оригинальна.
А. Козырев
— Я думаю, что наш сегодняшний разговор пойдет на пользу нашим слушателям. Для тех, кто знал это имя, кто занимался историей русского Серебряного века, откроются новые факты, а для тех, кто никогда не слышал об Акиме Волынском, будет действительно открытие, потому что это не второстепенный автор, писатель, а очень яркая звезда на небосклоне нашей отечественной мысли, словесности, критики, философии, религиоведения. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя Олега Матвейчева, профессора финансового университета, за то, что он согласился прийти в студию и рассказать нам о герое своей новой книги «Титаномахия. Аким Волынский в философских дискуссиях Серебряного века». До новых встреч в эфире Светлого радио, Радио ВЕРА в программе «Философские ночи».
Все выпуски программы Философские ночи
15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.
Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.
О его подвиге — священник Стахий Колотвин.
Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.
Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.
И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.
И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.
Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.
Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.
Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.
Все выпуски программы Актуальная тема













