В дискуссии участвовали: журналист Егор Назаренко, продюсер Мария Кирилличева и клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздра священник Иоанн Загумёнов.
Мы размышляли, как могут меняться наши представления о Боге по мере нашего духовного взросления.
Ведущая: Наталия Лангаммер
Н. Лангаммер
— Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер. В нашем клубе мы рассуждаем на темы, которые подняли в утреннем эфире программы «Частное мнение» наши авторы, и одна из таких программ становится поводом для разговора в «Клубе частных мнений», и сегодняшнюю тему предложил журналист Егор Назаренко. Добрый вечер, Егор.
Е. Назаренко
— Добрый вечер.
Н. Лангаммер
— И тема эта называется так: «Как меняются наши представления о Боге по мере нашего духовного взросления?» И чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили в студию Марию Кириличеву. Добрый вечер, Маша.
М. Кириличева
— Маша — продюсер, и Маша — дочка отца Алексея Батаногова, я думаю, что это нам поможет тоже раскрыть тему такого возрастания, потому что у Маши есть уникальный опыт, она росла в семье священника, и вера была с самого детства, да? И взаимоотношения с ней тоже как-то строились с самого детства. И у нас в гостях иерей Иоанн Загуменов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. Добрый вечер, отец Иоанн.
о. Иоанн
— Добрый вечер.
Н. Лангаммер
— И я предлагаю послушать программу, которая как раз и стала поводом к нашему вечернему разговору.
В эфире звучит программа «Частное мнение», рассказывает Егор Назаренко
— Мы называем Бога нашим Небесным Отцом, Он наш родитель, а мы Его дети. Однажды я ощутил это особенно ярко, когда обнаружил, что отношения с Богом проходят кризисы, похожие на те, что бывают в отношениях земных отцов и детей. Младенец нуждается в родителях абсолютно, его носят на руках, кормят с ложки, помогают делать первые шаги, также и с Отцом Небесным. Когда я только уверовал, только пришел в церковь, также нуждался в постоянной поддержке, помощи. Когда осваивал первые молитвы, впервые исповедовался, впервые оказался на службе, ничего не понимая из происходящего, Господь посылал мне людей, на которых я мог опереться. И, конечно, я у него выпрашивал подарки, и Он дарил, как дарят детям родители, балуя. Спустя годы, повзрослев, дети начинают искать самостоятельности, независимости, начинают тяготиться опекой родителей, что-то похожее стало происходить и в моем общении с Богом спустя несколько лет после моего воцерковления. Произошло некое охлаждение с моей стороны, я чувствовал, что устал от всего. Не хотелось ни приходить на литургию, ни вообще молиться, ни-че-го. И объяло страшное чувство отдаления от Бога. Что же это? В отношениях с родителями наступает момент, когда молодой человек хочет жить самостоятельно, вроде уже не нужна ни защита отца, ни опека матери. Он уходит днем и приходит вечером, в ответ на пожелания родителей: ну хоть бы что-то рассказал о своей жизни — только отмашки, не торопится делиться. Не похоже ли это на отношение к молитве в этот период взросления? Дескать, Боже, сам тут разберусь. И чем дальше, тем больше затягивает юношеская жизнь, своя, независимая, учеба, работа, личная жизнь, когда тут успевать обращать внимание на родителей? Дай Бог, позвонишь поздравить с праздниками и дежурно отчитаться, что все нормально. Это этап кризиса в отношениях, когда старые схемы уже не работают, а новые еще не сформировались. Так у меня было и с Богом. Помню, хватало сил только, чтобы сказать: «Господи, благослови на сон», встав перед иконами или уже лежа в кровати. Когда начинаются взрослые отношения с родителями? Думаю, в момент осознания, что в них, в родителях, нет физической потребности, как у младенцев. Мы не зависим от них и можем при желании уйти, не видеть их больше. Мы можем уйти и от Бога во время кризиса, Он нас не держит. Но каково нам? Вроде и свобода, и холод внутри. Из того состояния мне помогло выйти осознание, что можно выстроить с Богом другие отношения. Он перестал быть для меня родителем, который смотрит за каждым шагом, у которого нужно выпрашивать игрушки. Я ощутил, что взрослые отношения с Богом, как и с родителями, начинаются тогда, когда меньше просишь, а больше приглашаешь в свою жизнь. Делишь с Ним радости и печали, общение становится простым и понятным. Звоню родителям: «Мам, пап, как дела? Приходите в гости, чаю попьем с тортиком». И мы сидим вместе за столом, и нам хорошо просто от пребывания рядом с близкими людьми. Также мы можем призывать и Бога в свои бытовые радости, делиться всем, что дорого, быть с Господом рядом просто потому, что сердце любит Его.
Н. Лангаммер
— Вот такая программа, вот такие мысли были у Егора. И по традиции я начну с вопроса к Егору: почему эта тема для тебя стала актуальной?
Е. Назаренко
— Тема стала актуальной в силу того, что, как я описывал в этом тексте, я сам переживал опыт какого-то взросления с какими-то сложностями на этом этапе, и я посчитал, что все молодые люди, которые проходят какой-то подростковый возраст с шероховатостями с родителями, также они могут — те, кто воцерковлены — проходить такие же этапы в своей церковной жизни, и поэтому, мне кажется, важно озвучивать эту тему, что...
Н. Лангаммер
— Озвучивать, наверное, в молитве, да? С Богом проговаривать это?
Е. Назаренко
— Тему и с Богом проговаривать, и делиться с другими людьми, что побудило меня написать этот текст.
Н. Лангаммер
— Вот что мне было очень интересно, почему мы решили эту программу вечернюю делать с тобой: когда мы обсуждали этот выпуск утреннего «Частного мнения», ты рассказал историю, как пришёл к батюшке, как ты просил у него совета, как проходить кризисы, и он сказал очень интересную вещь, (я перескажу, ты меня поправишь) что когда идут вот такие этапы взросления — это как будто мы растём, и на нас маечка детская разрывается, вот так же наше представление о Боге разрывается на каждом новом этапе взросления, а значит, оно становится негодным, да? Мы ищем нового представления, мы его формируем, и при этом случается, наверное, потеря контакта с Богом — как, отец Иоанн, вот так это происходит в кризисах?
о. Иоанн
— Когда что-то разрывается, когда какая-то одежда снимается, вопрос, что надевается взамен. Если эта маечка разрывается и оставаться в этой метафоре, вопрос, что будет дальше? То есть это будет какая-то другая майка или это будет там кардиган, или это будет худи. Вопрос, что надевается дальше. И в любом случае что-то надевается, в любом случае человек идёт дальше в своём пути, и в том числе, в своём пути религиозном. Конечно, жизнь человеческая — это как кардиограмма, она то вниз, то вверх и тут нет такого, что статика. Статика только тогда, когда человек умирает, и только в таком случае есть вообще какую-то вот прямо стабильность-стабильность в религиозных взглядах, в духовности. В целом вера, она тоже меняется, как и жизнь человека, она динамична, и это совершенно нормально, мне кажется.
Н. Лангаммер
-Ну, потеря отношений с Богом при разрыве вот этого вот одеяния, хитона нашего — это нормально? Ощущение, что «всё, всё не так, я не так себе Тебя представляла, вообще Ты где, я Тебя не понимаю» — это нормальное состояние?
о. Иоанн
— Ну вот когда мы говорим об отношениях с кем-то, вот есть у меня Егор, и я могу сказать про отношения с Егором, который вот сидит передо мной. А если мы говорим про отношения с Богом, то тут, наверное, уже в принципе иное, потому что Бог поругаем не бывает, и мы так-то вот в быту говорим, конечно: «Бог на меня обиделся», допустим, но все мы прекрасно понимаем, что Бог на нас не обидится, и Он всегда про принятие и всегда про готовность человека снова обратно взять в Свои объятия, снова обнять, поэтому едва ли можно сказать, что вот эти отношения, они полностью испортились. Если даже одна сторона, она отвернулась, другая сторона в этих отношениях, она всегда направлена на принятие и на готовность пойти навстречу.
Н. Лангаммер
— То есть речь идёт о том, как мы себе рисуем Бога, да? Это с нашей стороны всё происходит, ну и тем не менее. Маша, а у вас были такие этапы, когда вот эта маечка рвалась?
М. Кириличева
— Мне кажется, так оглядываясь на свою жизнь назад, ощущение, что у меня больше половины жизни прошла именно в этих этапах. И мне кажется, что у меня очень сильные были внутренние переживания, и в какой-то момент неистовая, сильная и очень глубокая детская вера сменилась, наверное, настолько же сильным и глубоким равнодушием. Наверное, вначале скорее это было отрицание, но при этом, знаете, не с позиции Бога — нет, конечно, у меня такого никогда не было, и родители очень много сделали для того, чтобы я всегда знала: что бы ни происходило в жизни — Бог есть. Но при этом ощущение, что в моей жизни Его нет, и что бы я ни делала для того, чтобы Он был, это просто не работает. Ну, значит, со мной что-то не так, и, значит, раз со мной что-то не так, то я пошла.
Н. Лангаммер
— Пошла куда, Маша, куда? Нет, со мной что-то не так, Бог есть, и что, я тогда пошла, без Него буду?
М. Кириличева
— Ну, как-нибудь. Не то чтобы вот так, знаете, вот равнодушие, оно, наверное, чем плохо: ты даже не принимаешь решение, что я ушла, это вначале, а потом тебе как бы и неважно. И, наверное, это самый такой тяжёлый жизненный этап, когда ты не ищешь, ну просто вот как есть, так и есть. И, наверное, тут ещё засада в том, что всё время где-то внутри есть вот эта такая маленькая... ну родители же много вложили, и есть вот это ощущение, что ты не права, но его можно глубоко подавить, не обращать внимания, убегать, но есть вот это ощущение, что как бы что-то не так, несмотря на то что всё так.
Н. Лангаммер
— Вот этот момент, когда мы отходим, и мы вроде бы как бы свободны уже, мы и без Тебя, мы Тебя не поняли, Господи — а что зовёт назад? Вот это такой важный момент. Егор, вот что у тебя был за момент, когда вроде как будто назад позвало?
Е. Назаренко
— Да, у меня был похожий момент, связанный с равнодушием, когда в безвоздушном пространстве таком находишься, витаешь где-то, Бог где-то в Своём мире, ты в своём. А что как-то меня приземлило, каким-то якорем было — для меня лично это была молитва, потому что у меня «маечка разорвалась», и чувствовался, как я сказал, там холод, и ничего не вдохновляло.
Н. Лангаммер
-А ты молился, вот когда она разорвалась? У тебя какое-то правило оставалось ежедневное?
Е. Назаренко
— Скорее даже не правило, а какие-то воззвания, какие-то душевные порывы всё равно хотелось излить, и я понимал, что эти душевные порывы я могу излить только пред Ним. Это было не какое-то правило, вот просто вставал перед окном ночью — мне нравится, когда темнота, особо не отвлекаешься, и вот что-то говоришь, и это само чувство как-то помогало связаться. И мало-помалу это помогало собрать какие-то остатки, найти новую «рубашку», возможно.
Н. Лангаммер
— Интересно, отец Иоанн, вот правда, когда человек уходит от Бога, ходит где-то, мы же свободны, Господь нам даёт эту свободу, а как без молитвы, без контакта с Ним пойти назад? Откуда силы-то на это берутся? Вот у вас, наверное, была не одна исповедь, ну хорошо, не исповедь, а духовный разговор с чадами на вот эти темы, у которых были такие проблемы. Что помогает людям сделать шаг назад, в смысле — к Богу, если мы ушли не туда?
о. Иоанн
— Мне кажется, если человек зашёл в храм, он уже сделал этот шаг назад. Другой вопрос, когда человек вне храма, он считает себя атеистом, может быть, или агностиком, что сейчас достаточно популярно. И назад — это всегда вопрос: куда? Потому что кто-то приходит к вере как таковой, но говорит себе там: «я многого-многого не знаю, я вот буду как агностик», это достаточно распространено в молодёжной среде. А кто-то вот именно заходит в храм, и если человек зашёл в храм уже, это прямо такой шаг-шаг, и священнику в этом плане, наверное, просто, потому что он на своей территории, что ли, и это уже шаг в направлении контакта, это уже готовность к построению контакта. Но кто-то в храм приходит иначе, конечно, кто-то просто заходит, смотрит, так вокруг озирается, кто-то заходит и ставит свечку, когда нет службы.
Н. Лангаммер
— А из ваших духовных чад этапы такого поиска проходил кто-то?
о. Иоанн
— Мне не совсем близко это слово «духовные чада». Конечно, мы часто общаемся с людьми на духовную тематику и вот этот поиск, он есть. Он есть, и, как говорил Тертуллиан, душа каждого человека по природе — христианка. Конечно, поиск есть у каждого, даже такое направление в психологии есть: экзистенциальное, экзистенциальный анализ. Каждый ищет ответы на вопросы о смысле, на вопросы о смерти, и еще есть несколько вопросов экзистенциального характера, которые так или иначе находят какие-то ответы, они могут быть в христианском ключе, могут быть в каком-то другом ключе, и естественно, люди приходят, конечно, мы можем поговорить об этом, но этот разговор, он очень интимный, скажем так. То есть, если вообще человек стал говорить о своем поиске веры, то это говорит о том, что он очень-очень-очень доверяет, и это какая-то максима. Как был такой Федор Ефимович Василюк, он говорил, что максима терапии — это молитва, когда психолог с клиентом могут помолиться. Ну вот на это даже стороны так посмотришь — как это, психолог с клиентом молится? Это говорит о том, что настолько вот альянс, что называется, в психологии есть, настолько есть глубокий контакт и такой уровень доверия, что прямо супер. Но такое, конечно, бывает не всегда, но бывает.
Н. Лангаммер
— Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер, и мы сегодня обсуждаем тему «Наше взросление в Боге. Как по мере возрастания меняется наше представление о Господе?» И у нас в студии журналист Егор Назаренко, продюсер Мария Кириличева и иерей Иоанн Загумёнов. И я хотела бы, знаете, вернуться к такой части нашего названия, как «представление о Боге», ведь если у нас происходит какой-то конфликт, он, как мы уже выяснили, происходит не с Богом, а с неким персонажем, которого мы себе представили. Вот эти представления, как они меняются? Вот первичное представление о Боге, давайте с детского начнём. Маша, какое у вас было представление о Боге, Он кто, вот первое?
М. Кириличева
— Наверное, у меня ощущение, что он был мой папа, мне кажется, если мы говорим про самое первое. Папа был настолько значимой и уникальной фигурой в моей жизни, что, скорее всего, подсознательно и довольно долго я воспринимала как тире. Ну, конечно, тогда это было неосознанно, вряд ли я так понимала, но у меня прям образ очень сочетался в моей голове.
Н. Лангаммер
— И внешне тоже, да?
М. Кириличева
— Да, у него были такие длинные волосы, он такой красивый, большие голубые глаза, он приходит в храм, знаете, вот так вот руки воздевает к небу, люди все кланяются, ну просто идеальный момент. А потом, кто Он — вы знаете, мне кажется, что тут очень хороший вопрос ещё: а кто ты? И в каких ты отношениях с собой? И если ты в своих отношениях с собой не очень преуспел, то, наверное, с Богом у тебя отношения подобные. Если ты находишься в стадии непринятия себя, нелюбви к себе, неуважения к себе, то, наверное, скорее всего, как-то примерно так же ты можешь относиться и к Богу, так, как ты рисуешь некий его образ. Возможно, это ошибочное представление, мне только что пришла в голову эта мысль, я не могу сказать, что я хорошо её обдумала, но кажется, что где-то так.
Н. Лангаммер
— Это, наверное, и было причиной первого кризиса, нет?
М. Кириличева
— Да, у меня сложные отношения с собой, и в момент, когда случился первый кризис, у меня была анорексия, и я очень сильно молилась о том, чтобы мне Бог помог справиться с этой темой, у меня не получалось самой, ну вообще никак. И я мало помню ситуаций, когда я молилась настолько сильно, и легче мне не становилось, ну прямо совсем. Но мне помогли врачи, и как бы в детской логике, подростковой, получается, что не Бог послал врачей, которые помогли, а просто вот врачи отдельно.
Н. Лангаммер
— Помогли люди, а не Бог.
М. Кириличева
— Ну да, и причём, к сожалению, выздоровление от этой темы занимает продолжительный период времени, а молитва была довольно краткосрочной, то есть получается, что ты помолился, и вот через день тебе не стало лучше. Ну хорошо, если тебе стало лучше через пять лет или что ты не умер, тоже очень неплохо, было бы неплохо об этом подумать, но тогда нет. И у меня закрепилось вот это, знаете, заякорилось это ощущение именно сильной обиды, что вот я помню, что я не могу есть, мне плохо, я молюсь: Господи, помоги! А Он не помогает. Ну и всё тогда, логика такая. Ну, собственно, так же я относилась и к себе, я в любой момент говорила сама себе: ну и всё. Ну ты не очень, ты там...
Н. Лангаммер
— Самая виноватая, недостойная или что?
М. Кириличева
— Ну всё, что угодно, тут много можно перечислять: ты некрасивая, не умная, ничего не понимаешь, ну, короче, любой вот этот набор самобичеваний.
Н. Лангаммер
— То есть Бог тебе не помогает, потому что ты такая-сякая, да?
М. Кириличева
— Ну да, можно и так.
Н. Лангаммер
— Тоже интересно. Я просто, наверное, должна тоже честно рассказать, у меня было два эпизода в жизни, когда я молилась, просто кричала, требовала, орала, рыдала, и эти два раза мне Господь ответил «нет». И прошло время, и я поняла, что — слава Богу, что Ты мне ответил «нет» в тот момент, потому что это как у Антония Сурожского, что «я увидел, как дедушка снимает зубки искусственные, кладёт в стаканчик, и я хочу такие же зубки», и слава Богу, что Господь ему это не дал. И я тоже потом поняла, что Господь правильно всё сделал, Он меня уберёг. Но, вот о чём говорит Маша: у меня заякорилось вот это ощущение, что я орала, рыдала и требовала, а Он не сделал ничего. И хоть я и понимаю, что Он был прав, но как мне теперь молиться-то? Ну вот, а как теперь молиться, когда эта молитва в тот момент... ну, нельзя сказать, что она была не услышана. Наверное, Он услышал, и я слышала от священников такую версию, что Господь всегда нам сострадает и плачет с нами, Ему так же больно, как нам, но ответ-то был «нет». Отец Иоанн, как вот? У нас с Машей вот такой вопрос возник.
М. Кириличева
— Осадочек остался.
Н. Лангаммер
— Осадочек остался, да.
о. Иоанн
— Ну, конечно, когда я молюсь, когда кто-либо другой молится, у нас включается такая позиция снизу вверх, это естественно, потому что мы как-то Бога примерно вверху представляем, хотя Он везде присутствующий, вездесущий, но всё равно это такой вот возглас ребёнка. И вот этот ребёнок, естественно, он имеет разные стороны, а каждый ребёнок, он очень любит сказки, каждому ребёнку всегда хочется, чтобы был Дед Мороз, чтобы он что-то подарил. Потом уже дети понимают, что Дед Мороз — это что-то другое, это папа приходит или ещё кто-то, но каждый ребёнок, он магический, в нём есть вот жажда чего-то магического, чего-то волшебного, чего-то сказочного. И, конечно, детская вера, она имеет свою специфику, в детской вере человек живёт по вот этой вот системе: «я — Тебе, Ты — мне», некий бартер с Творцом, бартер с Создателем. И то, о чём мы говорим, это как раз-таки переход во взрослую веру, когда человек, он понимает, что этот бартер не работает, всё. Вот этот вот магический ребёнок, он немножко заплакал, и внутренний взрослый подошёл, погладил его и утешил, говорит: ну подожди, у тебя сложный сейчас период. Да, бартера нет, да, это не просто, нет такого, что вот ты там «монетку сунул», помолился, и тебе там что-то «выскочило», это не так работает, нет вот этого магизма. Да, твоё магическое мышление, оно не соотносится с действительностью, с реальностью. Но вот этот взрослый внутреннего ребёнка успокаивает, обнимает, гладит по голове и говорит: но это не значит, что Бога нет.
Н. Лангаммер
— Это не значит, что Бога нет, но как понять фразу «Просите, и дано будет»? Вот правда, я сейчас не в укор, не как ребёнок вопиет, а правда, как понимать тогда?
М. Кириличева
— Ощущение, что там не уточнено, что будет дано.
Н. Лангаммер
— Вот да, и когда.
М. Кириличева
— Да, мы понимаем эту фразу слишком буквально, а тут, ну что-нибудь будет когда-нибудь обязательно.
Н. Лангаммер
— Нет, ну нормально, а зачем тогда я это прошу? Действительно, у меня этот вопрос возникает с такой вот детской абсолютно позиции, ну «будьте же как дети», нам такую транзакцию предлагают изначально. И из этой позиции у меня вопрос: а зачем конкретно что-то просить, если Господь всё равно сделает, как мне лучше? Отец Иоанн?
о. Иоанн
— Как Виктор Франкл об этом говорил: человек, он бросает свой клич, свою молитву к Творцу в некую глубину, а глубина, вот вы бросили монетку там в речку или в море, и вы не слышите, как эта монетка приземлилась, потому что речка глубокая. Но вы верите, что где-то там она приземлилась, ну определённо приземлилась же, и тут вроде есть какие-то доказательства, что вот там понятно, что есть дно. И когда мы в контексте веры понимаем так вот интуитивно, что дно есть, но я, может быть, его не вижу, но где-то в глубине души я знаю, что это дно есть, я бросаю эту монетку — свою молитву в эту глубину и жду ответа. И вы находили, собственно, те ответы, как вы сказали, два раза был ответ «нет».
Н. Лангаммер
— Два раза был ответ «нет», но тогда зачем я просила? Хотя потом я поняла, что Он сделал как мне лучше. Но всё равно остаётся вопрос, понимаете, с нашей мирской человеческой логики, вот мы здесь и сейчас, и мы чувствуем, и мы живые, остаётся вопрос: а зачем тогда я просила, потому что так и так ответ был бы «нет». Зачем тогда были эти слёзы, вот это всё? Вот зачем оно всё было?
о. Иоанн
— Вы делаете, Наталья, акцент на «нет». Но вы можете сделать акцент на — «ответ был». Да, он был «нет», но ответ был, то есть вы почувствовали этот ответ.
Н. Лангаммер
— А я-то просила — «да».
о. Иоанн
— Это уже другой вопрос. Главное, что есть вот этот коннект, да?
Н. Лангаммер
— Коннект есть, да.
о. Иоанн
— То есть, есть ответ, есть диалог двоих. И тот же митрополит Антоний Сурожский вспоминается, ведь как он пришел к Богу: у него тоже был некий кризис, и он рос в такой атмосфере, когда говорили о строгом Боге в какой-то мере и говорили в целом о строгости, очень много было такого вот жёсткого. И когда будущий митрополит Антоний пришел в школу, он был раздосадован, что ему не дали волейбол поиграть — позвали на встречу со священником, и священник начал говорить, что Бог любит, он открыл Евангелие и обнаружил на другом конце стола Бога, почувствовал. И вот это как раз-таки то, мне кажется, что у вас было — поправьте меня, если не так — когда вот этот вот ответ был.
Н. Лангаммер
— Ответ был, а потом мне просто сказал батюшка очень важную вещь, что «ты только дальше не молчи. Если ты на Него обиделась, ты плачь, ты кричи, ты говори, но ты не замолкай, чтобы вот этот коннект, вот эту связь как раз поддерживать». Маша, что у вас дальше было?
М. Кириличева
— Вы знаете, я замолчала, мне кажется, на довольно долгий срок, но и ушла в такое, знаете, я же училась в православной гимназии, из православной школы в православную гимназию, вокруг все православные. В конечном счёте ты не находишь свою веру очень долго, это всегда вера, которую тебе позаимствовали, которой поделились с тобой, это не твоя собственная. А в момент, когда наши люди заканчивают школу, начинается кризис ещё и типа всё можно: а можно не в юбке ходить? Ух ты, как здорово! Ну это я утрирую, конечно, не совсем так, но около того. Получается, что, значит, на Бога я обиделась, очень амбициозно и смешно звучит эта фраза: «я обиделась на Бога» — ну правда, здорово? Какая молодец, мне три года. (смеется)
Н. Лангаммер
— Зато это честно и реалистично.
М. Кириличева
— Ну да, и в общем, обиделась, потом закончилась школа, и оказалось, что много чего не попробовано из того, что подростки пробуют, наверное, достаточно постепенно, чуть раньше. У меня, и не только у меня, это общая история православной гимназии, резко становится всё можно, и надо всё сразу пробовать, одно, второе, третье, и в итоге меня достаточно далеко отбросило вообще от всей этой темы, плюс, какая-то внутренняя болезненность, она у меня много лет сохраняется и так-то от неё легко не избавиться. А вот обратно: я очень люблю Иерусалим, и несколько раз мы с родителями приезжали туда, ещё когда я была довольно маленькой, там я чувствовала настолько сильную благодать, что там не было вопросов: есть, нету, молиться, не молиться, что он, я ему, что кому кто сказал, это становится неважно, ты просто чувствуешь. И, наверное, частично меня возвращало в веру это возвращение в Иерусалим — ну это как допинг, знаете.
Н. Лангаммер
— Забрались в домик, и Бог был рядом. Я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер, и мы сегодня обсуждаем тему о том, как меняются наши представления о Боге по мере нашего духовного взросления. У нас в студии, автор, инициатор темы Егор Назаренко, журналист, продюсер Мария Кириличева и иерей Иоанн Загумёнов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. Мы вернёмся через небольшую паузу, не переключайтесь.
Н. Лангаммер
— Мы снова в эфире, программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер. Сегодня у нас тема для обсуждения: «Наши представления о Боге и как они меняются по мере духовного взросления». В студии автор идеи поговорить на эту тему — Егор Назаренко, продюсер, дочка отца Алексея Батаногова Мария Кириличева и иерей Иоанн Загумёнов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. И вот сейчас Маша рассказывала, как происходило её возвращение к Богу после первого кризиса. Маша, а каким стало представление об этом Боге? Вот вы его почувствовали рядом, как в домике, то есть дом Папы, и Он где-то здесь, или как это было? Мне правда интересно вот про это представление, я вас сейчас буду всех об этом спрашивать.
М. Кириличева
— Вы имеете в виду, когда я вернулась обратно после вот этого кризиса?
Н. Лангаммер
— Да.
М. Кириличева
— Во-первых, ещё больший кризис возвращает тебя... как это правильно, я не помню эту формулировку, что лечится...
Н. Лангаммер
— ... подобное подобным?
М. Кириличева
— Да. Наверное, вот это вот был хороший, очень отрезвляющий момент. Я вернулась более осознанно, наверное, ради ребёнка. Я забеременела и поняла, что в своё время вера сделала меня... Ну, у меня есть определённые моральные принципы, свои какие-то взгляды, ценности и какая-то глубина, и во всём этом, я думаю, что вера сыграла очень важную роль. И, конечно, когда только-только я стала мамой, у меня было искреннее и честное желание, чтобы у ребёнка тоже это было. Я не хотела её лишить, наверное, того, что было у меня в детстве. Но я говорила, что кризис со мной случается, видимо, постоянно, я не могу сказать, что это история, которая раз и навсегда заканчивается таким счастливым концом, мне кажется, это история всей жизни, по крайней мере, у меня, и я вернулась в храм. Кстати, тут ещё очень важный момент: разделять кризис и лень.
Н. Лангаммер
— Да, кстати.
М. Кириличева
— И лень, обычную лень можно назвать кризисом, и красиво рассказать о том, что у тебя кризис, но надо быть честным с собой: тебе тупо лень, ты не хочешь искать Бога, ты не хочешь ходить в храм? Ну, как бы ответить хотя бы для самого себя честно. Ну, и мне было довольно лень, скажем честно, долгое время. Но я стала всё-таки возвращаться, ребёнок, причащаться, ходить в храм. Потом, во время беременности мне было очень страшно, я всё время что-то нервничала, я в принципе тревожный человек, поэтому я очень много молилась, и в какой-то момент я стала чувствовать... Знаете, вот у меня очень много в голове и очень мало в чувствах, и в чувствах как бы можно ничего не чувствовать, но верить головой и это не то. Мне не хочется верить только головой, мне хочется чувствовать.
Н. Лангаммер
— А вот это очень важный момент, потому что, мне кажется, первая вера, когда мы приходим в храм, по крайней у меня так было, она сначала головой: я с этим согласна, я с этим согласна, я с этим согласна. А когда случаются вот эти вот шторма, то ты уже либо кричишь «Господи, протяни мне руку», либо ты тонешь. Егор, вот у тебя как было? Зачем ты вернулся после кризиса?
Е. Назаренко
— Наверное, прямо зачем, сказать сложно. У меня вот было наоборот, у меня, скорее, было чувство вперёд головы, потому что у меня с детства чувствовалось, мне хотелось быть в храме и рядом с Богом только по чувству.
Н. Лангаммер
— Ты с самого детства верующий человек?
Е. Назаренко
— У меня не было перехода какого-то, то есть с детства я понимал, что: ну, есть Бог. А потом это трансформировалось: ну, есть Бог, у Христа есть Церковь и, в принципе, вошёл безболезненно. Это впоследствии уже случился этап, что я начал как-то себя бичевать на фоне вопросов — а была ли у меня встреча?
Н. Лангаммер
— Вот, это важный вопрос, потому что то, что сейчас Маша подняла — лень, это начинается такое понуждение, а понуждение, оно зачем? Вот я пытаюсь нащупать этот момент. Ты чувствовал что? Ты хотел туда? Ты понимал, что ты без Бога не можешь, или что?
Е. Назаренко
— Вот да, когда случился кризис, я понимал, что это уже какая-то часть меня, которую я не могу оторвать, то есть я чувствую, что я отрываюсь, но я понимаю, что с этим разрывом отрывается добрая доля меня. И я понимал, что: ну, уйду я в какое-то безвоздушное пространство, уйду я в другую веру, но я не буду, я не смогу просто уйти, то есть это какое-то чувство привязанности, возможно.
Н. Лангаммер
— А что это за безвоздушное пространство, когда мы отходим туда?
Е. Назаренко
— Знаете, безвоздушное пространство — это равнодушие, да, это скорее равнодушие, когда ты не решаешь, где ты, вроде в Церкви, а вроде нет, вроде с Богом, а вроде нет.
Н. Лангаммер
— Но ты это как ощущаешь, там холодно, там как? У меня был серый туман, у тебя было как, вот если без Бога?
Е. Назаренко
— У меня скорее, холод, да, это важный образ, и какая-то вот темнота суеты, я думаю, москвичи могут понять, когда идёшь где-нибудь в час пик и просто монотонно куда-то двигаешься, ты не волен вообще выбирать маршрут, тебя задавило толпой и тебя куда-то несёт, и ты преешь, и тебе душно, и ты просто в этой массе куда-то льёшься, и вот это вот чувство беспомощности получается без Бога.
Н. Лангаммер
— Отец Ионн, а у вас был вот такой момент отхода от Бога в другую сторону?
о. Иоанн
— Да это постоянно бывает. Тут мне как-то захотелось даже противопоставить вот эту сторону стола и вот ту, потому что мы, видимо, с Егором из не сильно религиозных семей. Ну, обычно, когда чётное количество людей, хочется противопоставить кого-то кому-то, ну да ладно.
Н. Лангаммер
— Я тоже во взрослом возрасте пришла к вере.
М. Кириличева
— Противопоставляйте меня одну. (смеются)
о. Иоанн
— Конечно, интересно, что тут два таких параметра, которые в кризисе, в том числе, проявляются, мы подняли на свет: рацио и эмоцио, как мы чувствуем Бога вообще, головой и сердцем. И совершенно прекрасно, когда есть семья, где ребёнок, как есть такое вот определение: «дети верующих родителей», кто-то ещё говорит: ДВР, немножко, мне кажется, обидно звучит даже как-то. Но здорово, если получается у родителей передать эту веру и передать вот на уровне рацио даже, когда ребёнок понимает головой, что Бог есть, и уже ищет сердцем, но у меня было несколько иначе. И я вот, наверное, мы с Егором вместе как-то искали-искали-искали вот именно в контексте сердца, в контексте того, что у нас был какой-то вот прямо огонь первоначально, потому что был поиск в принципе религиозный. А у меня было очень интересно, мой подростковый бунт выразился в том, что я ходил в храм, и мне говорили: «Ну куда ты опять пошёл? Ну чего тебе там, мёдом, что ли, намазано, ну сиди дома, ну какой храм?» И я в этом подростковом бунте ходил в храм каждый день, я алтарничал в храме каждый день, в одном храме по будням, в другом храме по выходным.
Н. Лангаммер
— Это было назло или это прям хотелось?
о. Иоанн
— В какой-то мере это было назло, но в то же время мне и хотелось. Но чем больше мне говорили: «не ходи!», мне хотелось тем больше идти.
Е. Назаренко
— Да, похожая ситуация.
Н. Лангаммер
— У тебя так же было? Расскажи.
Е. Назаренко
— У меня не было чёткого запрета, но определённо, когда я начал воцерковляться, это встречало некоторое непонимание: как это — поститься?
Н. Лангаммер
— То есть родители неверующие были?
Е. Назаренко
— Они верующие, но не сказать, что активно воцерковлены, и вот непонимание: «тебе 15 лет, какой пост? Тебе надо кушать побольше мяса, тем более ты худенький». И встречалось сначала недопонимание, но это быстро достаточно сгладилось.
Н. Лангаммер
— А потом, когда вот у тебя случился этот кризис, смотри, если у Маши всё-таки была родительская вера, которая и формировала её, и в том числе, молитва родителей была за неё, понятно, что обратно что-то звало, а тебя что было всё-таки? Вот это чувство, про которое ты говоришь, что без Бога плохо — это на уровне эмоций. А рацио что тебе говорило? Потому что: ну, а может быть, я сейчас стану послушным мальчиком, не буду никуда ходить, родители будут довольны, нет? Это же очень сложно, когда родители, наш основной авторитет, они немножко в другую сторону.
Е. Назаренко
— Нет, ничего подобного не было.
Н. Лангаммер
— Рацио тебе что говорило, как говорило: вернуться, молиться надо, правило надо держать или что?
Е. Назаренко
— Рацио мне говорило не волноваться, потому что эмоции, первоначальное горение, оно может затухнуть и будет холодно, и вот эти все такие, выражаясь психологическим языком, аффектные состояния, они ненадёжные, то есть, есть чувства эмоциональные, есть эстетические, и это всё, конечно, разные уровни нас, но они могут иногда подводить. И вот мне рацио не говорило чего-то высокодуховного, но оно просто говорило, что не строй на этом песке.
Н. Лангаммер
— А на чём строй? Возвращайся к камню?
Н. Лангаммер
— Тут, конечно, что понимать под камнем, но, возможно, да. Для меня камнем стала какая-то воля, то есть осознанный выбор, решение, что не просто я, мне нравится, я хочу, а что я сейчас осознанно буду здесь. Нравится, не нравится, тут уже немножечко себя затыкал за пояс.
Н. Лангаммер
— Как же сложно, отец Иоанн, мы даже путаемся в понятиях, то есть вот действительно, мы из чего-то выходим, потом где-то мы ходим, а потом мы куда-то возвращаемся, и вот я никак не пойму, что же у нас получается, пока даже не то что кардигана, пока даже кофточки-сеточки я не могу нарисовать, из чего мы шьём, плетём наше новое представление о Боге, возвращаясь после какого-то кризиса.
о. Иоанн
— Ну, это совершенно логично, что не получается нарисовать что-то общее, потому что вера, она всегда творческая, каждый верит, исходя из собственного бэкграунда, исходя из своего опыта, исходя из своего темперамента, исходя из своего характера, исходя из опыта взаимоотношений с социумом, с родителями, тут очень много факторов складывается, и каждая вера, она, как отпечатки пальцев, абсолютно неповторима.
Н. Лангаммер
— У каждого своя индивидуально, да? Ну, а у вас сейчас после всех кризисов всё-таки больше рацио или эмоционально, или что там внутри держит?
о. Иоанн
— Я бы сказал, что эмоцио больше, и внутри держит, наверное, благодарность, когда я благодарю Создателя за то, что Он мне посылает определенных людей. И в контексте литургии тоже очень много благодарения, есть ана́фора, когда священник читает, совершенно прекрасно, если еще вслух читается анафора, это совершенно здорово, удивительно, когда каждое слово, оно отпечатывается в памяти, и в какой-то момент уже какие-то фрагменты наизусть читаешь. И в контексте этого благодарения мне хочется иной раз добавить от себя, я замолкаю, и тут уже про себя, говорю: «Боже, благодарю Тебя за этих людей, которых Ты мне послал, вот за этого, за этого, за этого конкретно», я говорю о тех людях, через которых Создатель приходит в мою жизнь, потому что я верю, что Создатель помогает руками людей, то, о чем Мария когда-то сказала. И я думаю, Бог — это всегда про нас, и апостол Иоанн Богослов, мой святой покровитель, он совершенно прекрасно замечает: если я говорю, например, что Бога люблю, а людей не люблю, то грош цена, собственно, моим словам-то, потому что «persona est relatio» — человек есть отношение, и человек религиозный, он, в том числе, про социум, про отношения с другими, и ему другие помогают, Создатель посылает, и он что-то другим отдаёт, баланс брать-давать такой.
Н. Лангаммер
— Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер, и в нашем клубе мы обсуждаем темы, поднятые в эфире утренней программы «Частное мнение», и сегодня такую тему предложил журналист Егор Назаренко. Тема так сформулирована: «Наши представления о Боге и как они меняются по мере духовного взросления». В гостях у нас продюсер Мария Кириличева, дочка отца Алексея Батаногова, я это повторяю из раза в раз, потому что мне кажется, что это важно, про Машину детскую веру, и иерей Иоанн Загумёнов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. Мы уже очень по-разному и о многом поговорили про наши кризисы, а я всё-таки хочу всё время вернуться к теме представления о Боге. Вот важный момент, мне кажется: если мы себе уже представляем как-то Бога, то мы Его складываем из тех кубиков, из тех молекул, которые есть в нас, то есть это уже не совсем Бог получается, это какая-то наша картинка. Отец Иоанн, я не права? Вообще это может быть представление истинным, или мы каждый раз что-то не то придумываем, потом выбрасываем эту «маечку разорвавшуюся» и ищем опять новое?
о. Иоанн
— Ну, есть катехизис, и если мы катехизис открываем, то там есть свойства Божии, о том, что Бог — Дух, о том, что Бог — Он вечен, о том, что Бог — Он везде присутствующий, вездесущий, и если личная вера человека соотносится с этим, то почему бы нет, и что тут вообще плохого? Более того, есть такая штука, как теологу́мен — частное богословское мнение, как в богословии говорят, то есть это соотносится с прекрасной фразой: «в главном — единство, во второстепенном — свобода, и во всем — любовь». Разные люди эту фразу говорили, но вот есть некое главное, грубо говоря, если мы говорим о православном христианстве, то это Символ веры, а есть область теологумена, то есть область того, что человек имеет свое частное мнение, как, собственно, наша программа-то и называется в значительной мере. Поэтому есть какие-то базисы христианства, с которыми мы всегда можем ознакомиться, тот же Символ веры элементарно, и есть что-то догматическое, но это совершенно не значит, что человек ограничен со всех сторон этими догматами и вот никуда-никуда не повернется, ему может быть свободно и ему может быть совершенно комфортно в том, что он задает себе вопросы, в том, что он ищет. Он знает Символ веры, он знает догматы христианские, но он все равно ищет, и ищет Бога применительно именно к своей жизни и применительно именно к своей ситуации, потому что все мы разные люди и у нас разные ситуации.
Н. Лангаммер
— И у нас в каждой ситуации мы Бога осознаём, когда нам больно, когда у нас какой-то вот как раз момент такого крика, и как-то Он для нас открывается. Маш, сейчас какое представление о Господе?
М. Кириличева
— Вы знаете, у меня вдруг сложилась в голове интересная такая история, можно поделюсь?
Н. Лангаммер
— Давай.
М. Кириличева
— Может быть, это не совсем по теме, но мы как будто бы в большинстве своем пытаемся выстроить с Богом какие-то немножко нездоровые созависимые отношения. Понимаете, созависимые отношения, когда мы хотим как-то вот: «и без Него никак», и что-то такое. С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, ведь есть же разница между созависимыми отношениями и здоровыми крепкими отношениями двух нормальных взрослых людей, да?
Н. Лангаммер
— Объясните, в отношении Бога как вы себе это представляете?
М. Кириличева
— Мне хочется эту мысль на самом деле как-то обдумать, но я просто поняла, что очень многие как будто бы стремятся, как будто нет своей целостности, хочется как будто бы...
Н. Лангаммер
— Богом компенсировать какие-то свои проблемы?
М. Кириличева
— Ну как будто бы мы хотим от Бога то, что не можем сделать сами, вроде бы это и логично, но при этом как будто бы свой пробел мы компенсируем, и злимся, как будто бы у нас не получается компенсировать свой пробел. Но ведь здорово, когда ты можешь сам компенсировать, ну с Божьей помощью, понятно, свой пробел, и не стараться Богом себя как-то вот...
Н. Лангаммер
— ... достроить, долатать, да.
М. Кириличева
— Да, а быть: вот ты сам и Бог, и вместе вот это получается. Возможно, я не права, как вам кажется, отец Иоанн?
о. Иоанн
— Я думаю, если вы говорите про самодостаточность, про самодостаточность какую-то, да?
М. Кириличева
— Ну, про здоровые крепкие отношения, когда ты не стараешься себя как-то вот заткнуть в кого-то...
Н. Лангаммер
— Ну да, как бы вешаешься, цепляешься за другого человека, и он тебе как бы должен твои какие-то дырки закрывать.
о. Иоанн
— Здесь, я думаю, важно: на Бога надейся, а сам не плошай. Как вам эта фраза?
Н. Лангаммер
— Общо.
о. Иоанн
— Ну вот конкретная история: у меня друг создал психологический центр, меня тоже туда позвал. Естественно, он религиозный человек, при этом он написал в разные другие психологические центры, посмотрел их опыт, написал разным психологам, то есть провел ту работу, которая обычно проводится, там, маркетологу написал, журналисту одному, другому, третьему, и он не лежал просто молясь, он что-то делал, но при этом он заручился Божьим благословением в этом всем деле. И, естественно, это некая синергия, то, что в богословии так называется, то есть человек, он понимает, какие у него есть задачи, с кем нужно скоммуницировать в контексте этих задач, но в то же время он просит у Бога благословения, он просит у Бога благословение на новое дело, он просит у Него поддержки в этом деле, он, может быть, со священником беседует об этом, и он обращается к нему, говорит: «Боже, у меня получилось вот это, если возможно, пусть у меня получится вот это, я все для этого делаю», и вот это «я все для этого делаю» — это очень важно, потому что человек не просто пускает на самотек свою жизнь, и профессиональную, и личную, пускает на самотек, перекладывая ответственность на Бога — он сам делает, у него, как модно говорить, проактивная жизненная позиция, и при этом он верит, что Создатель рядом, и Создатель даст свою поддержку, по крайней мере, вот в этом некоем ответе на глубине.
Н. Лангаммер
— Но это, на самом деле, такая какая-то сложная история. Помните, мультик был про Лошарика, которого когда поднимали, как игрушку такую, марионетку, он выстраивался, а когда опускали этот крестик — ниточки все ослаблялись, он рассыпался.
М. Кириличева
— Вот, а мы как раз как будто бы этого и хотим.
Н. Лангаммер
— Да, нам все время хочется, чтобы Господь нас либо поднял и выстроил, либо этими шариками что-то заменил.
М. Кириличева
— А Господь предлагает: «будь сам тоже, умей сам, у тебя есть свобода, ты божественно устроен, ты можешь и сам это делать», а мы как бы злимся, когда нас не собирают, получается так, что ли?
Н. Лангаммер
— Мы злимся, когда нас не собирают, мы злимся, когда Он не делает то, что мы от Него хотим, короче. А хотим мы, наверное, возвращаясь к вашей мысли, Маша, изначально, что проблема-то в плоскости отношений с собой, то есть мы не хотим делать сами, пусть это сделает Бог, Он не делает, значит, я на Него обиделся, повернулся, ушел.
М. Кириличева
— И все это очень по-взрослому.
Н. Лангаммер
— Да, Егор?
Е. Назаренко
— Да, это как раз точная мысль, мне кажется, которую мы нащупали, про переход представления, потому что я сейчас как-то зафиксировал, что когда человек только приходит, он видит Бога, все эти образы Отца, который все может, и сейчас ты находишься в Его руках. И вот у меня как раз был переход представлений именно о том, что и я могу, но при этом я могу приглашать Бога, вот это как раз разница, когда Бог все контролирует и когда ты контролируешь, но приглашаешь Его в свою жизнь.
Н. Лангаммер
— А тогда Его функция?
Е. Назаренко
— Функция Бога — это очень как-то звучит страшно...
Н. Лангаммер
— Страшно, да. Но мы сейчас поговорим прагматически и так вот совсем приземленно, по-детски, а тогда, если я все сама сделала, то для тебя тогда Бог зачем? Вот я хотела сейчас отца Иоанна спросить: идеально правильные отношения с Богом — это только славить, или я ошибаюсь?
о. Иоанн
— Классически, в таком катехизическом ключе, молитва, она бывает благодарственная, бывает то, о чем вы говорите — прославляющая и бывает просительная. На разных моментах нашей религиозной жизни у нас довлеет та или иная молитва. И, конечно, когда человек вышел из парадигмы магического мышления, он не сильно много просит, он больше благодарит и хвалит Бога, то есть просьб становится как будто несколько меньше.
Н. Лангаммер
— А больше славит?
о. Иоанн
— Больше прославления, да, и в разных христианских общинах это слово имеет свое местное значение, когда человек в принципе молитву даже иной раз называет прославлением.
Н. Лангаммер
— Знаете, по мере нашего разговора я сижу и думаю: как-то у меня в голове все очень напрягается, потому что такой разный опыт и действительно, чего-то усредненного вывести не получается. Но мне кажется, главное, что я для себя сегодня услышала: что все-таки кризис эти — это нормально и это на пользу, да, отец Иоанн?
о. Иоанн
— Конечно, потому что кризис — это всегда точка роста. Если нет кризиса, то нет роста.
Н. Лангаммер
— Маша, что вы для себя сегодня интересного услышали, какие-то ответы нашлись, когда мы сопоставили опыт разных людей?
М. Кириличева
— Мне очень было интересно послушать Егора, и очень многие мысли, то, что вы озвучивали, прямо я чувствую, что я об этом и думала, и ходила, или не могла ответить себе на этот вопрос, это было очень интересно. Вот правда, ваши мысли, знаете, я прямо чувствую их всей душой.
Е. Назаренко
— Спасибо.
М. Кириличева
— А какой у вас был вопрос?
Н. Лангаммер
— А вопрос был: при сопоставлении опыта — как раз то, на что вы отвечаете — что нового для себя сегодня выяснилось? Что-то в этой теме протестилось?
М. Кириличева
— Мне понравилась как раз мысль про созависимость, это я про себя говорю, что как будто бы я пытаюсь изначально выстроить те отношения, которые просто не свободны, а Бог, Он всё-таки про свободу, а я как будто бы стремлюсь к той форме, которая дальше от свободы, и злюсь, что это не получается. Я не уверена, может быть, это неправильная мысль, но, по крайней мере, вот сегодня она мне как-то показалась интересной, потому что все обиды на Бога звучат изначально не из здоровой позиции.
Н. Лангаммер
— Кстати, это такая мысль, которую недавно озвучивала у нас в программе Фредерика де Грааф, что отношения с Богом начинаются с такого вот молчания в себе, с отношений с самим собой, и вот если эти отношения, хотя бы это понимание себя есть, тогда уже можно какие-то отношения строить с Богом.
М. Кириличева
— Ну, тогда ты не навешиваешь какие-то странные проекции на Бога.
Н. Лангаммер
— На Бога, да. Чего только Господь у нас не несёт, по нашим представлениям о Нём, да, отец Иоанн?
о. Иоанн
— Да, мне ещё вспоминается фраза из Библии: «Где дух Господень, там свобода», о чём, собственно, сказала Мария. И, действительно, вот это вот понимание «я» в контексте взаимоотношений с Творцом, оно тоже очень важно, если эта вера такая экзистенциальная. Но бывает вера, увы, другая. Бывает вера, когда человек верит больше психотически, больше на страхе его вера основана. Бывает невротически, на долженствовании, на наказании. Но если вера, она именно экзистенциальная, а это с точки зрения психологии, скажем так, вера самая глубокая и самая здоровая, что ли, то тогда, конечно, есть понимание «я». Другой вопрос, в каком моменте сейчас это «я»? И вообще нормально ли для человека определённого какого-то спрашивать о себе что-то, потому что кто-то может сказать, что это вот гордость, если я про себя спрашиваю, это достаточно популярно, вот нельзя якобы спрашивать, вот как я себя в этом чувствую, как мне — мол, это всё про гордость. Я всё-таки придерживаюсь иной точки зрения и считаю, что каждый человек, он выстраивает свои личностные отношения с Богом, потому что Бог — личность, и каждый из нас, подобный Богу, тот, кто создан по образу Божьему, стремится к подобию Божьему, он тоже — личность.
Н. Лангаммер
— Егор, вот ты поднял эту тему, вот какие твои ощущения по итогам нашей беседы? Мы тебе много чего наговорили из своего опыта.
Е. Назаренко
— Да, разговор этот очень большой, он не вместится, конечно, даже в наш вечер, и это удивительно, как вера разнообразна. Самое удивительное, что мой опыт, он не такой в какой-то мере, чем у наших собеседников, но он прекрасен в этом. Мне иногда нравится смотреть на людей и видеть, как они прекрасны в другом чём-то, и вот в тех же самых кризисах и их преодолениях это тоже своего рода прекрасная такая картина. Мне была тоже близка мысль о то, чтобы посмотреть на обиды, на Бога, как проекцию своих каких-то бичеваний, что ты не такой, и ты сам себя не любишь, а не Бог, вот это для меня было ценное сегодня.
Н. Лангаммер
— Да, я тоже сижу молчу, потому что есть о чём подумать, что всё-таки действительно мы Бога себе рисуем, конечно. И дай Бог на этом пути когда-нибудь, наверное, чуть лучше Его почувствовать, что ли. Дай нам, Господь, всего этого, этот путь пройти. Спасибо вам за очень интересный разговор. В эфире программа «Клуб частных мнений», меня зовут Наталья Лангаммер, и мы сегодня обсуждали тему «Взросление в Боге и как меняются при этом наши представления о Нём». Тему предложил Егор Назаренко, журналист. У нас в гостях была Мария Кириличева, продюсер и дочка священника, отца Алексея Батаногова и иерей Иоанн Загумёнов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы города Жиздры. Спасибо вам огромное. И на этом мы прощаемся с нашими радиослушателями, до новых встреч в воскресенье в 18.00 в программе «Клуб частных мнений», всего доброго, до свидания.
о. Иоанн
— Всего доброго.
Е. Назаренко
— До свидания.
М. Кириличева
— До свидания.
Все выпуски программы Клуб частных мнений
Псалом 32. Богослужебные чтения

Однажды протоиерей Александр Шмеман записал в своём дневнике: «Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться». Эти слова напрямую связаны с главным нервом 32-го псалма Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением. Давайте послушаем внимательно — нам ведь тоже интересно понять, как Бог и радость связаны друг с другом?
Псалом 32.
[Псалом Давида.]
1 Радуйтесь, праведные, о Господе: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири;
3 пойте Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием,
4 ибо слово Господне право и все дела Его верны.
5 Он любит правду и суд; милости Господней полна земля.
6 Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его — всё воинство их:
7 Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах.
8 Да боится Господа вся земля; да трепещут пред Ним все живущие во вселенной,
9 ибо Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и явилось.
10 Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей.
11 Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род.
12 Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе.
13 С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих;
14 с престола, на котором восседает, Он призирает на всех, живущих на земле:
15 Он создал сердца всех их и вникает во все дела их.
16 Не спасётся царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила.
17 Ненадёжен конь для спасения, не избавит великою силою своею.
18 Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его,
19 что Он душу их спасёт от смерти и во время голода пропитает их.
20 Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша;
21 о Нём веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали.
22 Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
Весь псалом — сплошная ода радости. Но в этой оде есть и достаточно много обоснований — почему и правда, невозможно знать, что Бог есть — и не радоваться! Давайте посмотрим внимательнее.
Первое основание — Бог верен. Он — «твёрдое основание», его Слово право и дела верны. Что это значит в отношении каждого из нас? То, что Богу можно доверять. Звучит странно, не правда ли?
А дело вот в чём. Как мы знаем из библейской истории, единобожие Израиля находилось в очень плотном и агрессивном окружении языческих верований. Там богов было — на любой вкус и цвет. Отчасти мы можем почувствовать эту специфику, когда знакомимся, например, с историей шаманизма — где с духами всегда надо держать ухо востро: они коварны, своевольны, непостоянны, легко могут подвести в самый неподходящий момент. Духи — те же «языческие боги»: и что они собой представляют на практике, иудеи прекрасно знали.
Теперь с этого ракурса посмотрим на слова Давида. Он кричит от радости о том, что его Бог — совсем не такой, как эти языческие духи: Он — не лукавит и не двоится; Он не ищет какой-то Своей выгоды, Он не предаёт, Он сохраняет верность Своему слову и не переступает через Свои обязательства. Ещё бы рядом с таким Богом не радоваться!..
Идём дальше. Бог, Которому поёт свою песню Давид, — Творец всего мироздания. Не полчище каких-то непонятных сил, бесконечные трансформации через эманации, перевоплощения и прочая нагромождённая путаница — а Он, лично, можно даже сказать, «собственноручно» и создал всё то, что существует. Причём, надо отдать должное — создал не только вполне функционально, но и потрясающе прекрасно — именно для нашего, человеческого глаза! Как тут не радоваться!
А когда Давид смотрит на историю своего народа — через какие перипетии пришлось проходить, из каких непролазных дебрей выбираться, какие непреодолимые вражеские силы под действием Бога рассыпались в пух и прах — Давида просто охватывает ребячий восторг: да, это всё — Он, наш Бог — именно таков, Он — целиком и полностью «за нас!» Ну и как же тут не скакать и не плясать от радости!
Одним словом, Давид не только декларирует, что рядом с Богом и радость будет — но и доказывает эту истину с разных сторон. Так что когда нам в очередной раз придут помыслы пострадать и поунывать — самое время взять 32-й псалом и хотя бы немного прикоснуться к этой радости от близости к нашему Господу и Спасителю!
Первое соборное послание святого апостола Петра
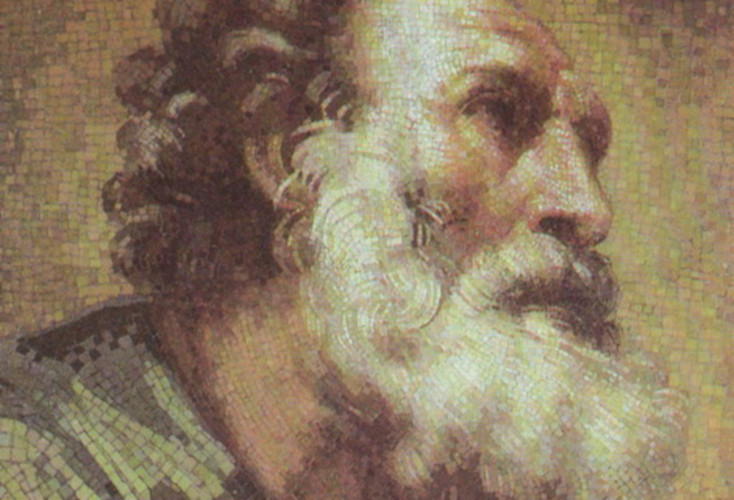
Апостол Пётр
1 Пет., 59 зач., II, 21 - III, 9.

Комментирует священник Антоний Борисов.
Дерево, как известно, познаётся по плодам. А человек? Правильно. По делам. Можно сколько угодно рассуждать о высоком и добром, но если всё словами и заканчивается, толку от рассуждений немного. Во всяком случае, именно такую мысль развивает в своём первом послании апостол Пётр. Отрывок из 2-й и 3-й глав этого библейского текста читается сегодня во время утреннего богослужения. Давайте послушаем.
Глава 2.
21 Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.
22 Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.
23 Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.
24 Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.
25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.
Глава 3.
1 Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,
2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.
3 Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,
4 но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
5 Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.
6 Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.
7 Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
8 Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;
9 не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Послания апостола Петра (а их в Библии — два) носят именование соборных, то есть адресованных не конкретному лицу, а всей полноте Церкви. Хотя, быть может, мы просто не знаем, кому именно апостол Пётр писал. Какой именно общине или человеку. Но это не имеет какого-то особого значения, поскольку содержание посланий действительно касается каждого христианина. Вне зависимости от места и даже времени его проживания. Ведь, согласитесь, прозвучавшие строки, на самом деле, звучат очень актуально.
Апостол Пётр призывает своих читателей следовать примеру Господа Иисуса Христа, подражая Его пониманию мира и человека. Так, Христос никогда не боролся с людьми, а только со злом, которое люди совершали. Спаситель во время Своего земного служения проявлял поразительную мудрость, каждый раз оказываясь способным отделить человека от его ошибок. Христос никогда не мстил, не отвечал злом на зло. Но, приняв на Себя тяжесть пороков этого мира, упразднил власть тьмы через Крестную жертву. И даровал нам свободу — свободу от зла. Или как пишет апостол Пётр: «ранами Его вы исцелились».
Благодаря Христу мы теперь имеем возможность не только не бояться зла, но и не страшиться одиночества. Ведь тот, кто верит в Спасителя, следует Его заповедям, никогда не будет одинок. Во-первых, Христос будет рядом, утешая и поддерживая. Во-вторых, заповеди Господа Иисуса предполагают служение милосердия. А там, где милость, участие, терпение, там дружба и любовь. Благодаря Христу, через Христа мы получаем возможность найти родных по духу людей.
Рассуждает апостол Пётр и о том, как должны выстраиваться отношения между супругами. Он призывает мужей и жён с заботой и нежностью относиться друг ко другу, думать не только о себе, своих интересах, но и о нуждах другого. И Пётр, например, просит жён заботиться внутреннем, чем о внешнем, ведь внешняя красота приобретает какое-либо существенное значение, если она изнутри освящена добродетелями.
А мужей апостол призывает к чуткости. Мы слышали замечательные слова: «(Мужья), обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот как интересно получается. Если муж относится к жене с небрежением, то его молитвы Бог не примет. Потому что милость от Господа приходит только к тому, кто сам проявляет милость по отношению к ближнему. А ближе жены у мужчины никого нет.
И, конечно, по-настоящему вдохновляет окончание сегодняшнего чтения. Призвав читателей к единомыслию, состраданию, дружелюбию, апостол Пётр пишет: «благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Эти слова означают следующее. Если человек считает себя христианином, значит — людям рядом с ним должно быть хорошо. Ведь плодами настоящей веры являются милосердие и сострадание. Именно так на практике проявляет себя упомянутое апостолом Петром благословение, исходящее от Бога через верных Господу людей.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Творить добро: как стать участником «Клуба волонтёров»

Работа волонтёром — это не только общение с подопечными, благотворительные акции, но и текущие административные задачи. Здесь важно найти баланс, и Евгении Агаджанян — координатору проектов «Клуба волонтёров» — это удаётся.

В свободное от рабочих вопросов время Женя с группой добровольцев помогает нескольким многодетным семьям. Недавно одной из них потребовалась помощь с организацией ремонта. Трудились всей командой: как волонтёры, так и сами подопечные. Закупили материалы, поклеили обои, установили натяжной потолок, покрасили рамы и обновили освещение.
«Клуб волонтёров» существует в России более 20 лет. На регулярной основе ребята помогают многодетным семьям в сложной жизненной ситуации, а также поддерживают 25 детских домов и интернатов в 12 регионах страны. Основное внимание активисты уделяют подопечным в посёлках и небольших городах.
Для того чтобы присоединиться к Клубу волонтеров достаточно прийти на День открытых дверей, который ребята проводят каждые 2 недели. Подробную информацию об этом можно найти на сайте организации.














