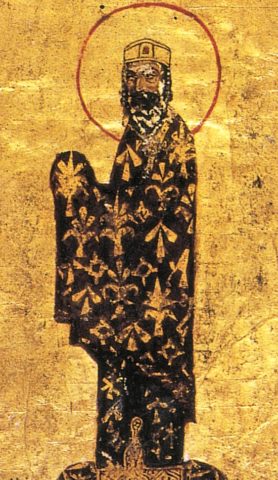
Гость программы: историк, директор образовательных и просветительских проектов Фонда исторической перспективы Александр Музафаров.
Разговор шел о Византийской империи времен правления императора Алексея Комнина, о роли этого правителя в преодолении кризиса империи в 11 веке, а также о его участии в поддержке церковной жизни в Византии.
Д. Володихин
– Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы с вами поговорим о государстве, которого давным-давно не существует, но оно успело наложить отпечаток своей высокой культуры на нашу страну, ну собственно и не только на нее, а на добрый десяток государств Европы, если не больше. Я имею в виду империю ромеев, которую в поздней традиции называют Византией. Империя ромеев – христианская империя, держава со столицей в Константинополе. И в советских исторических учебниках отражали очень своеобразно: она была «консервативной», «отстающей», «косной» и даже, насколько я помню, когда изображали территорию этой империи, создавалось впечатление, как будто она постепенно уменьшается, уменьшается, уменьшается, хотя это вовсе не так. Она, что называется, дышала – то уменьшалась, то увеличивалась, то испытывала тяжелейший страшнейший кризис, то вновь росла в размерах, расцветала и всей Европе давала те интеллектуальные пакеты, которые та усваивала в сфере высшей сложнейшей культуры, литературы и знаний государственного управления. Вот собственно XI век это эпоха, когда империя пережила один из таких кризисов, и ее вывел, а перефразируя советские времена, выволок империю из грязи император Алексий I Комнин – человек, который вывел на трон целую династию великих государей. И в истории не только империи ромеев, а всей Европы, и, наверное, можно сказать мира. Один из блистательнейших, величайших государей, о которых мы, к сожалению, знаем очень мало. Поскольку для советского учебника Византия это периферия, ее государь это периферия. Но давайте мы немножечко скорректируем профиль наших исторических знаний и обратимся к этому замечательному историческому деятелю, для того чтобы понять все величие его действий и все тяготы его державной жизни. Для того чтобы поговорить с чувством, с толком, с расстановкой об этом человеке, мы пригласили к нам в студию историка, исторического публициста, директора образовательных и просветительских проектов Фонда исторической перспективы, Александра Азизовича Музафарова. Здравствуйте.
А. Музафаров
– Здравствуйте.
Д. Володихин
– Собственно он удивляет московскую публику, вот уже, наверное, года полтора замечательными лекциями о монархах мира. Один опыт у нас такой лекции уже был, вы имели возможность послушать выступление Александра Музафарова об императоре Александре III. Теперь на нем Алексей I Комнин. Традиционно, что-то вроде визитной карточки Алексея I Комнина: что надо вспоминать, о чем надо думать, когда заходит о нем разговор? Буквально в трех – четырех фразах.
А. Музафаров
– Ну во-первых, это упорство, помноженное на чувство долга. То есть если бы он был европейским рыцарем и выбирал себе девиз, то, наверное, его девизом был бы: «Никогда не сдаваться». Потому что вот он бился за империю до конца и не останавливался, пока не решал проблему. То есть вот печенеги – мы будем биться, пока печенеги не кончатся. Норманны – мы будем биться, пока не отучим их высаживаться на западе империи. Турки – мы будим биться с ними, пока не будем оттеснять их дальше в Малую Азию.
Д. Володихин
– Пока не отдадут наши города.
А. Музафаров
– Да. Я буду собирать новое войско, если побьют прежнее, никакая неудача не заставит меня остановиться и сложить оружие. То есть это упорство в достижении цели и воля. Второе качество его – это, конечно, православная вера, потому что был глубоко верующий человек. Собственно, видимо, в вере он и черпал силы своей, так сказать, вот этой настойчивости и воли. Его дочь вспоминала, что он не ложился спать, не постояв долгое время на молитве. Спал он всегда на голом мраморном полу, чтобы помнить, что он простой воин и воин Христов, так сказать, что он именно сражается, чтобы удержать вот эту вот православную ойкумену, православную империю. И третье – я бы сказал, что это был политик, это был император, который умел находить, скажем, нестандартные решения и выбираться из самых сложных ситуаций. То есть это не только воля и настойчивость, но и находчивость, я бы сказал так. Потому что он сумел справиться с очень многими проблемами, и всегда находил способ обратить, так сказать, вот бедствия, обрушившиеся на него, к себе же на пользу или к пользе своей державы. Он сумел как бы пройти не то что между Сциллой и Харибдой, а между таким вот коленчатым валом, который наносил постоянные удары, и использовать энергию этого вала для того, чтобы спасти и возродить свою страну.
Д. Володихин
– Ну что же, хочу, чтобы уважаемые радиослушатели вспомнили слова из известной старой рок-песни – «Воля и разум». Но в отношении Алексея I Комнина, наверное, придется добавить еще одно слово: вера, воля и разум, – вот это то, что характеризует великого императора. Ну а теперь давайте вспомним о том, как он рос, как он формировался как великий государственный муж, и что заставило его взять на себя власть. Изначально, в общем, это не предполагалось, и никто не думал, что этот человек станет императором.
Д. Володихин
– Алексей I Комнин родился где-то в начале 50-х годов XI века. К сожалению, точной даты его рождения в источниках не сохранилось, что несколько странно, потому что его подробные биографии писали современники, но почему-то этому вопросу они не уделили внимания. Непонятно даже, где он родился, то ли в Константинополе, где в этот момент правил его дядя, Исаак Комнин, то ли в родовом, так сказать, домене семейства Комнинов – Кастлкомну, до сих пор существующий такой турецкий город, тогда он был, конечно, ромейским. Это город в Пафлагонии, на востоке империи. И происходил он из такого знатного рода византийских военачальников. Семья была довольно большая, он рано осиротел – умер отец, но вместе со своими старшими братьями он уже с 12 лет принимает участие в походах и сражениях византийской армии, сдерживающей натиск турок-сельджуков, хлынувших в Малую Азию после поражения Романа IV Диогена при Манцикерте.
Д. Володихин
– Ну да, собственно проблема-то была и раньше. Роман IV Диоген был последний перед длительным, крайне тяжелым для империи периодом, государем, который всерьез имел возможность сдержать турок. Они до этого, к сожалению, довольно долго громили армию империи, продвигались в Малую Азию все дальше и дальше, забирали один город за другим. И нанесли империи урон не только самим фактом продвижения, а еще и тем, что отобрали у нее золотоносные реки, питавшие экономику. Ну и плюс к туркам с востока добавилась опасность норманнских рыцарей, которые захватили обширные владения в Сицилии, на юге Апеннинского полуострова, стремились оттяпать у империи – иначе не скажешь, потому что нрав был бандитский по натуре, хотя рыцарский по названию, – это угроза с запада была страшнейшая. Ну и наконец, мне кажется, север тоже в этот момент набухал опасностью.
А. Музафаров
– Да, в этот момент народ, который ромеи называли пачинокиты, а русским летописям он известен как печенеги, были выбиты из великой степи новым народом кипчаков или по-русски половцев, и в отчаянии бросились на соседей. Одну их крупную орду разбил русский князь Ярослав Мудрый, а вторая крупная орда хлынула на Дунай и с севера обрушилась на империю ромеев. Это были постоянные набеги, постоянный прорыв дунайской границы империи и постоянный угон жителей в рабство, разорение. И империя оказалась как бы между тремя врагами – турками, норманнами и печенегами.
Д. Володихин
– И я бы добавил сюда, что еще один страшный враг была внутренняя неурядица.
А. Музафаров
– Да, совершенно верно.
Д. Володихин
– И там проблема-то была в том, что два последних государя перед Алексеем I Комниным, перед его воцарением, это Михаил VII и Никифор III Вотаниат, они фактически бездействовали. Первый был прекрасно образованный юноша, которому больше пристало рассуждать по поводу философии, истории, риторических способностей людей, но управлять он не хотел. Второй был старец 78-летнего возраста, который забрался – я не знаю, наверное, ему помогли, – забрался на престол, будучи до этого узурпатором. Занялся какими-то непристойными матримониальными планами, то есть при живой жене развел предыдущего императора, забрал его жену. И тоже предался бездействию, откупался от своих поданных богатыми подарками и, как и первый государь, терпел то, что на территории империи вспыхивают один за другим страшные мятежи против его власти.
А. Музафаров
– И вот такой раздрай в верхней власти, он постепенно распространялся на все ромейское общество. Предания о юности Алексея повествуют о его пути, вот как офицера, полководца, когда он со своим братом отправился с небольшим отрядом воевать с турками, и от него ночью убежали воины. То есть один из воинов его разбудил и сказал, что слушай, ты хороший человек, мы к тебе хорошо относимся, но мы тут решили сбежать, поэтому ну вот не обессудь. И Алексей утром проснулся, убедился, что воины действительно сбежали, мало того, они увели у него коня. И он в доспехах шел около 20 верст до ближайшего ромейского города. И его биограф отмечает с гордостью, что он не бросил этот тяжелый латный доспех, по жаре он дошел, нашел подмогу, сумел выручить брата. И ему приходилось не только воевать, но и уговаривать, использовать дипломатические приемы, собирать себе войско, уверять воинов в своей преданности. И так он постепенно зарабатывал репутацию храброго и умного военачальника.
Д. Володихин
– Дорогие радиослушатели, вы видите, какой ужас творится в империи – турки, печенеги, норманны, мятежи, полное оскудение авторитета власти. И вот на фоне всего этого прозвучит то, о чем помнит вся империя – об идеале истиной императорской власти. Мелодия «Василевс» из кинофильма «Русь изначальная», автор – композитор Алексей Львович Рыбников.
Д. Володихин
– Дорогие радиослушатели, вот такой хотели видеть подданные ромейских государей своего императора и свою империю. Но было иначе. Несмотря на это я напоминаю: у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Замечательный историк, исторический публицист, директор образовательных и просветительских программ Фонда исторической перспективы, Александр Музафаров с нами и рассказывает нам об императоре Алексее I Комнине. Насколько я помню, собственно последний государь перед установлением власти Комнинов, Никифор III Вотаниат, пытался на этого опытного знатного воина опереться в подавлении мятежей против своей власти, и сначала все было хорошо.
А. Музафаров
– Да, дело в том, что вот такое бедственное положение империи вызывало у здравомыслящих ромеев понимание, что империю надо спасать. Беда в том, что спасателей нашлось много, и эти спасатели были людьми честолюбивыми, это были полководцы. И, помимо Никифора III Вотаниата, был еще Никифор Василаки, удерживавший восток империи, был Никифор Вриенний, который удерживал запад империи. И Никифор III Вотаниат, будучи человеком весьма пожилым, попытался опереться на Алексея Комнина, вызвал его в Константинополь, получил ему, сделал его, по-моему, доместиком запада – такой высокий чин в византийской иерархии, – и поручил ему справиться с этими мятежами. И вот здесь надо отметить такое тоже интересное участие Алексея Комнина, что он справился с мятежами, но подавляя их, он стремился не добивать своих. Скажем, с тем же Никифором Вриеннием он его победил, он принудил его к капитуляции, но он же с ним и породнился, выдав замуж за его сына свою дочь и воспитав этого сына при своем дворе. Тот впоследствии напишет его биографию. Он очень хорошо понимал, что главная угроза ромейской державе исходит извне и поэтому старался не тратить эти силы на внутренние усобия.
Д. Володихин
– Одни из мятежей, на подавление которого хотел направить его император, осуществлялся хорошо известными ему, фактически родными людьми. Он отказался. Император начал гасить мятеж деньгами, и более-менее его погасил. Но стало понятно, что мир в империи в таких условиях невозможен, потому что император недостоин трона.
А. Музафаров
– Да, к тому же при дворе нашлись люди, которые решили, что братья Комнины слишком опасны, что их слишком любит армия, их слишком любит народ, и попытались устроить такую интригу с их арестом и расправой над ними. Алексею и его старшему брату Исааку пришлось бежать из Константинополя. Бежали они к армии, и армия их поддержала и пошла, так сказать, на столицу. А дальше они подходят к столице. Взять штурмом Константинополь Алексей не мог, но один из его приближенных сел на ослика и поехал вдоль городских стен слушать, как его с этих стен ругают. И вот он ехал, его ругали, его бранили – он был пожилой человек, хотя опытный политик. И вот он, приехав, доложил своему правителю, что вот там вот стоят варяги, с ними не договоришься, тут стоят эти, с этими тоже не договоришься. А вот тут стоят некие «немиции» – то есть скорее всего это славянское слово «немцы», и вот с ними договориться можно, они готовы за определенную плату открыть ворота. И собственно так ночью он и сделал. Ночью он подъехал к ним уже на ослике и реализовал, как это, поговорку Филиппа Македонского, что осел, нагруженный золотом, возьмет любую твердыню. То есть ворота были открыты, люди Алексея ворвались в город, просочились...
Д. Володихин
– Город еще был полон войск императора, но император, как обычно, находился в старческом бездействии и дал достаточно спокойно себя взять в плен.
А. Музафаров
– Да, он был смещен. И опять-таки вот тоже интересно поведение Алексея: он не убил и даже не ослепил свергнутого предшественника, а просто предложил ему постричься в монастырь, где тот и долго довольно еще прожил, он был долгожитель, Никифор Вотаниат, жалуясь только на то, что вот мяса есть нельзя, а так все, в общем, хорошо.
Д. Володихин
– Но надо сказать, что в управлении императора, предшествовавшего Алексею I, все было плохо, кроме одного, и за это Бог ему воздал: когда он брал власть как узурпатор, он тоже пощадил Михаила VII, предыдущего государя, и тоже предложил ему иночество вместе увечья или казни. Ну вот, собственно, благо, которое он совершил раз в жизни государственной своей, к нему вернулось. Ну теперь Господь с ними, со старыми императорами, посмотрим на нового. Алексей I венчается на царство, Константинополь его. С востока те же турки, с севера те же печенеги, с запада те же норманны. Империя лежит изувеченная, обескровленная.
А. Музафаров
– Я бы добавил, что в империи еще экономический кризис – то есть монета сильно испорчена, ремесленники разорены. И то есть в ситуации находятся в крайне сложном положении. И на границах, прямо как у Пушкина:
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, –
Ан с востока лезет рать.
Наиболее острой проблемой были норманны, они штурмовали ромейский порт Диррахий – это на западном побережье нынешней Греции. Алексей собрал большое войско, пошел и был разбит. Битва была очень жестокой, потому что в составе варяжской гвардии Алексей сражались изгнанные из Англии саксы, вот люди короля Гарольда, которые не смогли удержать Англию от норманнского завоевания, потерпевшие поражение в битве при Гастингсе, и они сражались с норманнами до последнего, пока не были все перебиты. Но Алексей собрал новое войско, и в 1184 году, если мне память не изменяет, он разбил-таки норманнов под Диррахием...
Д. Володихин
– Додавил.
А. Музафаров
– И изгнал их войско. Он применял очень разную политику. Скажем, для того чтобы держать и контролировать восточные провинции империи, на которые зарились турки, он договорился с одним из перешедших на его сторону турецких султанов, Сулейманом, и сделал его, так сказать, ромейским чиновником. И Сулейман, пользовавшийся среди этих диких турок определенным авторитетом, отбивал своих бывших соплеменников от востока империи. Это позволило императору сосредоточить свои силы на том, чтобы остановить печенегов. И ему удалось в нескольких сражениях нанести печенегам весьма сокрушительное поражение. В последней битве он разбил их окончательно, как писала его дочь, Анна Комнина в своей замечательной книге «Алексиаде», в которой она описывала деяния отца. Да, что удивительно, но огромный народ после этой битвы перестал существовать, но это действительно так было. Последний бой печенегов, воины были перебиты, а жены и дети, соответственно, потом ассимилировались в ромейской державе.
Д. Володихин
– Как бы это правильно резюмировать: надо проявлять больше сговорчивости.
А. Музафаров
– Да. Потому что они пытались именно что завоевать себе вот этот вот кусок. Не договориться, не обратиться в службу, а именно завоевать и были разгромлены. Флот Алексея сумел взять под контроль Крит и Кипр, но дальше у Алексея начались проблемы, потому что Сулейман ему верно служил, он был верен своему слову, но он умер, а его сыновья отнюдь не собирались следовать дорогой отца. Они приняли ислам и фактически попытались создать свое независимое государство, независимое и от сельджукского султаната, и от империи. Кончилось тем, что в султанате тоже началась борьба за власть, и фактически какие-то дипломатические договоренности, которыми ромеи пытались сдержать натиск сельджуков с востока на запад, оказалась, так сказать, разрушенными, потому что их некому было соблюдать. И это привело к тяжелейшим потерям: была потеряна Никея – главная крепость, защищавшая Малую Азию, турки вышли к берегам Мраморного моря...
Д. Володихин
– И фактически могли видеть на другом берегу, через пролив, сам Константинополь.
А. Музафаров
– Да. То есть и это, конечно, было тяжелейшим ударом по империи. Тем более что у турок появился флот, и многие острова в Эгейском море, которые были такими житницами империи, они тоже запустели. Известен случай, когда назначенный епископ на один из островов, туда просто не поехал, потому что там ничего кроме развалин не осталось. И Алексей сумел справиться и с этой ситуацией. Причем тут же против него еще сложился заговор людей, которые были недовольны им, и заговор он подавил. Причем во главе заговора стоял один из сыновей Романа IV Диогена, которого он воспитывал при своем дворе, и тот вот неблагодарно собрался его убить. Но один из бдительных воинов поднял тревогу, значит, это не удалось. И тогда Алексей собрал свою армию, сказал, что вот, солдаты, я вот готов драться как простой воин, во имя нашей державы. И кто с этим не согласен, тот вот может поддержать заговорщиков, я не буду тут прямо сейчас наказывать, попробуйте это сделать. Воины заключали: ура басилевсу! – условно говоря, не «ура», другой приветственный клич был – и оказали ему полную поддержку, что позволило ему справиться с мятежниками. Опять-таки он проявил определенное милосердие, потому что не было смертных казней. Были заточения, были постриги в монастыри, было отрешение от должностей, отставки, но своих Алексей старался без крайней необходимости не казнить.
Д. Володихин
– Но вот хотелось бы подчеркнуть: для той эпохи это редкая черта характера – милосердие, потому что, в общем-то, какой правитель, взглянув на то, что происходит с его державой, не сказал бы: чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер, – и не начал бы выкашивать людей десятками, сотнями, если не тысячами. Алексей I был в этом смысле исключением. Исключением даже на фоне предыдущих императоров самой державы ромеев. Он был – я не знаю, наверное, подходит простое слово: добр.
А. Музафаров
– Добр, но скорее справедлив и силен. Потому что он был воин, он считал, что лучшая одежда для мужчины это воинское платье и доспех. И не любил обряжаться в такие пышные ромейские одежды, которыми так принято наделять базилевсов, несмотря на то, что до нас дошло только два его прижизненных изображения, не считая изображений на монетах. И здесь Алексей в этой критической ситуации сумел найти неожиданный совершенно выход. Дело в том, что когда он вступил на престол, к нему пришли послы от римского папы Урбана II. А надо отметить, что в этот момент римских пап было двое, потому что предыдущий папа поссорился с императором, германский император взял Рим, избрал папу по своей версии, Урбан II был папа по другой версии. Один из них был, соответственно, настоящий папа, другой антипапа, соответственно. Так вот, хотя разрыв между Православной и Западной Церквами в 1054 году состоялся, для современников он еще не был окончательным. Еще хранилась память об общехристианском мире и еще теплилась надежда, что его каким-то образом удастся уврачевать.
Д. Володихин
– Эти переговоры приведут к очень серьезным последствиям и в истории Запада, и в истории империи ромеев. Поэтому, прежде чем мы начнем обсуждать их, эти самые последствия, я хотел бы напомнить, дорогие радиослушатели: это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Д. Володихин
– Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях известный историк, исторический публицист, Александр Азизович Музафаров. И мы обсуждаем с ним историю жизни и державные труды императора державы ромеев, Алексея I Комнина. Итак, переговоры, которые сопровождали начальный период правления Алексея I Комнина, ну собственно, эти переговоры он унаследовал с давних времен от своих предшественников, этот переговорный процесс тянулся давно.
А. Музафаров
– Да. И папа Урбан II со своим антипапой пытался найти поддержку на христианском Востоке. И он прислал послов, которые в Константинополе обсуждали вопрос, так сказать, о уврачевании вот этого раскола. Предполагалось собрать некий церковный собор, на котором можно было вот снять те противоречия и восстановить единство христианской Церкви. Сразу скажу, что эта попытка так в итоге ничем и не закончилась, такой собор так и не был собран. Но к нему серьезно готовились. И Алексей I получил такую большую справку о том, в чем именно является уклонение Западной Церкви в ересь, и что не устраивает Церковь Православную. В этой справке было подчеркнуто, что многие бытовые расхождения – там то что западные монахи бреют макушку – это как раз неважно. А вот вопрос о фелиокве – то есть вопрос о природе Святой Троицы, вопрос о базовых основаниях христианской веры, он, безусловно, является важным.
Д. Володихин
– И прежде всего о первенствующем положении папы в мире. Ведь римский престол претендовал и на старшинство и даже на власть над другими центрами христианства в этом мире.
А. Музафаров
– Да, значит. И вот эти вопросы предполагалось обсудить. И вот, пользуясь этим дипломатическим каналом, после потери Малой Азии Алексей I посылает очередное послание западному государю с рассказом о бедствиях, обрушившихся на христианский Восток под ударами мусульман-турок. И папа Урбан, а ему в этот момент улыбнулась удача – император поссорился со своим сыном, сын этот императора фактически отстранил от власти, взял Рим, сам короновался императором и возвел Урбана II на папский престол законный. И вот он провозгласил такое явление как крестовый поход. Он заявил, что отпускает грехи всем, кто наденет на себя крест и пойдет освобождать Святую Землю от неверных. И его слова вызвали фантастический эффект по Европе, собралось огромное количество людей, отправившихся на восток.
Д. Володихин
– Давайте сейчас немножечко займемся хронологией. Когда папа Убран бросил клич? Это ведь, насколько я понимаю, уже середина 90-х годов XI века?
А. Музафаров
– Да.
Д. Володихин
– Мягко говоря, он так не торопился с этим кличем, потому что прошло более десяти лет с тех пор, когда Алексей I взошел на престол и начал говорить о какой-то помощи.
А. Музафаров
– Да, это 1095 год. Значит, историки современные связывают это с двумя факторами. Во-первых, что именно к этому времени ситуация в Малой Азии радикально ухудшилась, турки вышли к проливу. И второй момент, что да, так сказать, на западе выжидали такого момента, когда можно будет говорить с империей ромеев, может быть, даже отчасти с позиции силы.
Д. Володихин
– Но проблема-то в том, что Алексей I в какой-то степени задачу решил до того, как эта помощь к нему подошла. Очень своеобразная, скажем так, помощь. И туркам он начал наносить поражения еще до прихода этого рыцарского потока с запада.
А. Музафаров
– Да, он сформировал очень интересное такое воинское подразделение, основанное на тесном взаимодействии армии и флота. Это были корабли с небольшими десантными отрядами, которые высаживались на побережье, и земля стала гореть у турок под ногами. То есть они совершали такие набеги на Малую Азию – отбивали острова, громили базы турецкого флота и постепенно подготавливали вот это возвращение. А вдобавок ромейская армия удержала плацдарм на восточном берегу Мраморного моря, в районе Никомедии, значит, который позволял ромеям как бы контролировать ситуацию, по крайней мере, в районе проливов, и создавало условия для возможного наступления на восток. Первыми в Константинополь пришли участники христианских крестовых походов, которых вел проповедник Петр Пустынник. Это бы невооруженные люди, это были люди невежественные, в основном крестьяне, воевать они не умели. И ромеи переправили их на восточный берег, где значительная часть из них погибла, сражаясь с турками. А сам Петр Пустынник был востребован при дворе императора ромеев, как такой специалист по тому, что там приходит с запада. Вторая армия крестоносцев, ее вело несколько вождей, шла она по суше. Это, конечно, для западных областей империи было бедствие. Потому что хотя они вроде как шли с миром и дружбой, но это была многотысячная рыцарская армия, которая шла по узким небольшим сельским дорогам, как саранча, съедая все на своем пути.
Д. Володихин
– Притом средневековое рыцарство, оно отличается от киношного рыцарства.
А. Музафаров
– Да, безусловно.
Д. Володихин
– Оно состояло из варваров буйных, скажем так, сильно пьющих и редко моющихся, которые шли, ну кто-то, конечно, спасать Гроб Господень, не будем отрицать и искреннего религиозного чувства. Ну а кто-то думал, что все, что попадется под руку по дороге рядом с самим Гробом Господним и по дороге назад, это справедливо полученная добыча.
А. Музафаров
– Да, тем более все грехи отпущены, чего там стесняться-то. Алексей выделил специальные военные отряды, специальных вельмож, которые эту армию организовано сопроводили к стенам Константинополя, где вступил в переговоры с ее вождями. Здесь вот он проявил такую интересную мудрость и знание не только ромейской истории, но и того как живут люди на западе. То есть вождям крестового похода было предложено принести ему на верность феодальную присягу. В самой державе ромеев такой механизм не использовался, но были специалисты, которые подсказали, как это организовано на западе. И западным рыцарями был предложен понятный, простой для них механизм. И был заключен своего рода союз. Ромеи переправляют эту армию на восток...
Д. Володихин
– Обеспечивают ее.
А. Музафаров
– Обеспечивают ее проводниками, потому что где находится Иерусалим, рыцари не знали. И второе, что еще важно, они обеспечивали ее осадными технологиями. Рыцари были хороши в чистом поле, но брать крепости они не умели.
Д. Володихин
– Ну насколько я понимаю, там с ними будут действовать и ромейские войска.
А. Музафаров
– Да, совершенно верно. Главным образом разведчики и инженерные силы. И Алексею пришлось применить очень дипломатический такт и выдержку, общаясь с этими людьми, потому что они были совершенно действительно варварами, они не понимали ничего ни в византийской культуре, ни в византийском этикете. Во время переговоров один из рыцарей сел на трон императора, а стража басилевса уже потянулась за мечами, но басилевс сказал ему: ты смелый человек, посмотрим, будешь ли ты таким смелым, когда турки поволокут тебя в плен на аркане. И действительно, как отмечает хронист, так и случилось.
Д. Володихин
– То есть иными словами, достались императору Алексею I в качестве помощников запада, используя современное словечко, отморозки.
А. Музафаров
– Да, совершенно верно. Тем не менее, они переправились в Малую Азию...
Д. Володихин
– С помощью Алексея I.
А. Музафаров
– Да, с помощью флота Алексея, они осадили Никею. И так они себя во время осады проявили, что жители Никеи подумали-подумали и решили сдаться императору ромеев. И крестоносцы, готовясь к последнему штурму, неожиданно увидели на стенах осажденного города византийские знамена. И вышедший из ворот чиновник им сообщил, что все, город можно дальше не осаждать, он взят. Рыцари были недовольны, потому что победу они вроде как одержали, но разграбить город им не дали. И они отправились дальше, значит, уже затаив определенные злые чувства на императора. А дальше на их пути лежа Антиохия – крупнейший город востока, жемчужина еще Римской империи...
Д. Володихин
– Настоящий средневековый мегаполис.
А. Музафаров
– Да. С Антиохией рыцари попали в очень сложную ситуацию, потому что они взяли город, но не могли взять цитадель, где засел турецкий гарнизон. В свою очередь подошла огромная армия сельджуков, которая осадила их в этом городе. Крестоносцы обратились за помощью к Алексею, а он им этой помощи оперативно оказать не смог, потому что такого количества войск у них просто не было. И вот здесь своего рода конфликт культур. Византия, ромеи считали: ну не мог и не смог, потом окажет. Но крестоносцы считали: ага, сеньор не выполнил обязательств – значит, можно ему больше не подчиняться. А в результате, досидев в осаде, они ринулись в последний такой решительный бой на турок с криком: «Так хочет Бог». И Бог им действительно помог, турок они разбили. Дальше их ждал поход уже в Палестину, взятие Иерусалима и других городов. А ромейская армия, пользуясь вот этими их успехами, отвоевывала город за городом в Малой Азии, продвигая границы империи к востоку и восстанавливая власть, значит, императора.
Д. Володихин
– Ну что же, я думаю, что правильным будет, что на эту крестоносную тему мы поставим сейчас мелодию, это саундтрек фильма о крестоносцах, «Царство Небесное», композитор Грегсон-Уильямс.
Д. Володихин
– Ну что же, в эфире только что отгремела с этими звуками музыки одна из битв, которую вело крестоносное воинство против турок. И мне осталось напомнить: там у них битвы, а здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным историком, историческим публицистом Александром Музафаровым, продолжаем разговор об одном из величайших правителей мира, императоре Алексее I Комнине. Итак, происходит массовый обвал позиций турок на востоке. И не столь много здесь осуществляют крестоносцы, сколько войска самого императора, которые были готовы к ведению боев в этих условиях, которые почву для контрнаступления также подготовили заранее. И которые, в сущности, использовали крестоносцев как такой таран или даже некий металлический колпак на острие тарана.
А. Музафаров
– Да, крестоносцы ушли дальше к Палестине, а армия ромеев продолжала оттеснять турок из Малой Азии. И последнее поражение туркам армия Алексея нанесла за год до его смерти, в 1116 году, в сражении при Филомелионе, где были разгромлены войска конийского султаната, и тем самым на долгие годы гарантирована восточная граница империи. А здесь Алексей был верен себе как воин, как полководец, и последнюю битву он провел буквально за год до смерти, будучи уже старым достаточно, больным человеком, тем не менее, он последний раз повел ромеев в бой и победил. А надо отметить, что вот вся эта, вот если мы говорили о войнах, можно, на чем все это было основано. Потому что он бы не только воин. Конечно, прежде всего воин, но и...
Д. Володихин
– Блистательный администратор.
А. Музафаров
– Да, спасение империи заключалось не только в выигранных битвах. Ведь каждый раз, когда он собирал новую армию, но армии и тогда требовали немалых средств. И Алексею удалось восстановить разрушенное хозяйство империи. Ему удалось наладить заново морские пути, его флот взял под контроль восточное Средиземноморье, обеспечивая дорогу византийским караванам. Ему удалось договориться с венецианцами и оживить торговлю империи. Ему удалось восстановить доверие к византийской монетной системе. В 1092 году начали чеканить новую монету, которая, в отличие от порченой монеты Никифора III Вотаниата, снова засияла таким полновесным золотом, монета получила такое название «иперпир».
Д. Володихин
– Да, это очень интересно. Если до начала XI века включительно имперское золото было необыкновенной чистоты – это 23 карата, то есть в районе 950 метрической пробы, в течение кризиса середины XI века оно постепенно падало. И Алексей I застал его в виде страшном – это был уже какое-то серое золото – 330–350 пробы, даже не золото уже, а электра. Ему удалось вытащить его, ну конечно, не к тем блистательным временам, когда оно было 950 пробы, но к 850–870 смог. Это был экономический подвиг, который в тех условиях дорогого стоил.
А. Музафаров
– Да. И это позволило ему оживить торговлю, наполнить казну империи, что дало империи силы. То есть империя была сильна не только тем, что ее воины отчаянно отбили врагов со всех сторон, но и тем, что она снова стала мощным центром ремесла, торговли, культуры. А культура, неслучайно Алексей, я уже говорил, был человеком верующим и при нем наблюдается определенный расцвет византийского православия: строятся новые монастыри, возобновляются многие старые, разоренные турками и норманнами. Он оказывал Церкви поддержку в беспощадной борьбе с ересями, потому что для него чистота веры была не политическим вопросом, а вопросом принципиальным. То есть это был человек, который вверял себя Богу, в Боге видел источник своей силы и своей воли, и поэтому для него здесь не могло быть компромиссов или мелочей. И при нем, и особенно при его наследниках рождается интересное новое поколение ромейской литературы. Можно вспомнить замечательную повесть собственно о его жизни, которую написала его дочь, Анна Комнина, значит, «Алексиада» – это выдающееся произведение ромейской словесности, в котором так, в несколько гиперболизированной форме описывается жизненный путь ее отца. Кстати, интересно, что книжку об отце написал и ее муж, Никифор Вриенний младший. Рождаются новые сюжеты, связанные и с появлением в империи вот этих вот западных людей, рождаются и сюжеты, посвященные борьбе с иноплеменным нашествием. И вот при Комниных, пожалуй, что можно назвать такой последний золотой век ромейской культуры.
Д. Володихин
– А вот, кстати, об этом поговорим подробней. Вы произнесли слово «наследники» – это очень важный момент. Ну во-первых, часто бывает так, что пришел великий человек, поднял до недосягаемого уровня до того низко павшую культуру, экономику, политику, военный потенциал империи – после него все рушится. Во-первых, вот как надолго вперед была обеспечена империя хорошей династией и хорошим состоянием дел? И второе, не менее важное. Вот в нашей литературе нередко встречаешься, что византийская империя находилась в агонии. Значит, XIV век – в агонии, XIII – в агонии XII – в агонии, XI – в агонии X – тоже в агонии. Cпустимся ниже – там тоже несколько агоний найдется. Когда же она жила-то, непонятно. А ведь протянула больше, чем подавляющее большинство государств мира и чуть ли вообще не дольше всех – тысячелетия. Что же там было-то с этой самой агоний, и кто был преемники, удалось ли им удержать высоко знамя, поднятое Алексеем I?
А. Музафаров
– Знаете, по поводу агоний есть интересная книга одного европейского историка, посвященная истории Византии, которая называется «Империя, которая не желала умирать». То есть в этом плане, что этот вечный плач по вечно умирающей Византии, он, конечно, уже, так сказать, совершенно несправедлив. А надо отметить, что ромейская держава обладала очень своеобразным механизмом передачи власти. Ромейская монархия очень сильно отличается от привычной нам европейской или русской монархии. Здесь недостаточно было родиться во дворце, чтобы стать императором. Ромеи недаром так назывались (ромей – это «римлянин» по-гречески), и они помнили времена римской истории, когда император был полководец, взявший или получивший государственную власть.
Д. Володихин
– И получивший особые полномочия, скажем так.
А. Музафаров
– Да, в ромейской державе императором можно было стать. И примеры, когда не только полководец, но и солдат становится императором, ну в ромейской истории известны. Более того, даже вольноотпущенник один был императором и, в общем-то, даже неплохим. Так вот поэтому перед Алексеем стояла сложная задача – заставить поданных принять своих детей в качестве императоров и это ему удалось. Ему наследовал его старший сын и соправитель Иоанн Комнин.
Д. Володихин
– Насколько я помню, в историю империи он вошел как Иоанн II.
А. Музафаров
– Да. Значит, и вот вообще его, и его ближайших потомков называли Великие Комнины. А почему Великие, потому что впоследствии все последующие византийские императоры добавляли их родовое прозвище к своим: были Ангел Комнин, там кто еще был у них, Палеолог Комнин и так далее. Но вот эти непосредственные преемники Алексея, его сын, его внук, по-моему, и его правнук, не помню сейчас точно...
Д. Володихин
– Ну сейчас разберемся.
А. Музафаров
– Они вошли в историю именно как Великие Комнины, при которых держава ромеев стояла.
Д. Володихин
– Вот его внук, насколько я помню, Мануил I Комнин, действительно великий государь, который достаточно долго удерживал империю в ее пределах. И даже, в общем, расширял территорию...
А. Музафаров
– И даже расширил, Антиохию вернул.
Д. Володихин
– У него было еще личное прозвище Великий – Мануил I Великий. Что касается правнука, ну тут, если память мне не изменяет, в детстве был лишен власти родственником, Андроником I Комниным. Ну а это тоже был узурпатор, и, в общем, вел себя совершенно иначе, вел себя как человек, который захватил власть и удерживает ее с помощью жестокости. Вот на нем собственно династия и срезалась. Но давайте вспомним, хорошо, а как много времени прошло со времен получения власти Алексеем I, со времен его смерти до того, как династия рухнула. Начало 80-х – он получает власть, 118 год – он умирает, а дальше?
А. Музафаров
– Ну по большому счету, инерции вот этого процесса хватило до 1204 года, до падения Константинополя под ударом четвертого крестового похода. Но если взять, так сказать, начало кризиса империи, то это 1180 годы – то есть хватило фактически на столетие.
Д. Володихин
– Да, и империя была крепка, внушала уважение своим процветанием соседям. И не только процветанием, но и своей военной силой. Любопытно то, что некоторые русские князья знали очень хорошо империю. Всеволод Большое Гнездо провел на ее территории много лет, был по крови связан с ее аристократией, с теми же Комниными. И ее опыт, опыт империи, он принес в Северо-Восточную Русь. Его колоссальная могущественная Владимирская держава, Всеволода Большое Гнездо это в значительной степени применение политического опыта империи ромеев.
А. Музафаров
– Да, совершенно верно. Он прошел такую хорошую школу и мог править, опираясь как на силу, так и на вот эту знаменитую византийскую дипломатическую ловкость. То есть он умел не только воевать, но и подобно великим Комниным договариваться. И, так сказать, обеспечивать интересы своего государства не только кровью, но и разумом.
Д. Володихин
– Итак, мы фиксируем в истории империи ромеев небывалый взлет, который абсолютно перечеркнул кризис середины XI века, отбросил от Константинополя турок, привел, ну скажем так, на время привел в состояние покоя норманнов, уничтожил печенежскую проблему. И дал миру возможность использовать высокую изысканную имперскую культуру, хлещущую необыкновенными щедрыми струями из главного своего источника, из Константинополя. Таким образом, мы имеем право добрым словом помянуть человека, который, еще раз повторюсь, вытащил империю из грязи – императора Алексея I Комнина. Наша передача подошла к концу. От вашего имени, дорогие радиослушатели, позвольте мне поблагодарить за замечательную беседу, замечательную лекцию об Алексее I Комнине Александра Азизовича Музафарова. И мне осталось лишь сказать вам: спасибо за внимание, до свидания.
А. Музафаров
– До свидания.
Подарим Варе и другим особенным детям возможность совершать новые победы над болезнью

Варе четыре года. Она подопечная Елизаветинского детского сада. Находится он в Москве, на территории Марфо-Мариинского монастыря. Здесь бесплатно помогают таким же особенным детям, как и Варя. У девочки несколько диагнозов, которые мешают ей развиваться. Ещё недавно она жила в своём особенном мире, где единственным другом для неё был плюшевый музыкальный заяц. Без него — ни шагу. Варя не понимала, чего от неё хотят взрослые, не играла с другими детьми и ела только из бутылочки. Её мама смотрела на это с горечью в сердце, думая, что так будет всегда... Однако Елизаветинский детский сад подарил семье надежду на добрые перемены.
День за днём, под чутким руководством педагогов и терапевтов, Варя начала меняться. Стала узнавать воспитателей и улыбаться им. У неё появились другие любимые игрушки, и верный плюшевый зайчик наконец-то смог отдохнуть. Варя полюбила рисовать. Оставлять на большом листе бумаги яркие отпечатки своей ладони и смотреть, как краска создаёт причудливые узоры. А ещё у девочки появилось желание общаться. Она играет с другими ребятами, ест с ними за одним столом и не боится быть в центре внимания.
Эта история — не про болезнь. Она про надежду. Про то, что есть люди, готовые помочь и есть места, где можно обрести поддержку и шанс на развитие. Одно из таких мест — Елизаветинский детский сад.
Поддержим этот благотворительный проект и его подопечных. Пусть в жизни Вари и других ребят с инвалидностью будет возможность развиваться и добиваться новых побед!
Чтобы совершить любой посильный перевод, переходите на сайт Елизаветинского детского сада.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Подарить новую жизнь разрушенным храмам

В разных уголках России есть храмы с большой историей, чьи стены хранят память поколений. Многие из них сильно разрушены и заброшены. Фонд «Белый Ирис» объединяет людей, которые дарят этим святыням новую жизнь. В рамках проекта «Хранителем наследия может стать каждый» (реализуется при участии Фонда президентских грантов) фонд «Белый Ирис» поддерживает тех, кто возрождает старинные храмы.
В одном из сёл Республики Коми живёт Ольга Торлопова. Она — хранитель храма во имя святых Зосимы и Савватия, который располагается в деревне Ипатово. Для неё он, как старая семейная фотография, где лица ещё различимы, но края уже истёрты временем. «Я знаю этот храм с детства. Мы часто ездили в ту деревню всей семьёй — он часть наших воспоминаний. Тогда храм ещё стоял, хотя и был заброшен. А сейчас провалилась крыша, многое обрушилось», — рассказывает Ольга.
Жители деревни Ипатово относятся к идее восстановления с осторожностью: кто-то скептически качает головой, кто-то молча наблюдает. И всё же Ольге удалось найти отзывчивых людей и поддержку.

В конце сентября были сделаны первые обмеры здания, а в скором времени появится эскиз обновлённого храма. Надежда вернуть его к жизни — есть, говорит Ольга Торлопова и совместно с волонтёрами уже планирует будущие субботники и другие работы.
Хранители храмов — это люди, которые невзирая на трудности, следуют зову сердца и желанию сохранить культурное наследие нашей страны. И фонд «Белый ирис» всячески им в этом помогает: привлекает специалистов, проводит обучение и поддерживает финансово.
О том, как присоединиться к возрождению храмов и проекту «Хранителем наследия может стать каждый», узнайте на сайте фонда «Белый ирис».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Христианские мотивы в творчестве М.М. Бахтина». Анастасия Гачева

Гостьей программы «Светлый вечер» была доктор филологических наук, главный библиотекарь Библиотеки № 180 им. Н.Ф. Федорова, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН Анастасия Гачева.
Разговор шел о том, какие христианские смыслы заложены в творчестве Михаила Бахтина и как их приходилось выражать в эпоху, когда напрямую свидетельствовать о христианстве было проблематично.
Этой программой мы продолжаем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.
Первая беседа с кандидатом философских наук Андреем Теслей была посвящена жизненному пути М.М. Бахрина (эфир 22.12.2025)
Вторая беседа с протоиереем Павлом Карташевым была посвящена христианскому взгляду на труды М.М. Бахтина (эфир 23.12.2025)
Третья беседа с доктором филологических наук Татьяной Касаткиной была посвящена размышлениям М.М. Бахтина о творчестве Ф.М. Достоевского (эфир 24.12.2025)
Ведущий: Константин Мацан
Все выпуски программы Светлый вечер













