 У нас в гостях был клирик храма Большое Вознесение у Никитских ворот, доктор церковной истории и церковного права протоиерей Владислав Цыпин.
У нас в гостях был клирик храма Большое Вознесение у Никитских ворот, доктор церковной истории и церковного права протоиерей Владислав Цыпин.
Разговор шел о христианском святом - императоре Юстиниане Великом. Мы говорили о деяниях этого императора по возвращению империи в границы Римского государства до варварских завоеваний, о созданном Юстинианом своде законов и об утвержденной при нем симфонии церковной и государственной власти.
Ведущие: Алла Митрофанова, Алексей Пичугин
А.Пичугин
— Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова
А.Митрофанова
— И Алексей Пичугин.
А.Пичугин
— Сегодня у нас очень интересная тема передачи, исполняется 1450 лет со дня кончины императора Юстиниана Великого. Этот человек, о котором мы знаем, с одной стороны, о его деяниях очень много, о личности этого человека мы знаем, как не специалисты мы знаем очень мало и для того, чтобы разобраться и все как-то связать мы пригласили сегодня протоиерея Владислава Цыпина, здравствуйте!
В.Цыпин
— Здравствуйте!
А.Пичугин
— Отец Владислав служит в храме Большое Вознесение у Никитских ворот, но все конечно же, я думаю, люди церковные, знают его, как профессора Московской духовной академии, Сретенской семинарии и главного канониста Русской церкви.
А.Митрофанова
— Доктора церковной истории, кандидата богослова, сюда еще нужно добавить.
В.Цыпин
— Магистр.
А.Митрофанова
— Магистра.
В.Цыпин
— Что касается церковного права, то на уровне магистерской диссертации нет дифференциации, мой курс церковного права защищался, как магистерская диссертация. Но теперь больше нет тех старых магистров, так что это уже в архивах эта степень. Сейчас магистр – это другое, это, как и в светской школе…
А.Пичугин
— Болонская система
В.Цыпин
— Да, в рамках болонской системы пришлось тех прежних магистров в доктора перевести и старую магистерскую степень закрыть.
А.Митрофанова
— Отец Владислав, что касается темы нашего разговора – великий император Юстиниан, мы его называем великим, он носит титул императора. При этом большинство из нас понятия не имеют, ни кто он такой, ни когда он жил, ни почему его называют великим.
А.Пичугин
— Хотя, как я уже уточнил, очень многие из его деяний большинству людей знакомы.
А.Митрофанова
— Вы могли бы рассказать нам о том, что это был за человек, вообще в чем его величие?
В.Цыпин
— О величии его можно судить по таким широко известным следам его деятельности – это Храм Святой Софии в Константинополе, очевидно беспримерный архитектурный шедевр, во всяком случае в истории христианского зодчества. Это корпус юрис цивилис, который до сих пор является главным источником изучения римского права. Но дело не только в его учебных качествах, он не просто напоминает о древнем римском праве, которое там в наибольшей полноте зафиксировано, потому что относящиеся к дохристианской эпохе памятники римского права, они сохранились в фрагментах. Но это ведь и основа современного, так называемого континентального права. Собственно в наше время в мире две системы права решительно преобладают, все остальное вполне периферийное. Это либо англо-саксонская система права, связанная с германским обычно правом, понятно, что это в Великобритании, в Соединенных штатах, в бывших колониях английских, либо, так называемое континентальное право – Франция, Германия, Италия, Россия тоже, Латинская Америка – это система права базируется на римском праве и вот такой свод римского права – это корпус юрис цивилис, составленный не просто по инициативе императора Юстиниана, но и под его надзором.
А.Митрофанова
— Очень интересно.
В.Цыпин
— И это не все, есть еще нечто имеющее более прямое отношение к церковной истории – это Пятый вселенский собор и он не просто современник этого собора, он его инициатор и он богослов, мысли которого, можно сказать, легли в основу соборного ороса. А еще из истории, мировой истории, он восстановил Римскую империю почти в тех пределах, в каких она существовала до варварских завоеваний. Схема какая здесь – столица империи переместилась из Рима на восток, сначала в Никомидию, император Константин, святой Константин построил новый город на месте древнего небольшого города Византия – это стало новым Римом – Константинополем, но империя продолжала называться Римской до самого своего конца, до 1453 года, только уже по-гречески Арамейской. Но, Рим и запад были утрачены в результате варварских германских захватов, так что на территории империи появились королевства…
А.Митрофанова
— Да, варварские королевства германские…
В.Цыпин
— Остгтов, потом вестготов, ну еще франков, свевов, вандалов в Африке. А вот император Юстиниан вернул под контроль империи Северную Африку, разгромив вандалов, с тех пор они исчезли, в общем, из исторических хроник. Он разгромил Королевство остготов, вернул Италию и частично на территории Испании, на юге Испании также появился форпост имперский, Гибралтар, который назывался тогда Геркулесовы Столбы, оказался тоже вновь под контролем империи. Таким образом после этих войн Юстиниан заслужил такое именование – restitutor orbis – восстановитель мира. Но «orbis» – это как греческая «экумена», то есть, вселенной. Известное выражение папа обращается: «Urbi et orbi» - «Urbi» – городу Риму, «orbi» – всему миру. Весь мир отождествлялся и в языческой Римской империи, и в христианской империи со вселенной. Это не значит, конечно, что так наивно люди представляли, что за границами империи пустота, вакуум и ничего нет, но просто качественно мир – это границы в рамках империи. Это экумена, это то самое «orbis», а дальше уже такая варварская малоинтересная зона, периферия.
А.Митрофанова
— Вот из того, что Вы рассказали, становится понятно, почему Юстиниана называют Великим. Мы же привыкаем к тому, что у нас Петр Великий, Екатерина Великая, ну, может быть кто-то еще знает про Карла Великого или других каких-то выдающихся деятелей средневековья, но что касается Юстиниана – это все-таки более ранний период и если это человек, который восстановил Византийскую империю… Римскую империю, Ромейскую империю, да, вот в этих границах, то, конечно, иначе его и не назовешь. А действительно ли он тот, кому мы обязаны этим понятием о симфонии власти?
В.Цыпин
— Во всяком случае, сам термин «симфония» все же восходит, в том значении в котором мы его сейчас употребили, как симфония священства и царства, как симфония государства и церкви, восходит к одному из актов императора Юстиниана. Вот, упомянутый мною корпус юрис цивилис – это свод законов, там есть законы, которые были изданы до него, начиная с императора Адриана – это середина II века, ну, первая половина II века и до момента издания сборника под названием «Кодекс», куда вошли первые ранние законы самого Юстиниана. Там есть еще две книги, «Институция» - что-то вроде учебника по праву, «Дигесты», или «Пандекты» - это толкование авторитетных древних юристов норм права римского. И наконец четвертая часть корпуса – это «Новеллы», то есть это новые законы – «Novellae Constitutiones». Вот среди этих новелл есть шестая новелла, и в преамбуле к этой шестой новелле текст, который весьма вероятно, если не прямо самим Юстинианом написан, то им отредактирован. Дело в том, что возглавлял всю эту кодификационную работу Трибониан. Трибониан был искуснейший юрист, но похоже, что, может быть он был крещен, но о нем в истории и у историков такое впечатление, что едва ли он был христианин по убеждениям, но преамбула к шестой новелле – это, конечно, текст христианина и поэтому, есть основания… да и стилистически там есть некоторые… нечто общее с тем, как писал сам Юстиниан, как писатель. Поэтому, это его текст и там как раз и упомянута симфония священства и царства, которая уподоблена созвучию души и тела, понятно, что в таком сравнении душой обозначена церковь, а телом государство, или царство, как он это называется. Но царство – это наш славянский, русский перевод, в подлиннике упоминается империя. Но империя на латинском языке – «imperium» - это не совсем опять то же самое, что мы обыкновенно в наше время называем империей. Империя – это власть, собственно, более точный перевод будет – власть. Не именно царство, или империя, а здесь самый такой адекватный перевод будет власть, но власть особого рода – это восходит к римскому праву. В Риме была власть, которая называлась «potestas» - это власть гражданская и «imperio» - это власть военная. Вот консулы римские, они были высшими должностными лицами в Римской республике, они обладали по отношению к гражданам Рима в Риме тем, что называлось «potestas» - гражданской властью и тогда выражалось очень очевидно в ограниченности этой власти, что Рим республика. Но они обладали империумом по отношению к армии, там у них неограниченная была власть, вплоть до права приговаривать к смерти солдат, провинившихся, или офицеров, кого угодно и над населением оккупированной территории, у них тоже «imperio». И вот это слово, которое, как я сказал, лучше всего перевести словом «власть», но в нашем славянском, а потом русском переводе стоит слово «царство» и обозначено то, что Юстиниан уподобляет телу, по отношению к которому церковь, ну он говорит священство, то есть, собственно скорее духовенство, является душой. Тут не употреблен термин «церковь» и это не случайно, поэтому наш перевод «церковь» и «государство» немножко хромает в том отношении, что во времена Юстиниана, собственно – это не было два разных по наполнению организма, это было одно и то же по наполнению.
А.Митрофанова
— Очень важное замечание.
В.Цыпин
— За небольшим исключением, там манихеев, иудеев, каких-то крайних еще еретиков, еще остававшихся тогда язычников, все остальное население империи, все остальные арамеи, они же и христиане – католики, или православные. Но священство и царство – это как бы два возглавления, власть правительства и власть духовная, над одним и тем же организмом.
А.Пичугин
— Это то, что я как раз хотел спросить, то есть, при Юстиниане уже было просто закреплено то, что исторически формировалось на протяжении предыдущих столетий, Константина…
В.Цыпин
— Да, но симфония, конечно, начала формироваться со времен святого Константина, другое дело, что эдикт 313 года никак нельзя считать эдиктом, который бы уже вводил симфонию. Эдикт 313 года…
А.Митрофанова
— Всего лишь легализовал христианство.
В.Цыпин
— Очень похож по своим основным идеям на современное законодательство в большинстве государств, где всякая религия пользуется полнотой свободы.
А.Пичугин
— Профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, канонист, историк церкви – протоиерей Владислав Цыпин сегодня у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Владислав, а почему Юстиниана называют человеком, который… с которого начинается переход от поздней античности к средневековью?
В.Цыпин
— Вы знаете, рубеж этот…
А.Пичугин
— Он же очень зыбкий.
В.Цыпин
— Между античностью и средневековьем можно проводить в самые разные эпохи, и его проводят по-разному. Иногда правление святого императора Константина называют этим рубежом, часто во многих таких систематических историях – падение так называемой Западной Римской империи, которая, как мне представляется, как отдельная империя никогда и не существовала.
А.Пичугин
— Да, но это официальная версия из ВУЗовского учебника истории.
В.Цыпин
— Это не только, конечно, из нашего ВУЗовского, это во многих схемах истории…
А.Митрофанова
— Распространенная точка зрения, скажем так.
В.Цыпин
— Но и время Юстиниана, но и позже тоже. Например, иногда начинают с императора Ираклия, а что при императоре Ираклии произошло – при императоре Ираклии произошла иеренизация империи, то есть сделан был практический вывод из того обстоятельства, что уже значительное большинство населения Константинополя, столицы – это греко-язычные люди, что уже чиновники в массе своей уже не знают латыни, по крайней мере не знают ее достаточно свободно. Население империи – это также либо греки, либо так, или иначе знающие греческий язык – армяне, сирийцы, ну и конечно, также и германцы, славяне разных племен, которые тоже… даже тюркские народы, соприкоснувшись с империей, оставили в империи каких-то поселенцев. Так что, пестрая по этническому составу, по этническому происхождению. Но, в основном – это были уже люди, владеющие греческим языком, либо природные греки. А латинский запад при Ираклии был утрачен и тогда, тогда… не весь, я сказал латинский запад, Рим оставался еще долго оставался, половина Италии оставалась в империи, но это уже лишь небольшая часть всей империи. И поэтому при императоре Ираклии государственным языком стала не латынь, как было при Юстиниане, а стал греческий язык. Вот этот сдвиг в истории собственно самой Римской империи иногда, собственно, ну правда, это версия не очень распространена, но иногда с Ираклия начинают историю средних веков. Но я бы вот что сказал, ведь настоящее зрелое средневековье, какое мы представляем, имея в виду, скажем, феодальную систему, вассалитет, сюзерены, зависящие от них бароны высшего ранга…
А.Пичугин
— Ну это западноевропейские, гораздо более поздние…
В.Цыпин
— Графы, герцоги, бароны заурядные, под ними рыцари, дальше крестьяне, города с их сословием третьим, как потом это было названо – это средневековье существует фактически только уже во втором тысячелетии. Поэтому мне так представляется, что вот вся эта история, по крайней мере европейского, ближневосточного мира от святого Константина до, по меньшей мере, до Карла Великого, или уже даже до начала второго тысячелетия – это особая эпоха. Просто часто в работах историков видно, что условная вот эта схема – древний мир, средневековье, новая эпоха…
А.Митрофанова
— Не работает?
В.Цыпин
— Не работает, плохо работает, из нее многое выламывается.
А.Митрофанова
— А как бы Вы назвали?
В.Цыпин
— А вот здесь вот какая-то такая византийская эпоха, когда явно доминировал Константинополь.
А.Пичугин
— Ну, Византия, да, Константинополь обычно вычленяют.
В.Цыпин
— Средиземноморья и Запада. Я недавно слышал, ну так по телевидению, но напомнив это выскаызвание историка, такого видного историка наших дней и византолога прежде всего, Карпова, который декан исторического факультета.
А.Пичугин
— Истфака МГУ, да.
В.Цыпин
— Он по поводу того выбора, который был сделан святым Владимиром и который некоторым, может быть задним числом кажется несколько своеобразным выбором, почему собственно не запад, по представлениям уже совсем малосведущих людей, процветающий запад, а какая-то отсталая Византия. Он сказал, ну в общем, это выбор, который можно уподобить выбору между современным Парижем и Бантустаном. Бантустана больше сейчас нет, но понятно, что под этим могло подразумеваться.
А.Митрофанова
— Это совершенно справедливо. Что такое запад в то время?
А.Пичугин
— Да, вот сейчас секундочку, недаром, ведь вычленяют Византию даже в образовательном процессе современном, на исторических факультетах есть история средних веков, предмет, есть история Византии, как отдельная совершенно.
А.Митрофанова
— Мне кстати нравится эта идея выделить византийский период между античностью и средневековьем поместить его.
В.Цыпин
— Да, и так получается что, по отношению к средневековью зрелому, позднему, или хотя бы к классическому средневековью, вот эти века от V до IX – это темные века, их так и называют – это времена крайнего упадка, но они ведь характеризуют западноевропейский мир в эти времена, в то время, как Константинополь оставался процветающим городом.
А.Митрофанова
— На самом деле выбор князя Владимира представляется совершенно понятным, если мы посмотрим, что собой действительно представляла территория Западной Европы в то время – варварские королевства, которые спустя лишь… ну я не знаю, когда… при Карле Великом, конечно же, они были более, или менее объединены и начался процесс христианизации, но вместе с тем времени должно было пройти еще очень много для того, чтобы эта новая идеология, не братоубийственной войны, а какого-то такого человеческого отношения друг к другу была усвоена и прижилась, Византия в это время все-таки процветающее государство, которое стоит на этой христианской идеологии, понятно, что отклонения есть и в том, и в другом случае, и идеального государства здесь на земле быть не может, но Византия являет собой такой истинный имперский пример и с ней все хотят очень породниться.
В.Цыпин
— Ну да, конечно.
А.Митрофанова
— Для любого варвара, действительно, это было бы просто пределом мечтаний, а князь Владимир к тому времени он, ну в общем представитель одного из тех варварских народов.
А.Пичугин
— Но с другой стороны…
В.Цыпин
— Хотя сам, конечно, он очень близок к скандинавскому миру был, который тогда также, как и Русь был еще не христианским, а языческим миром. В этом смысле он связан с Западом был своими всеми… бэкграундом, так, по-английски называют. Но это была не принадлежность к раннесредневековому западному христианскому миру, а к тому миру, Западной и Восточной Европы, который пока еще оставался, до него оставался вне христианства.
А.Пичугин
— Но, с другой стороны, вот мы говорим об эпохе императора Юстиниана, как о расцвете Византии и привыкли считать, что Византийская империя вплоть до своего падения – это было нечто процветающее и по крайней мере, может быть не до падения в 1453, но до захвата крестоносцами уж по крайней мере точно.
А.Митрофанова
— В 1204.
А.Пичугин
— Но ведь на самом деле, последние, как минимум 400 лет Византия представляла собой, ну, если не печальное, но около того зрелище.
В.Цыпин
— Конечно, политически, Константинополь пал, в том смысле, что после крестового четвертого похода…
А.Пичугин
— И даже раньше…
В.Цыпин
— Он уже не был столицей большой империи, империя Палеологов, ну, она все-так имела ограниченные масштабы. Что же касается более раннего периода – да, если бы империя была более могучей, мощной империей, она бы не пала под ударами крестоносцев – это понятно.
А.Пичугин
— Тот же самый Константинополь.
В.Цыпин
— Но она потерпела очень мощные внешние удары. В начале это халифат, собственно после Юстиниана, примерно через 100 лет империя потеряла значительную часть тех земель, которые были отвоеваны и даже те, которые раньше входили в состав империи – потеряна была Сирия, потеряна была Палестина, потерян был Египет – основная житница, как обычно называют, страны, империи и наконец потеряна была вообще вся Северная Африка, Испания. Ну, с Испанией дело обстоит иным образом, там вот эта южная полоса, принадлежавшая империи, она еще была отвоевана вестготскими королями, незадолго до исламского нашествия. Это верно, но она еще империя оставалась мощной империей. Я так полагаю, что во времена Македонской династии, во времена Комнинов, это была империя с населением не менее 20 млн человек – больше, чем любое средневековое государство, существовавшее до нового времени.
А.Пичугин
— Поясните, пожалуйста, нашим слушателям о какой хронологии Вы говорите, какие века?
В.Цыпин
— Ну, Халифат – это VII столетие и VIII столетие уже появляется занятые мусульманами территории в Западной Европе – прежде всего Испания, Сицилия, в других местах в Италии появляются мусульманские такие анклавы. Ну известна битва, где франками командовал Карл Мартелл, ну, натиск халифата был остановлен уже по середине Франции современной.
А.Митрофанова
— Карл Мартелл – это дедушка Карла Великого.
В.Цыпин
— Это, значит VII и потом Карл Мартелл – VIII век. Что же касается… а затем, турки Сельджуки отняли значительную часть Малой Азии и после турок Сельджуков империя включала в себя уже Балканы, ну понятно, уже не все Балканы, острова архипелага и западную часть малоазийского полуострова. Примерно, граница менялась Сельджукски султанат, он тоже раздробился на отдельные мелкие султанаты – эта была история, все-таки были успехи военные при императорах Комниных, но в конце концов к началу XIII столетия империя оказалась в ослабленном состоянии, но это одна сторона дела. Но есть другая, в отношении культурном, понятно, что империя оставалась на высоком уровне. Ренессанс хорошо известная эпоха в истории европейской мысли, европейской культуры, вообще европейской истории. Какой имел главный толчок – совершенно ясно какой – эмиграцию греков, которая началась еще до окончательного падения Константинополя в XIV веке, когда любознательные ученые европейцы по большей части, почти исключительно из монашеской церковной среды, клирики, которые плохо могли читать древние латинские тексты и за редчайшим исключением ничего не читали по-гречески, и вот греки, эмигрировавшие в Италию, прежде всего, научили таких любознательных людей знанию классической латыни. Говорят правда, что после того, как классическая латынь была восстановлена, скажем в сочинениях Эразма Роттердамского, она окончательно умерла. Потому что на ней, упрощенной средневековой латыни можно было легко общаться, говорить и даже стихи сочинять, а тут она уже стала труднодоступной для человека, родной язык которого был другим. Ну, это вероятно так. но и греческий язык стал известен Западной Европе благодаря учителям, которые попадали эмигрируя в Италию. Ну, есть один пример такого эмигранта, который очень важен в истории русской церкви, в истории России – это Максим Грек, он был таким итальянским. Он был эмигрантом из Эпира, оказавшимся в Италии, подружившимся там с многими видными деятелями гуманизма, ренессанса, но особенно близко он все-таки сошелся с Савонаролой, который как раз весь этот светский дух, который с собой нес ренессанс, пытался изгнать из Флоренции и вообще откуда бы то ни было. Ну а потом он после казни Савонаролы, он вернулся на Афон… то есть вернулся на свою родину, оказался на Афоне, принял там постриг, ну а затем оказался… Но мы кажется далеко ушли от Юстиниана.
А.Митрофанова
— Вот в том то и дело, да, я слушаю Вас и понимаю, насколько все взаимосвязано, но при этом хотелось бы вернуться к главному герою нашего разговора, поскольку…
А.Пичугин
— И через минуту мы обязательно это сделаем – протоиерей Владислав Цыпин – профессор Московской духовной академии, Сретенской семинарии, клирик храма Большого Вознесения у Никитских ворот, храма, где Пушкин венчался, кстати говоря, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова и я, Алексей Пичугин. Не переключайтесь.
А.Митрофанова
— Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я – Алла Митрофанова и в программе «Светлый вечер» сегодня протоиерей Владислав Цыпин – профессор, доктор церковной истории, кандидат богословия, заведующий кафедрой Церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской семинарии. Мы говорим об императоре Юстиниане. Мы о нем говорим в связи с тем, что 27 ноября – это день, когда мы отмечаем 1450 лет со дня его кончины. Мы много поговорили уже, отец Владислав, о политической ситуации, о культурном даже отчасти значении Византии для восточного и западного мира, но хочется вернуться к императору Юстиниану, как к главному герою нашего разговора. И, ну вы знаете, поскольку я женщина, мне конечно бывает понятно, что в полноте человек раскрывается в своем… в браке. И рядом с императором Юстинианом стоит еще одна очень яркая фигура – царица Феодора, о которой тоже может быть, многие слышали, но мы не всегда понимаем с чем именно связано ее имя и какие ассоциации в связи с ним должны возникать. Мне бы хотелось, чтобы Вы рассказали об императоре Юстиниане и царице Феодоре, как о таком, ну, как сказать, если можно так сказать, едином организме. Что они были за люди?
В.Цыпин
— Царица Феодора, как и ее муж Юстиниан – одна из святых православной церкви, они оба канонизированы и память их в один и тот же день. Царица Феодора сама по себе, помимо того, что она была женой великого человека, она тоже великий человек по собственным своим качествам, способностям. С именем императора Юстиниана связаны разные события, в самом начале его правления в Константинополе вспыхнуло восстание, бунт, под названием Ника. И, ситуация складывалась крайне опасно для императора. На совете, военном государственном совете в присутствии Феодоры обсуждалась возможность эмиграции, то есть, оставления Константинополя, ситуация казалась уже совсем безнадежной, потому что везде толпы взбунтовавшихся людей, причем довольно способных к дракам, в какой-то мере, и к вооруженной борьбе – поджоги, убийства на улицах города, императорский дворец уже окружен и отчасти какие-то его здания, входящие в комплекс императорского дворца сожжены. Сожжена святая София, ведь то, что построил Юстиниан, он построил, потому что была прежняя Святая София…
А.Пичугин
— Даже перестроил там какие-то остатки.
В.Цыпин
— Ну, они вошли в комплекс, да, остатки… остались остатки, то есть можно себе представить крайне опасную ситуацию, которая сложилась. И вот когда эта тема обсуждалась, царица, императрица Феодора, хотя правда, она не именовалась тогда императрица, императрица – это позднейший титул, когда реальным правителем государства была святая Ирина, она подписывалась «император Ирина», потому что императрицы не было. Августа, вот ее титул, правильный титул, августа – высший из титулов, который имела Феодора. Так вот августа Феодора, она сказала, что конечно, корабли стоят у причала и мы можем добраться до этих кораблей, и у нас есть деньги для того, чтобы оставить город и как-то где-то устроиться, но, говорит, я не хотела бы и просто решительно не хочу вернуться в прежнее состояние подданного человека и что очень замечательно древнее изречение о том, что порфир лучший савн для правителей. То есть, она предложила своему мужу стоять до конца, оставаться до конца. Это было… это не был военный план, план подавления мятежа, но по крайней мере колебания прекратились и у него, у тех высших его советников, военачальников, а два лучших полководца, которых знает история Византии, они оба были в его эпоху – это Велисарий и Нарзес, или Нарсес, вот они там тоже находились и вместе они сумели…
А.Пичугин
— Если вернуться к началу семейной жизни Юстиниана, там же тоже интересная история… у нее не благородное далеко происхождение было у Феодоры…
А.Митрофанова
— Тем то она и удивительна.
В.Цыпин
— И у самого Юстиниана происхождение самое скромное. Юстиниан родился в крестьянской семье где-то на Балканах, в центральной части Балкан, ну, примерно – это север Македонии, славянской Македонии и юг Сербии.
А.Пичугин
— А кем же он был по национальности? Если мы можем об этом говорить, конечно.
В.Цыпин
— Ну, тут можно сказать совершенно определенно, вероятно, ну правда вероятно, он знал родной язык своего народа – это был один из иллирийских народов. Правда есть и такое суждение, что это были фракийцы. Там граница фракийцев и иллирийцев пролегала, но с детства он знал латинский язык, то есть – это уже была та часть Балкан, где господствовал не греческий, а латинский язык. Греческий язык он уже выучил в Константинополе и конечно, он говорил на латинском языке, приходилось ли ему в зрелые годы пользоваться языком своего детства, я об этом сказать ничего не могу, наверное, и историкам это неизвестно, но обычно его язык был латинский язык, а греческий он тоже знал.
А.Митрофанова
— Что касается Феодоры, а каково ее происхождение и каков ее путь наверх, от которого она так не хотела отказываться?
В.Цыпин
— Она родилась в семье, как бы это сказать, ну можно сказать актерской. Отец ее был не то чтобы просто актер, связано было со зрелищами, с ипподромом. Но ее мать, ее сестры и она сама в ранней юности, почти в детстве и потом была актриса, так можно сказать. И она не просто что-то показывала, видимо и танцы, и какие-то…
А.Митрофанова
— Акробатические номера.
В.Цыпин
— Акробатические номера, как Вы выразились, но и какие-то сценки, вроде мимов, но она еще и импровизировала и ее замечательное красноречие было уже выработано тогда, ее находчивость, умение остро, ярко высказаться, когда к ней обращались с самыми неожиданными вопросами, порой, может быть, с неожиданными вопросами, поставить на место собеседника – это уже тогда в ней выработалось. Она, конечно, была удивительно хороша собой. Более, или менее, мы ее представляем наружность, потому что Равеннская мозаика в храме святого Виталия, если я правильно помню название церкви.
А.Митрофанова
— По-моему, да. По-моему, там.
В.Цыпин
— На одной стене Феодора со свитой, на другой император со свитой и с правящим архиереем Равенны Максимианом.
А.Митрофанова
— Я кстати именно там впервые и услышала эти имена, я стояла, как завороженная, рассматривала лица этих людей, потому что несмотря на то, что это мозаика, выложены они очень хорошо и видно, что она была женщиной удивительно красивой и то, что в Равенне запечатлели таким образом память царицы Феодоры и императора Юстиниана – это дорогого стоит. Это значит, что они действительно были людьми, которые для своего времени… ну, это не просто правители – это какие-то знаковые фигуры, отчасти даже символические.
В.Цыпин
— Ну, да. И она была замужем, но оказалась в разводе со своим мужем и вот поселилась в конце концов в Константинополе и тогда она познакомилась с Юстинианом. Юстиниан уже в Константинополе, конечно, занимал исключительно высокое положение, потому что он был племянником императора. Его дядя Юстин, простой крестьянин, как и сам Юстиниан по происхождению своему, вот, отправился в Константинополь в солдаты наняться, говорят, что даже ради экономии обуви – он шел босиком из своего родного города в столицу империи, а сапоги нес за спиной.
А.Митрофанова
— Чтобы не сносить их прежде времени.
В.Цыпин
— Но сделал блестящую карьеру, стал генералом. Оказался одним из тех, кто был близок к правившему тогда императору Анастасию и был избран, поставлен императором после смерти Анастасия.
А.Митрофанова
— Блестящая идея.
В.Цыпин
— Понятно, что при этом и его племянник, которого он уже в бытность свою генералом, взял к себе в Константинополь, сделал карьеру, но если он был человек, так и не получившим солидного образования. Вот уровень образования в Риме был достаточно… в Новом Риме – в Константинополе, достаточно, как и в древнем Риме, был достаточно высоким. Чиновники, в отличие, от европейских сановников, которые иногда могли ставить и довольно часто, в какое-то время даже обыкновенно, подпись ставили крестиком, включая королей. Чиновники, даже заурядные чиновники, а не то что высокопоставленные…
А.Митрофанова
— Ну, тот же Карл Великий, он же тоже боролся со своей безграмотностью.
В.Цыпин
— В Римской империи имели образование, ну, либо среднее по нашим меркам, либо высшее. Но не всегда военачальники, генералами могли быть и люди, не имевшие основательного образования. Это не значит, что все генералы были такие, но такие могли быть. И похоже император Юстин не получил образования, ну, на уровне высшего круга столицы, к которому он стал принадлежать. Но его племянник получил замечательное блестящее образование. Он все науки изучал, таких изучавших науки принято было называть философами. Философ – это примерно то же, что в Германии академик, а у нас человек с высшим университетским образованием по преимуществу, вот он был таким философом, причем незаурядно хорошо образованным. Но по преимуществу у него образование было критическое богословское, отчасти военное, хотя он по складу своего характера, он не был военным человеком. Ему конечно пришлось быть на военной службе, когда он стал императором, накануне он был высокопоставленным военачальником. Но по особенностям своей личности, он военным человеком не был, пожалуй, был первый император, который по преимуществу правил не на поле сражений, не там, где военные смотры устраиваются, а в кабинете. Причем он отличался невероятным усердием, он спал 2-4 часа, при этом прожил более 80 лет.
А.Пичугин
— 83 года, если я не ошибаюсь.
А.Митрофанова
— Дай Бог каждому так.
В.Цыпин
— Перенес чуму, которая в одно время опустошила Константинополь, ему уже было за 60, когда он перенес и выздоровел после этой болезни. Он крайне мало ел, он был в высшей степени аскетичен, как пишут, он так слегка прикасался к тому, что подавалось.
А.Митрофанова
— А это следствие какой-то глубокой веры, следствие самодисциплины, или что-то еще?
В.Цыпин
— Это безусловно следствие самодисциплины высокой, это, конечно, и аскетическая настроенность за этим стоит, может быть и что-то другое, я не думаю, что какая-то сознательная диета, не думаю, что так, но он просто так, наверное, чувствовал по себе, что он себя чувствует совершенно хорошо, нормально, не перегружено, работоспособно, когда есть крайне мало. А что касается сна, ну, так получалось, он видимо все время размышлял о делах государственных и церковных.
А.Пичугин
— Ну, коли мы уж говорим о том, что при Юстиниане Византийская империя достигла квинтэссенции своего расцвета, то, наверное, стоит поговорить о его реформах внутреннего управления империей, потому что этими огромными территориями надо было управлять и он один этого делать не мог. У него же была министерская реформа, еще ряд реформ, вот могли бы Вы про это рассказать?
В.Цыпин
— Каких-то кардинальных реформ, которые бы изменили государственный строй, или административный строй…
А.Пичугин
— Административный скорее…
В.Цыпин
— Ну, я думаю, что, может быть их и не было. Скажем, для местного управления Византии характерен переход от провинции к фемам, но эти фемы были образованы уже после Юстиниана. Я как-то немножко затрудняюсь сказать, оставались примерно те же ведомства, которые были и до него, другое дело, что он позаботился о том, чтобы… будучи сам человеком в высшей степени дисциплинированным, он заботился о том, чтобы наладить дисциплину, ответственность в службе разных ведомств. Естественно, что после возвращения в лоно империи Запада, он должен был восстанавливать там административное управление, он к этому подошел достаточно гибко, то есть, с одной стороны, вводя общие имперские порядки, разделив на провинции, но с другой стороны, учитывал и специфику этих территорий и в управлении, скажем, Италией, или Африкой, в большей степени было выражено доминирование военного начала. Вот в этом смысле он, может быть, заложил основу последующего фемного строя, когда гражданская администрация была подчинена военной, определенно и ясно – фема – это территория на которой расквартирована та, или иная воинская часть, командующий этой частью в конце концов стал генерал-губернатором территории и это… эти фемы вытеснили прежнее значение провинции. При Юстиниане, как и раньше, гражданское управление, с их президами – управлявшими провинциями, было отделено от военного, а вот там в Италии, например, там гражданская администрация подчинялась военной администрации. В Равенне была резиденция наместника императора, который управлял Италией, он был с должностью экзарха и это значило, что он будучи высшим военным начальником в Италии, он является начальником и над гражданскими властями по разным провинциям Италии. Но, в Риме был префект, который был традиционно – это высокопоставленная должность, но этот префект Рима был подчинен экзарху.
А.Митрофанова
— Протоиерей Владислав Цыпин сегодня у нас в гостях – профессор, доктор церковной истории, заведующий кафедрой Церковно-практических дисциплин, преподаватель Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии. Отец Владислав, ну, человека, вот в его такой, наверное, предельной идентичности, если можно так сказать, во многом определяет то, во что он верит. И то, что Вы сказали про Юстиниана, что он фактически созвал Пятый Вселенский собор, в этом смысле показывает его, как человека глубоко неравнодушного. Ведь вряд ли за таким созывом стояли политические мотивы. В то время, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, Вы меня поправьте, в то время господствовала, широко была распространена ересь Оригена, который говорил о том, что спасения будет удостоен практически каждый человек. Юстиниан выступил против этой ереси. Так ли это было? Вот расскажите, пожалуйста, об этой стороне вопроса и какое вообще место в его жизни занимала вера.
В.Цыпин
— Ориген и его учение были осуждены Пятым Вселенским собором, не все вообще учение Оригена, а главным образом его учение о предсуществовании души. Учение об апокастасисе – о всеобщем восстановлении, что можно перевести, как спасение всех, это учение, оно осталось дозволенным, поскольку святой Григорий Нисский совершенно определенно придерживался этого учения, возможно, заимствовав его у Оригена. Ну а раз он святой, учитель церкви, то…
А.Митрофанова
— Вот мне очень нравится это учение, я прошу прощения, но мне оно очень нравится.
А.Пичугин
— Христианам нравится.
В.Цыпин
— Мы грешные люди хотели бы надеяться, конечно на спасение.
А.Митрофанова
— Потому что любовь Божья такова, что…
В.Цыпин
— Но вот какое есть обстоятельство при этом, что все-таки гораздо более опасной была его ересь, его учение о предсуществовании душ, о том, что мы с вами появились не тогда, когда мы родились, как этому учит церковь, и как это видится обыкновенному здравому смыслу, но, в самом замысле Божьем были мы. В замысле Божьем все и вся, но некоторое реальное существование души нашей восходит к самому творению и в этом смысле это уже немножко как-то близко к восточным учениям о метемпсихозе, потому что вселяется душа в рожденное человеческое тело. Душа, существовавшая изначально – это то, что не соответствует…
А.Митрофанова
— Христианскому учению .
В.Цыпин
— Христианской антропологии, христианскому учению о человеке, о природе человека. Вот этот прежде всего было отвернуто Пятым вселенским собором и выразилось при его анафематствовании. Но, нельзя сказать, чтобы эта тема была главная на Пятом вселенском соборе, эта тема между прочим решалась, а все-таки главная тема была связана с интерпретацией халкидонского догмата. Предыстория такова, что застал Юстиниан – такое глубокое религиозное разделение в империи – православные, диофизиты, последователи ороса Халкидонского собора, учение о двух природах Господа Иисуса Христа при одном лице, одной ипостаси.
А.Митрофанова
— То есть, что Он был и Бог… с одной стороны Бог, с другой стороны человек.
В.Цыпин
— Да, и Бог и человек, полнота божества и полнота человеческой природы в нем присутствует, при этом одно лицо и одна ипостась. Несторианство, разделявшее лица, разделявшее ипостаси, оно практически в империи сошло на нет, большая часть нестроиан эмигрировало в Персию, как известно нестроианство распространилось до Китая, может быть даже до Японии, во всяком случае были монгольские племена христианские – это были нестроиане. Но монофизитов было много, монофизитство господствовало в Египте уже тогда стали православных называть мелкитами потом это название мелкиты перенесено было на униатов, принявших унию с Римом, но изначально так называли халкидонитов, то есть, собственно православных. Почему мелкиты, потому что сирийское слово, соответствующее обозначало царя, это те, которые в вере своей следуют за царем – это его люди. Ну, сейчас это ведь только греки православные халкидониты в Египте, а основная масса коптского населения.
А.Пичугин
— До халкедонская…
В.Цыпин
— Да, они придерживались монофизитства уже тогда. В Сирии может быть было равновесие монофизитского и халкидонитского элементов.
А.Пичугин
— Но, тем не менее, сохраняются ведь все эти древние церкви по сей день и прекрасно себя чувствуют.
В.Цыпин
— Сохраняются, да. Были монофизиты и даже преобладали среди армян. Армяне современные, армяне григориане, они монофизиты, другое дело, что были другие армяне православные…
А.Пичугин
— Но он них ни одного делегата не было на Вселенском соборе.
В.Цыпин
— Которые со временем просто эллинизировались. Множество императоров было армян, они конечно были не монофизиты эти императоры армяне, они были православными.
А.Митрофанова
— Почему…
В.Цыпин
— Вот проблема, с которой столкнулся император Юстиниан и в течение всего времени своего п правления и даже еще до начала своего императорского служения, когда он был под рукой у императора Юстиниана – своего дяди, он был очень озабочен вот этим религиозным разделением и он стремился к тому, чтобы его преодолеть. И тут предпринимались на этот счет разные опыты, мы знаем, этого достичь не удалось, это мы можем сразу сказать, что это провалилось, не получилось, в VII веке еще раз попытались при Ираклии, тогда была предложена новая схема такая, которая казалась компромиссной – учение монофилитское, но оказалась бесперспективной… бесперспективным это учение, хотя оно было принято очень широко в какое-то время. Ну, духовенством, высшим духовенством, епископатом, было даже время, когда преподобный Максим Исповедник оставался, как ему казалось чуть ли не в одиночестве среди приверженцев твердых халкидонского учения, Халкидонского собора. Но на этот путь скользкий император Юстиниан не вступил, он всегда оставался приверженцем Халкидонского ороса, но он озабочен был тем, чтобы снять у монофизитов, у умеренных монофизитов подозрение, которое они имели тогда и имеют до сих пор, что православный орос Халкидонского собора – это некое скрытое нестроианство. Это квазинестроианство, это криптонестроианство. И поэтому, он стремился разными путями так изложить учение Халкидонского собора, чтобы при сохранении вот этого главного в нем, различении двух природ, не возникало впечатления, что с различением природ, мы и саму личность, само лицо Господа Иисуса Христа тоже как бы…
А.Митрофанова
— Делим.
В.Цыпин
— Удваиваем. Вот его богословие, оно, конечно, выражено в разных его богословских трактатах, но оно выражено также в концентрированном виде в хорошо нам известном церковном песнопении, которое на всякой литургии употребляется: ««Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, безсме́ртенъ Сый, и изво́ливый спасе́нiя на́шего ра́ди воплоти́тися отъ Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Марíи»
А.Митрофанова
— Как все взаимосвязано получается. А насколько для Юстиниана было это важно именно, личностно что ли?
В.Цыпин
— А он был исключительно преданный церкви человек, он был человек верующий до мозга костей, богословие было наряду с государственной деятельностью, ну, главной темой… богословские темы, которые его занимали – это проистекало из самой такой внутренней духовной потребности. Но, конечно, когда бы мы стали противопоставлять одно другому, то, что мы должны были сказать, здесь не было никаких политических мотивов – это конечно не так. он один и тот же Юстиниан, он и тот, кто за благополучие государства перед Богом несет ответственность, поэтому, конечно, самым искренним образом стремился к достижению политической цели, вот этого устранения религиозной розни в империи, которая ее ослабляла, подрывала, он этого не сумел добиться, в этом он потерпел поражение. Монофизиты остались стойкими в своих убеждениях, монофизитство сохранилось и надо сказать, мы можем по-разному важность этого фактора оценить, но многие историки считают чуть ли не важнейшим обстоятельством, которое способствовало успешной экспансии ислама. То есть, настолько христиане Египта прежде всего, но монофизиты и в Сирии, не хотели диктата Константинополя, так исполнены были недоверием к халкидонитам, которые в их представлении были те же несториане, как известно на Третьем вселенском соборе осужденный, анафематствованный, что они готовы были скорее подчиниться вот такой, наверное, не христианской власти, но как-то им очень уже стало невыносимо быть под властью монофизитов.
А.Митрофанова
— Психологически понятно о чем идет речь.
В.Цыпин
— Монофизитского Константинополя.
А.Пичугин
— А что мы знаем о Юстиниане, как о богослове?
В.Цыпин
— Вот он как раз и интерпретировал учение Халкидонского собора таким образом, чтобы всячески подчеркнуть единство субъекта. Природы две….
А.Митрофанова
— Христос один.
В.Цыпин
— Но один Господь Иисус Христос, не только как-то умозрительно один, эти природы умозрительно, теоретически различаются, но как действующий субъект – один и тот же Господь Иисус Христос. Нестроианские интерпретации, квазинесторианские интерпретации, халкидонского ороса ему казались неправомерными и опасными.
А.Пичугин
— У меня в связи с Вашим рассказом создается впечатление о Юстиниане, как об идеальном правителе, но тем не менее все равно его зачастую подвергают критике и несмотря на прославление, какого-то широкого церковного почитания, по крайней мере у нас в России не сложилось, может быть, потому что он императором был, а не святителем, не епископом, может быть по каким-то другим причинам, да и потом его же чуть не свергли один раз.
В.Цыпин
— Ну да, восстание Ника.
А.Пичугин
— Да.
В.Цыпин
— Но все же не свергли.
А.Пичугин
— То есть, был ли он такой идеальный правитель, пример для многих?
А.Митрофанова
— А бывают идеальные правители?
В.Цыпин
— Да, идеального ничего не бывает здесь в нашей дольней земной жизни и он, конечно, не был идеален и я сказал о его фундаментальном неуспехе, вот, от начала своей государственно-политической деятельности, он стремился к тому, чтобы ров, отделяющий монофизитов от имперского исповедания православия закопать – ему это сделать не удалось – это провал.
А.Митрофанова
— Но при этом у него было видимо свое настолько глубокое переживание Христа, ведь понять вот эту природу, что в одном лице две фактически сущности, и Божественная и человеческая находятся равноправно – это великое достижение.
В.Цыпин
— Здесь хорошо слово «сущности», да, сущности, но не дай Бог и помыслить, что это два существа, но одно существо. Вот этот акцент на единстве при различении природ – это была такая его главная идея его богословства.
А.Митрофанова
— А еще император Юстиниан все-таки очень любящий человек, потому что можно было найти себе любую жену, будучи императором, но он остановился на Феодоре – актрисе, никому не известной, и так ее полюбил, что предпринял целый ряд шагов для того, чтобы они были вместе.
А.Пичугин
— Женские истории от Аллы Митрофановой.
В.Цыпин
— Да, вот что можно сказать, существовал закон в империи Римской по которому…
А.Пичугин
— Константиновский.
В.Цыпин
— Сенаторы не могли жениться на актрисах, хотя бы и бывших, ну как наряду и с разными другими непочтенных профессий женщинами. Незадолго до своей… до смерти Юстиниан по настоянию Юстиниана этот закон отменил и он женился. Но это произошло, тут очень характерная и любопытная деталь – это произошло после смерти супруги Юстина. Супруга Юстина была самого простого происхождения, как и Юстин, но при этом у нее была такая фанаберия человека высочайшего круга и она не хотела…
А.Митрофанова
— К ней приближались…
В.Цыпин
— Ее род, род ее мужа, чтобы ее племянник вот так пал и…
А.Митрофанова
— Снобизм такой, защитная реакция…
В.Цыпин
— Снобизм, да, казалось бы, она должна понимать, будучи сама, что называется из грязи в князи.
А.Митрофанова
— К сожалению…
А.Пичугин
— Так что не всегда была права песенка про то, что все могут короли, но только не могут жениться по любви. Протоиерей Владислав Цыпин – клирик храма Большого Вознесения у Никитских ворот московского, профессор Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, канонист, церковный историк сегодня у нас был в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова.
А.Митрофанова
— Алексей Пичугин.
В.Цыпин
— Аминь.
А.Пичугин
— Спасибо, будьте здоровы.
«Византия в эпоху Македонской династии». Дмитрий Казанцев

Гостем программы «Светлый вечер» был кандидат юридических наук, специалист по истории и культуре Византии Дмитрий Казанцев.
Разговор шел о периоде политического и духовного расцвета Византии в эпоху Македонской династии девятого-одиннадцатого веков.
Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед об истории Византии, в частности о государственном и церковном ее аспектах.
Первая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена формированию государственного и церковного управления в Византии (эфир 26.01.2026).
Вторая беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от Константина Великого до императора Юстиниана (эфир 27.01.2026).
Третья беседа с Дмитрием Казанцевым была посвящена истории Византии от императора Юстиниана до иконоборчества (эфир 28.01.2026).
Ведущий: Алексей Пичугин
Все выпуски программы Светлый вечер
«Общее дело» — итоги 2025 года». Протоиерей Алексей Яковлев

У нас в гостях руководитель волонтерского проекта по возрождению храмов Севера «Общее дело», настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раеве протоиерей Алексей Яковлев.
Мы говорили о развитии проекта «Общее дело», об экспедициях на Русский север, о самых необычных и интересных экспедициях 2025 года и о планах на 2026 год, о том, кто может принимать участие в таких поездках, как они влияют на детей и взрослых, а также о духовных открытиях, которые приносит соприкосновение с историей уникальных деревянных храмов.
Ведущая: Кира Лаврентьева
Все выпуски программы Светлый вечер
Крестовоздвиженский женский монастырь города Нижний Новгород
В каждом русском городе издревле создавались монашеские обители. В городе Нижний Новгород исторически женских монастырей было три, и все они слились в один — Крестовоздвиженский монастырь.
Его основательницей является супруга Святого Благоверного Князя суздальско-нижегородского Андрея Константиновича, Святая Преподобная Благоверная Княгиня Феодора. Князь почил о Господе рано, и в возрасте 25-ти лет Княгиня осталась вдовой. Все свои силы и средства она вложила в, созданную ею обитель.
Многие века с 1365-го года рядом с Кремлем и на его территории звучала монашеская молитва. А в 1812-м году женский монастырь стал разрастаться и благоукрашаться на новом месте. Сейчас это центр Нижнего Новгорода. Рядом с обителью, на площади Лядова, прежде Крестовоздвиженской, возвышается Крест. Главными святынями монастыря являются образы Честнаго Животворящего Креста Господня. Один из них обретен совсем недавно, в 2023-м году.
О жизни обители сквозь века и о возрождении монастыря наша программа.





Анны Ежовой



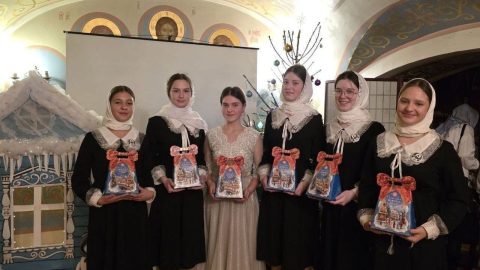

Фотографии предоставлены Крестовоздвиженским женским монастырем.
Все выпуски программы Места и люди













