
По дороге, ведущей из Архангельска в маленький уездный городок Лальск, шла женщина. Башмаки её были в пыли от долгой ходьбы, за плечами висел узелок с одной-единственной сменой платья, а в потайном кармане пальто лежала старая семейная фотокарточка — всё, что осталось на память от мужа, арестованного несколько дней назад по обвинению в церковной антисоветской деятельности.
В Лальске женщина постучала в ворота большого деревянного дома. Ей открыли, и, ни о чём не спрашивая, провели в просторную горницу. В комнате было многолюдно. На столе стоял кипящий самовар, вазочки с мёдом и вареньем; несколько женщин и две монахини пили чай из гранёных стаканов, и чинно беседовали. Вдоль стен в несколько ярусов располагались деревянные полати.
— Отдохни с дороги, и чувствуй себя, как дома, — услышала гостья негромкий ласковый голос, раздавшийся откуда-то из угла комнаты. Там, прямо на полу, на тонком лоскутном одеяльце, сидела миловидная женщина средних лет, одетая в скромное тёмное платье. — Ты уж прости, что не могу сама за тобой поухаживать, — продолжила она. — Паралич у меня, много лет уже не хожу...
Это была хозяйка большого гостеприимного дома — Нина Алексеевна Кузнецова. Единственная дочь городского урядника, она всерьёз задумывалась о монашеской жизни. Но с постригом не торопилась, думая, что ещё успеет — нужно было ухаживать за старящимися родителями. Ведь, несмотря на то, что на дворе был конец двадцатых, тихий, провинциальный Лальск, по сути, не ощутил ни залпов октябрьской революции, ни грома гражданской войны. Действовали все шесть городских храмов, жил свой обычной жизнью расположенный неподалёку Коряжемский монастырь.
Но вот наступил тысяча девятьсот тридцать второй год. В стране начались чудовищные по своей бесчеловечности аресты и казни ни в чем не повинных людей, гонения на Церковь и верующих, которые впоследствии вошли в историю как годы «Большого террора». Докатился он и до тишайшего Лальска. Престарелые родители Нины Кузнецовой были арестованы и отправлены в лагерь как «состоявшие на царской службе». Поражённую такой жестокостью, сорокапятилетнюю Нину парализовало прямо во время их ареста. Только это и спасло её тогда от тюрьмы.
Через несколько месяцев её известили о смерти отца и матери. В память о них, Нина превратила свой дом в настоящий приют милосердия, прибежище для тех, кому в буквальном смысле некуда было пойти: у неё находили приют женщины, чьи мужья были безвинно арестованы, а имущество конфисковано. Оставшись без крыши над головой и средств к существованию, они шли к Нине порой из самых отдалённых уголков губернии — слава о доброй и милосердной «урядниковой дочке» вышла далеко за пределы Лальска.
А вскоре город постигла новая беда — власти решили закрыть Воскресенский собор. Подобные попытки предпринимались и раньше, но Нина Кузнецова самоотверженно отстаивала храм — не раз она инициировала сбор подписей против его закрытия, что в те страшные годы было настоящим подвигом. Однако на сей раз дело принимало серьёзный оборот. И тогда Нина решила писать в Москву. Её отговаривали — это был огромный риск, но Кузнецова знала, на что идёт, и не колебалась. Несколько решительных писем направила она в столицу, и власти сдались — собор оставили верующим!
Однако после этого Ниной всерьёз заинтересовалось местное НКВД. Ждали лишь повода — и когда кто-то донёс, что Кузнецова приютила у себя в доме, ни много ни мало, братию закрытого недавно Коряжемского монастыря, за ней пришли. В страшном тридцать седьмом больную, не способную самостоятельно передвигаться женщину увезли на допрос. Всё, что делала она исключительно по доброте сердца и долгу христианского милосердия, было вменено ей в вину. Решением «тройки» НКВД парализованную Нину Кузнецову приговорили к восьми годам исправительно-трудового лагеря, а созданный ею дом для обездоленных и бесприютных хладнокровно разогнали.
Там, в лагере, спустя всего несколько месяцев, Нина и скончалась, найдя последнее пристанище в безымянной могиле. Но память о её евангельском подвиге милосердия затоптать не удалось. Народ вскоре стал почитать Нину Кузнецову как блаженную, а Русская Православная Церковь прославила её в числе своих святых мучеников.
Псалом 124. Богослужебные чтения

Вы никогда не задумывались, почему горы — такие манящие? Причём любые: и совсем невысокие, до километра, и пятитысячники — не говоря уже о самых высоких, недостижимых для неподготовленного вершинах. Как сказал поэт, «Сколько слов и надежд, сколько песен и тем // Горы будят у нас — и зовут нас остаться!» 124-й псалом, который сегодня звучит в храмах за богослужением, многократно обращается именно к глубокой символичности гор для верующего человека. Давайте послушаем этот псалом.
Псалом 124.
Песнь восхождения.
1 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.
2 Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек.
3 Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию.
4 Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих;
5 а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!
Нет ничего удивительного в том, что уже на самой заре человечества гора воспринималась как особое, священное пространство, где происходит соприкосновение небесного и земного. На горе Синай Моисей получает от Бога заповеди; на горе Фавор преображается Христос перед учениками; да и про Олимп как не вспомнить.
Сама по себе гора очень многозначительна: с одной стороны, её огромное, мощное основание — «подошва» — придаёт ей устойчивость, непоколеблемость. С другой стороны, тонкая, словно игла, вершина, буквально впивается в небо. Тот, кто хотя бы раз в жизни стоял на такой вершине, никогда не забудет абсолютно ни с чем несравнимого ощущения одновременной устойчивости — и воздушности, невесомости — когда перед твоим взором открываются величественные горизонты.
Удивительная вещь: казалось бы, когда мы летим на самолёте, мы видим ещё более далёкий горизонт — а всё же это вообще не то: только стоя ногами на вершине, ты испытываешь исключительный, всеобъемлющий восторг особого предстояния перед бытием.
Для многих древних культур гора — это axis mundi, космическая ось мира, соединяющая высшие и низшие миры. И именно поэтому на вершинах гор строились храмы, организовывались те или иные святилища.
Если мы вспомним самые древние жертвенники, о которых повествует книга Бытия, — это тоже будут «микро-горы», сложенные из камней — на вершинах которых и совершались жертвоприношения.
Прозвучавший сейчас 124-й псалом ещё глубже развивает тему символизма горы: он говорит о том, что «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек». Гора для верующего становится не только внешним образом духовного вдохновения, но и наглядным примером того, как может ощущать себя сам человек, когда его голова, его мысли — всё то, что и отличает его от животного, — устремлены к Небу. И неспроста греческое слово «ἄνθρωπος» — состоит из двух основ: ἄνω означает «вверх» и θρώσκω — «смотреть, устремляться, прыгать». Смотря на гору, мы словно бы снова и снова задаём себе вопрос: а есть ли во мне задор подняться на вершину — или я всего лишь хочу так и остаться распластанным у её подножия?..
Псалом 124. (Русский Синодальный перевод)
Псалом 124. (Церковно-славянский перевод)
Псалом 124. На струнах Псалтири
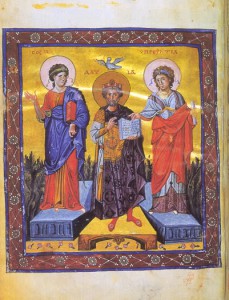 1 Надеющиеся на Господа подобны горе Сиону; не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме!
1 Надеющиеся на Господа подобны горе Сиону; не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме!
2 Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки.
3 Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию.
4 Даруй, Господи, блага тем, кто добр и праведен сердцем!
5 А людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь. Мир Израилю!
9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня 9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне — игумен Лука (Степанов).
Празднование Дня Победы оказалось 9 мая не сразу по завершении Великой Отечественной войны. Уже во времена послесталинские, когда потребность напоминать народу и молодому поколению о великом подвиге нашего народа была особенно ясно ощутимой. А в 1994 году уже решением Архиерейского собора было установлено совершать, начиная с 1995 года, по всем храмам Русской Православной Церкви особое богослужение после Божественной литургии, где за ектенией сугубой и сугубое прошение об упокоении душу свою положивших за свободу нашего Отечества. А вот после литургии совершается благодарственный молебен за от Бога дарованную победу, и после нее заупокойная лития. Подобная традиция упоминать почивших воинов и со времен преподобного Сергия Радонежского в нашем Отечестве, когда и на поле Куликовом сражавшиеся и погибавшие наши воины были тоже мгновение поминаемы святым старцем, видящим препровождение их душ на небо ко Господу. И всегда о своих героях молилось наше Отечество и Русская Церковь.
Все выпуски программы Актуальная тема








