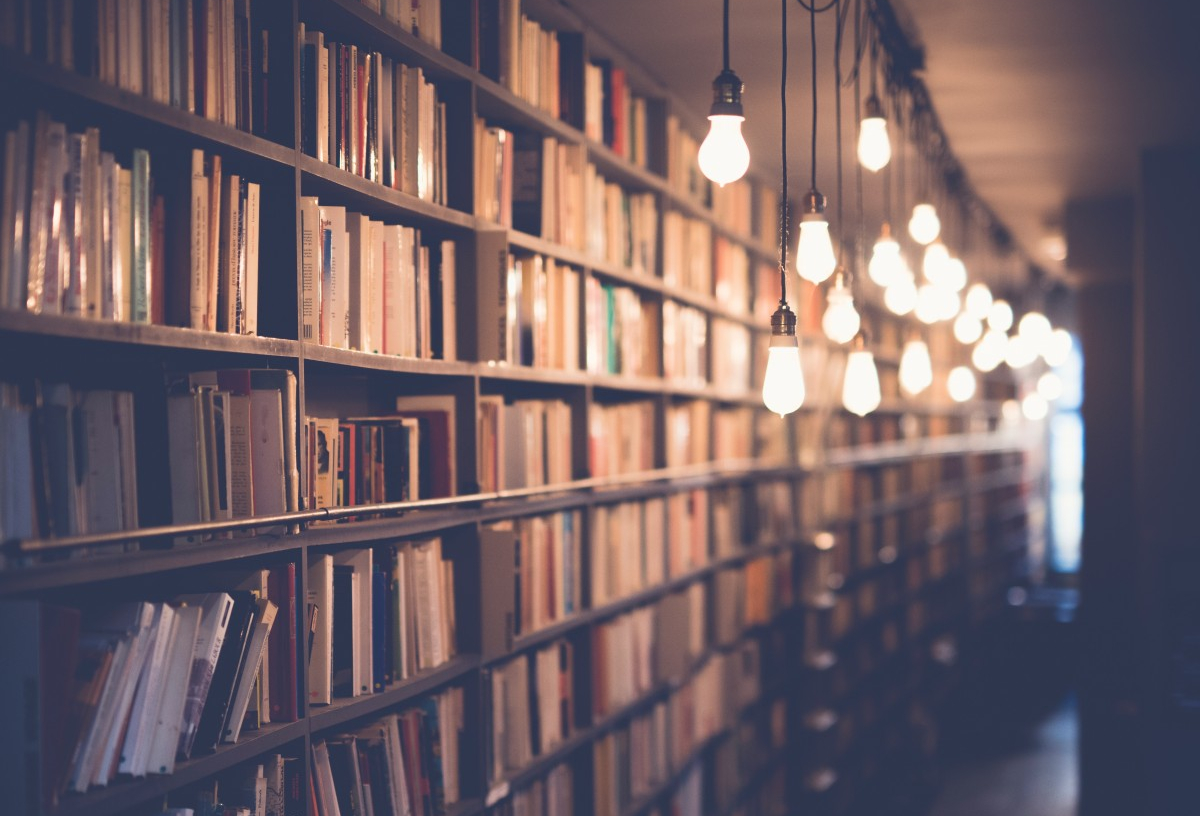
Гость программы — Дарья Алексеева, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
– Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии Другого.
Вся наша жизнь наполнена общением. Встречая других, мы учимся, радуемся, взрослеем или напротив негодуем, раздражаемся, таим обиду. Другой становится нам другом, но подчас и врагом, которого, согласно евангельской заповеди, мы должны каким-то образом любить. Всегда ли Другой с большой буквы оказывается ближним? Должны ли мы переступить через себя ради Другого? Почему тема Другого становится ключевой темой философии XX века? Об этом сегодня в программе «Философские ночи».
А. Козырев
– У нас в гостях сегодня доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук, Дарья Александровна Алексеева. Здравствуйте, Дарья.
Д. Алексеева
– Добрый вечер.
А. Козырев
– Другой – ну понятно, что это не такой же, как мы. Кто он, друг нам или враг? И почему вдруг мы собрались сегодня поговорить о Другом? Ведь у нас христианское радио, вообще-то говоря, мы должны говорить о ближнем, да философия ближнего. Ближний – это Другой или это часть других, а есть еще какие-то другие – дальние.
Д. Алексеева
– Есть. Ну другие бывают разные – ближние и не очень ближние. Есть Другой, который вообще не является человеком, а Другой как структура, которая определяет то, как мы понимаем себя, то какими мы себя видим. Есть Другой как ближний – это отдельная такая интересная тема исследований, тема для обсуждения.
А. Козырев
– Ну вот у меня один друг живет в Москве – мы с ним встречаемся иногда, кофе пьем, а другой – во Владивостоке. Московский друг – ближний, а владивостокский – дальний? Или тут какая-то другая семантика заложена?
Д. Алексеева
– Ну если они оба ваши друзья и, получается, оба ближние.
А. Козырев
– Оба ближние. То есть ближние – это не расстояния....
Д. Алексеева
– Нет, не расстояния.
А. Козырев
– Не дистанции, которые нас разлучают или, наоборот, соединяют. А что же тогда вот делает Другого ближним или дальним, например?
Д. Алексеева
– Мне кажется, здесь возможно два подхода, да, два способа ответа на этот вопрос, о том, что делает Другого ближним. Один – такой онтологический, он предполагает, что Другой, который ближний – это Другой, который похож на меня, он по сути такой же как Я, он находится в другом теле и в другом положении в бытии, но по сути это такой же Я, просто с немножечко другим набором обстоятельств.
А. Козырев
– Похожий на меня, да. То есть вот когда «не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали тебе», то Другой здесь как ближний все-таки, да?
Д. Алексеева
– Мне кажется, что когда мы переходим в сферу этики, в сферу каких-то поведенческих нормативов, этических нормативов, мы говорим о Другом как ближнем в несколько другом смысле – извините за тавтологию. Здесь речь идет не о том, что он похож на меня, он может быть категорически не похож. Речь идет о том, что мы понимаем, что он занимает такое же важное место в бытии, как и Я. То есть, вступая с ним в диалог или видя его, понимая, что он именно Другой с большой буквы, мы признаем за ним право быть таким же, как сказать, такой же значимой единицей, если не центром мироздания, но неким центром смыла. Он может очень сильно отличаться от нас, и нам это может быть дано – мы это можем понимать, можем чувствовать – и тем не менее он этически значим. То есть вот этика Другого, отношения к Другому как к чему-то важному, значимому, достойному существования, имеющему право отличаться от нас не связано напрямую с представлением о том, что и у меня, и у Другого одинаковое сознание, мы можем из этого не исходить. Здесь как раз вот, если вспоминать того же Левинаса, который говорил о этике другого в отношении Другого, он-то как раз настаивал на том, что Другой нам важен именно тем, что он другой – то есть именно в аспекте своего отличия, радикального отличия от нас.
А. Козырев
– А мы иногда хотим, чтобы он был такой же как мы. Мы хотим, чтобы он во всем был похож на нас.
Д. Алексеева
– Да, мы хотим этого. Более того, мы иногда стремимся этого Другого уничтожить, свести его до уровня объекта, например, как об этом говорил Сартр. То есть нам гораздо выгоднее и проще представлять Другого как объект – дело за малым: лишить его воли, лишить его возможности влиять каким-то образом на нас и на ситуацию. Ну, допустим, Сартр видел отношения с Другим как конфликтные потенциально.
Цитата. Эммануэль Левинас, «Гуманизм другого человека». «Желание другого, переживаемое нами в самом что ни на есть обыденном опыте общения, есть фундаментальное движение, чистое исступление, абсолютная направленность, смысл. Уже и в самых недрах отношений к Другому характерно для нашей жизни в обществе появляется другость как невзаимообратимые отношения. Другой, поскольку он другой, не просто альтер-эго, он есть то, что Я не есмь. И он таков не в силу своего характера, облика или психологии, но в силу самого своего бытия Другим».
А. Козырев
– Ну вот я вспоминаю одну историю во Франции, когда мама кормит своего ребенка. Ребенку не нравятся овощи тушеные, а она считает, что тушеные овощи есть очень полезно. И она в него впихивает, а из него это выпихивается. А она ему говорит: нет, я тебе сказала, ты будешь это есть! То есть вот раз это полезно, есть какое-то априори ценностное для всех, что тушеные овощи есть полезно – значит, ты будешь есть тушеные вощи. А, может, ребенок не любит тушеные овощи. Я вот в детстве ненавидел капусту, например, а сейчас нормально к ней отношусь.
Д. Алексеева
– Ой, это очень сложная и интересная тема, на мой взгляд. Потому что с одной стороны, да, сейчас даже, я бы сказала, модно говорить о некоем ненасильственном отношении к Другому, о том, что он имеет право быть таким, какой он хочет, о том что наши представление о мире детерменировано той культурной ситуацией, теми обстоятельствами жизни, в которых мы сформировались, а у Другого оно может быть другое, что мы не имеем права диктовать другому человеку, каким ему быть...
А. Козырев
– Но в то же время есть же какая-то норма.
Д. Алексеева
– Да. Но тут дело даже не только в норме. Ну вот мама по отношению к ребенку, может быть, действительно лучше понимает, как ему надо.
А. Козырев
– Что ему полезно, что неполезно.
Д. Алексеева
– Что ему полезно, а что неполезно. То есть здесь в принципе этот вот дискурс ненасилия, дискурс этичного отношения к Другому таит в себе...
А. Козырев
– Ну ладно, овощи, ну а вот фортепиано – вот не хочет играть на фортепиано, а надо – мама заставляет. И потом получается великий пианист, и он говорит: спасибо тебе, мама, что ты в детстве била меня по рукам и сажала, привязывала ремнем ко стулу, да.
А. Козырев
– Есть такое. Есть и другое. Есть очень популярная в наше время такая, я бы сказала, практически уже традиция – обвинять родителей в том, что они не были толерантны в детстве, заставляли играть на пианино, есть овощи, не радовались каждой нарисованной загогулинке и так далее. Как бы ребенок считает себя, значит, выросшим травмированным родительским поведением.
А. Козырев
– Ну, кстати, вот мы на радио «Вера» – здесь же еще и возникает вопрос: а вот ходить в церковь, например? Если родители идут в храм, а ребенок говорит: а я хочу поспать, а я не понимаю, зачем туда ходить. Вот здесь тоже возникает вопрос, надо ли, что называется, осуществлять давление на ребенка и говорить, что ну Бог тебя не простит, если ты в храм не пойдешь.
Д. Алексеева
– Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но я понимаю, что никто выхода...
А. Козырев
– То есть больше вопрос религиозного воспитания.
Д. Алексеева
– Да, да.
А. Козырев,
– То есть одни родители православные считают, что надо ему преподать все то, что мы в свое время упустили и потом нагнали. А другие считают, что ну раз мы нагнали, то и ребенок как-нибудь сам нагонит. Пусть он сейчас ходит в школу, играет в футбол, веселится, живет как бы своей детской жизнью, ни о чем не задумывается. Стукнет по голове – задумается. То есть есть разное отношение к воспитанию – это тоже разная модель Другого.
А. Козырев
– Да, совершенно верно. Но мне кажется, когда мы говорим именно о взаимодействии с Другим, не просто о том, что мы там признаем его инаковость, а о том, что мы каким-то образом с ним взаимодействуем, мы переходим в проблематику диалога. То есть здесь не как, наверное, специалист по Другому, а просто там как педагог с почти двадцатилетним стажем я могу сказать, что насильственные методы воздействия на этого Другого ну скорее порождают его естественное сопротивление, чем не-сопротивление. Люди, которые не сопротивляются, вызывают беспокойство у психологов.
А. Козырев
– А диалог возможен между неравными? Или диалог – это диалог равных? Вот диалог следователя и подсудимого – это диалог?
Д. Алексеева
– Мне кажется, в каком-то смысле диалог. В том смысле, в каком следователь все-таки признает, что перед ним сидит человек, мотивы которого он пытается выяснить. Вот в этом смысле – да, они равны.
А. Козырев
– А не преступник, заведомо преступник, который уже виноват.
Д. Алексеева
– Он и преступник тоже, да. Но тем не менее это диалог. Также как преподаватель и студент, которые находятся в разных ролях – один в позиции власти, другой в позиции подчинения – все-таки да, если преподаватель пытается чему-то его научить, он все-таки должен увидеть, что в каком-то смысле они являются равными, то есть о чем-то они могут говорить.
А. Козырев
– Ну ученика иногда очень интересно послушать, иногда даже поучиться – что-то узнаешь новое, человек тебе рассказывает, исходя из своего опыта. Потому что у студента уже есть, в общем-то, приличный жизненный опыт, он что-то в этой жизни увидел, узнал, прочитал, может быть, даже больше, чем ты где-то. И поэтому ты начинаешь сам обогащаться, общаясь с ним. Диалог это, наверное, то что обогащает, то что может сделать тебя другим.
Д. Алексеева
– Да, то что может позволить посмотреть и на себя со стороны, и понять, что есть какой-то иной взгляд на ситуацию – тем самым увидеть собственные границы, собственную ограниченность. То каким образом ты сам воспринимаешь мир, перестает быть для тебя очевидным, то есть ты можешь увидеть свое восприятие мира в контексте других взглядов на мир.
А. Козырев
– Ну вот это один из модусов Другого – ближний. «Люби ближнего своего, как самого себя», – говорит Христос. А какие еще, вот тот же дальний – кто это? Дальний не по расстоянию, а дальний от нас по чему – по мировоззрению, по убеждениям? Или, может быть, просто дальний, он еще не родился? Может быть, это наши какие-то правнуки, которые когда-то появятся на свет, и мы должны о них думать, каким мы оставим мир этим людям?
Д. Алексеева
– Мне кажется, что дальний – это тот, в ком мы видим эту инаковость как радикальную инаковость. То есть в ком мы можем увидеть какое-то принципиальное, существенное отличие для нас, кого мы не можем понять вот так вот легко. То есть чем проще нам кого-то понять, тем он ближе к нам, грубо говоря. Если нам понять тяжело или мы видим в этом человеке что-то совершенно чуждое нам, мы видим в нем эту Чуждость с большой буквы, Инаковость с большой буквы, то тогда он становится дальним, независимо от расстояния, независимо от того, какие годы нас разделяют.
А. Козырев
– Ну вот Ницше говорит, как бы противопоставляя себя Христу: любите дальнего. Не ближнего, а дальнего любите.
Д. Алексеева
– Да, да. Потому что любя ближнего или того, кто похож на тебя, ты любишь самого себя или вообще не любишь никого. Вот любовь к дальнему – это что-то гораздо более значимое.
А. Козырев
– А как она выражается, в чем она выражается, эта любовь к дальнему? Путешествовать в какие-то дальние страны, вот в Африку, например, поехать? Сейчас все закрыто, весь мир закрыт, а вот в африканские страны можно полететь. Не забыть только сделать прививку от малярии. Или это какое-то другое путешествие?
Д. Алексеева
– Мне кажется, вокруг нас очень много чуждого, вот если присмотреться. Для этого не надо никуда ехать. Мы встречаем этого самого чужого или дальнего, когда мы открываем не очень понятный нам текст – текст представителя другой культуры. Или даже нашей культуры, но непонятный. Когда мы сталкиваемся с каким-то действием человека, которое непонятно нам и мы не можем встроить его в там нашу привычную систему интерпретации мира. То есть этого чужого вокруг нас сколько угодно, если присмотреться. Мне кажется, мы скорее просто не замечаем этого факта, то есть нам больше, нам удобнее или нам проще интерпретировать.
А. Козырев
– А для верующего человека дальним оказывается атеист. То есть вот он не понимает, как можно не верить в Бога?
Д. Алексеева
– Возможно.
А. Козырев
– Бог – Он рядом со мной, Он дает мне силы, Он меня спас от смертельной болезни, допустим. А вот он этого не понимает. А для атеиста дальним оказывается верующий человек, потому что атеист не понимает, что такое верить, да. Вот он человек, который живет разумом, который все проверяет формулой и в мире ничего нет необъяснимого. И они здесь как два дальних.
Д. Алексеева
– Да.
А. Козырев
– Но в то же время это Другие.
Д. Алексеева
– Ну в чем-то другом они могут быть вполне ближними, вполне похожими. У них могут быть схожие политические взгляды, наверное, или одинаковые вкусы в еде, или что-то еще – то есть они в чем-то очень хорошо друг друга понимают, а в чем-то не понимают совсем. И действительно вот общение таких людей может быть гораздо, может быть очень продуктивно, более продуктивно в каких-то смыслах, чем общение с теми, кто на нас похож.
А. Козырев
– В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ, Дарья Алексеева. Мы сегодня говорим о философии Другого. Другого, ближнего, дальнего. Какие еще бывают другие, я думаю, мы узнаем сегодня в нашей программе. Вот я хотел бы вас спросить. Недавно мы поспорили с одним моим другом, который живет – ну так судьба сложилась, – в Америке, зачем человек делает прививку. Ну то есть мы даже не поспорили, а просто вот попытались изнутри нашей культурной ситуации это объяснить. Вот вы делали прививку?
Д. Алексеева
– Я переболела, у меня иммунитет, я безопасна.
А. Козырев
– Ну слава Богу. Сейчас, правда, говорят, что надо всем делать прививки.
Д. Алексеева
– Ну мне пока нельзя.
А. Козырев
– Каждый сам решает, когда ему делать прививку. Ну, условно говоря, я делал прививку. Меня спросили: а зачем ты делал прививку? Я говорю: а чтобы не заболеть. – Ну вот как, чтобы не заболеть? А у нас вот в Америке прививку делают, чтобы не заболели другие. То есть ты как бы, делая прививку, делаешь безопасным не себя, а именно окружающее тебя сообщество. То есть ты думаешь не о себе – потому что ну помрешь и помрешь, и Бог с тобой, ничего страшного. А вот ты думаешь о других: чтобы других не заразить, чтобы, не дай Бог, кто-то там... Как вы думаете, кто здесь более прав, в этой ситуации? И даже кто более прав, мне, может быть, не так интересно узнать, потому что я думаю, что и те и другие правы. А вот почему именно западная культура, которая всегда нам известна как культура эгоизма, как культура Я, культура самости, да, вот капитализма, обогащения, вдруг так много сейчас стала думать о других? А мы – наоборот, вот как-то нас отличает сборность, всеединство, да, коллективизм, а мы – каждый за себя.
Д. Алексеева
– Мне кажется, это очень такой интересный пример. Трудно мне ответить на вопрос, почему такие вещи происходят в американской культуре и в нашей культуре. Ну мне кажется, что европейская культура и культура американская кроме того, что она индивидуалистична, она еще и очень разумна, то есть это эгоизм, но это разумный эгоизм.
А. Козырев
– Ну она еще ведь в основе своей несет христианские какие-то корни. Американский президента там присягает на Библии.
Д. Алексеева
– Ну безусловно, да. Может быть, и наше понимание там православия может отличаться от того понимания религии и того понимания христианства, каким оно является сейчас в Соединенных Штатах, хотя я не думаю, что здесь прямо есть прямо какое-то единство, понимание.
А. Козырев
– Может быть, это христианство, которое на уровне риторики где-то даже?
Д. Алексеева
– Ну и на уровне риторики тоже. Но, мне кажется, оно в данном случае хорошо срослось с идеей разумного эгоизма, с пониманием, что если будут болеть все остальные, это тоже скоро не закончится. То есть это такая надежда на взаимную поддержку, на то что, действуя в интересах других, ты действуешь и в своих интересах – то есть вот такая связка.
А. Козырев
– Кстати, разумный эгоизм – ведь это, по-моему, формула Чернышевского.
Д. Алексеева
– В том числе, да.
А. Козырев
– И в каком-то прагматизме, в американском прагматизме есть что-то похожее.
Д. Алексеева
– Ну на мой взгляд есть, да, то есть можно в утилитаризме и в прагматизме увидеть такую надежду.
А. Козырев
– Бентам, да.
Д. Алексеева
– Да, Бентам или Милль выстраивает ту иерархию благ, которая у них вроде как сводится к удовольствиям. Там в итоге все равно приоритетом обладают некие удовольствия, которые связаны с выигрышем для большинства – удовольствие от морального поступка, от чего-то возвышенного и так далее. Там в любом случае в утилитаристскую или прагматистскую этику где-то на каком-то шаге встраивается идея, что действовать надо в интересах сообщества. Другое дело, что просто они понимают эти интересы сообщества как некую совокупность интересов отдельных индивидов, что, может быть, не совсем правильно.
А. Козырев
– Ну удовольствие от морального поступка тоже, на мой взгляд, такое тщеславие немножко: вот какой я нормальный, как я хорошо поступил, какой я молодец, да, мне должны дать конфетку.
Д. Алексеева
– Да, ну если вот здесь обратиться к эволюционной этике, то можно сказать, что это некое вознаграждение, которое выдает нам наш организм, наши гены за то, что мы поступили альтруистично, допустим, если, в общем, такой интерпретации придерживаться.
А. Козырев
– Ну не украл чего-то – и слава Богу...
Д. Алексеева
– И молодец.
А. Козырев
– Потому что украл бы – мучился, мучился потом, а вот так не украл – наоборот, могу себя похвалить. То есть удовольствие от морального поступка – это очень интересно, да. И здесь опять-таки вот не другому сделал хорошо и поэтому радуюсь, что другой порадовался, у него лицо просияло, а вот я молодец, я такой вот добродетельный, моральный.
Д. Алексеева
– Мне кажется, сюда можно встроить и радость от радости другого. То есть здесь не то чтобы это какой-то, мне кажется, это может быть бескорыстно на уровне индивидуума, на уровне его сознания это такая корысть, такая корысть сообщества, которая встроена в нас и генетически встроена и через некие нормы, правила поведения. А вот что происходит с нашей культурой, почему у нас как-то не особо заботимся том, заболеют ли другие от контакта с нами и больше заботимся о том, чтобы не заболела я сама, допустим. Вот, мне кажется, это какая-то... Мне кажется, мы не стали игнорировать Другого, мы понимаем, что вокруг нас есть люди, они отличаются от нас, что у них есть там свой взгляд на мир, что они точно также имеют право на существование. Мне кажется, мы здесь сталкиваемся с каким-то таким обострением проблемы отчуждения. Когда – да, они другие, но они чужие. То есть для нас все чужие, нам, в принципе, все равно, что с ними будет, это просто еще один организм, который, может быть, ну скорее мешает мне жить, чем помогает. То есть мы не воспринимаем себя как сообщество.
А. Козырев
– Слушайте, но ведь это логика этого казанского стрелка, не приведи Господь: биомусор, я – бог, все – биомусор, и я пойду этот биомусор уничтожать. Мне скажут: ну ведь это есть в Америке, там эти преступления постоянно совершаются. Ну с такой отчетливой логикой, да, вот логикой совершенно, по-моему, антихристианской, диавольской мы сталкиваемся, наверное, первый раз.
Д. Алексеева
– Мне кажется, да. Я не психолог, мне сложно сказать, какая там логика, но мне кажется, что да, что это некая такая манифестация обостренной, крайней формы отчуждения. То есть человек действительно один. Он понимает, что они Другие, понимает, что они живые существа, он, мне кажется, или некий условный стрелок это понимает. Но его отношение к ним в этот момент – это ненависть, это крайняя форма отрицания.
А. Козырев
– Ну ведь можно ненавидеть людей и ни в кого не стрелять, просто тихо ненавидеть. Ненавидеть людей в семье, ненавидеть людей на работе, ненавидеть своих соседей, ненавидеть случайную кассиршу в магазине, которая тебе там что-то не так сказала.
Д. Алексеева
– Можно.
А. Козырев
– И вот жизнь свою строить на этом отчуждении от другого. Это ведь очень вы замечательное слово сказали – «отчуждение» да, то есть человек просто почему-то перестает видеть другого, да, он начинает воспринимать его как какой-то агрегат, как робота.
Д. Алексеева
– Правильно.
А. Козырев
– А что здесь происходит, вот почему это происходит? Усталость? Самоизоляция? Потеря каких-то связей социальных?
Д. Алексеева
– Скорее потеря связей, Мне кажется, это некая глобальная такая социальная проблема, когда мир перестает выглядеть для нас структурированным разумным образом. Когда мы не ожидаем от других людей отдачи, то есть мы не находимся в состоянии диалога, потому что состояние диалога предполагает одинаковую вовлеченность или почти одинаковую вовлеченность сторон. Ну то есть мы не видим себя в этом мире, в этих связях.
А. Козырев
– Ну ведь диалог может быть среди каких-то уютных сообществ. Может быть, этих уютных сообществ стало мало в нашей жизни? Ведь приход, село, где все друг друга знают, где люди знают проблемы другого человека – у кого кто родился, у кого кто заболел. А сейчас мы вот живем в ситуации открытого общества, как назвал это Карл Поппер, да, которое вроде бы и открытое, и свободное, но вот эта атомизация людей, когда нет никого вокруг и я один-одинешенек.
Д. Алексеева
– Да, пожалуй, да. Вроде бы эти сообщества есть, они просто перенесены в виртуальную среду, есть масса сообществ по интересам. Но понятно, что коммуникация онлайн и коммуникация с помощью цифровых средств отличатся от совместного соприсутствия там где-нибудь – в церкви, на ужине, еще где-то. Все равно какая-то не такая коммуникация, в которой гораздо больше симулятивных элементов.
Цитата. Михали Бахтин. «Автор и его герой в эстетической деятельности». «Ведь только другого можно обнять, охватить со всех сторон, любовно осязать все границы его: хрупкая конечность, завершенность другого, его здесь и теперь бытие внутренне постигаются мною и как бы оформляются объятием; в этом акте внешнее бытие другого заживает по-новому, обретает какой-то новый смысл, рождается в новом плане бытия. Только к устам другого можно прикоснуться устами, только на другого можно возложить руки, активно подняться над ним, осеняя его сплошь всего, во всех моментах его бытия, его тело и в нем душу».
А. Козырев
– А вот раньше в Фейсбуке (деятельность организации запрещена в Российской Федерации) все, например, размещали фотографии своих детей. А сейчас, я смотрю, все больше котиков размещают. То есть вот кот стал неким универсальным другим. То есть такое ощущение, что есть какое-то параллельное сообщество идеальное, где живут потрясающие сверхлюди – коты. И поэтому каждый, как говорят, постит, да, своего идеального кота.
Д. Алексеева
– Ну, может быть, это проявление потребности в ближнем. Все-таки котики воспринимаются как ближние, потому что все-таки они в основном и в целом безопасны, если мы не берем какие-то экзотические породы.
А. Козырев
– Еще как опасны – кровожадные, мясоедные.
Д. Алексеева
– Ну в целом. Ну то есть вы собак больше любите, видимо.
А. Козырев
– Ну собаки, у них больше человеческого, конечно.
Д. Алексеева
– У меня кот просто.
А. Козырев
– У меня и то и другое.
Д. Алексеева
– Мне кажется, что вот эта вот потребность в котиках – это потребность как раз в чем-то родном, близком, пушистом, что, конечно, является Другим.
А. Козырев
– Ну Бердяев тоже говорил: я не хочу Царства Божия без моего кота Мури. Но это совсем другое – он хотел этому коту сопребывания в вечности. Поскольку вообще все, что мы любим, должно надеяться на бессмертие. Любовь – это и есть желание другому человеку, как Марсель говорил: любить – это говорить: ты не умрешь, да, то есть у него даже книжка есть такая. Любовь – это некое призвание к бессмертию. И поэтому если мы любим и окружающего нас кота, мы хотим, чтобы и он оказался с нами в Царствии Божием. Это не потому, что Бердяев не любил людей. Как часто у нас бывает, что человек не любит людей, но очень любит зверей и как бы посвящает всего себя этому идеальному Другому. Одинокая бабушка, у которой сорок котов, да, вот это наглядный пример.
Д. Алексеева
– Ну да, кот – некий заместитель как раз того самого ближнего, понимаете, которого нет у одинокой бабушки. Вот скорее да, мы тут с вами совпадаем.
А. Козырев
– Ну мы сегодня говорим о философии Другого, о том, что такое Другой, кто такой Другой, и вообще, как эта философия связана с христианской традицией. Мы об этом еще поговорим, потому что мне кажется, что вообще она не просто так возникает в XX веке, когда людям становится очень холодно и страшно жить, но возникает в связи с тем, что мы как-то пытаемся осмыслить наши христианские корни. И говорим мы сегодня об этом с доцентом кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ, Дарьей Алексеевой. После небольшой паузы мы вернемся в студию радио «Вера» и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
А. Козырев
– В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи» с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры онтологии и теории познания философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук, Дарья Александровна Алексеева. Мы говорим сегодня о философии Другого. Ну вообще вот действительно насколько эта философия и кто является ее основными представителями в западной, в русской традиции, связана с христианством? Или, может быть, даже с иудеохристианством. Иудеохристианство – это понятие кардинала Жака Даниэлу, подразумевающее, что у христианства есть свои корни, у Нового Завета есть Ветхий Завет, который нам не безразличен.
Д. Алексеева
– Если говорить о европейской философии, то необходимо вспомнить таких видных мыслителей как Жан Поль Сартр, Эммануэль Левинас, Матин Бубер...
А. Козырев
– Гуссерль.
Д. Алексеева
– Гуссерль – да. Знаете, я про Гуссерля думала сказать, но, с другой стороны, вот все-таки для Гуссерля Другой это не тот самый Другой, о котором говорим сегодня мы с вами. Для Гуселя Другой – это просто еще одно сознание. И для него проблема Другого – это проблема того, как же нам все-таки из своего сознания вытащить на свет эту четкую и незамутненную идею наличия осознания у другого человека. То есть для него проблема в том, что мы, говоря о Другом или приписывая кому-то, другому человеку наличие у него сознания, мы это делаем, грубо говоря, на основе умозаключения по аналогии, которая не является, не гарантирует нам истину. То есть мы считаем, что у другого человека есть сознание, потому что он тоже движется, он говорит, он реагирует на нас и так далее. И в итоге Гуссерль уже в поздний период деятельности приходит к идее, что все-таки это Другой, он неотъемлем, он возникает одновременно с понятием Я или заранее присутствует в нашем сознании, до того, как оно еще полностью сформировалось. Ну его интересует именно вот это, его интересует познание человеком мира, так скажем, и ну некие гарантии того, что тот мир в котором присутствует Другой, это настоящий мир, этот Другой тоже настоящий.
А. Козырев
– Ну даже на уровне языка, да когда ребенок осваивает предметно окружающий мир и местоимение «я» «ты» «он», да, понимает, что «ты» – это мама, человек которая окажется рядом, когда он плачет, принесет чашку молока. А «он» – это, например, вот шкаф, который не принесет, не откликнется, не отзовется – то есть это какое-то безличное, бездушное, отстраненное бытие, которое, кстати сказать, может быть и бытием вполне человеческим – какой-нибудь отчим неродимый или отец. который забыл про ребенка, может называться «он», то есть...
Д. Алексеева
– Ну да, да.
А. Козырев
– Вот пусть он там принесет нам деньги, а мы эту чашку молока купим. Но ведь действительно сознание так устроено, что «ты» обязательно должно быть.
Д. Алексеева
– Да. И вот как раз про Ты, не просто про какого-то Другого, про Другого, которого мы называем Ты, и говорят философы диалога, которые смотрят на проблему Другого под другим углом зрения. Для них этот Другой, это присутствии Ты дано. Дано сразу, для них не вопрос, каким образом мы узнаем, что Ты это Ты. Для них вопрос или проблема в том, что это Ты означает в нашей жизни и как мы можем, в какие отношения мы можем с ним вступать.
А. Козырев
– «Ты еси» – Ты есть – то что на храме Аполлона в Дельфах было написано. То есть: «Ты есть» – путник говорит Богу: «Ты есть». Бог отвечает путнику: «Ты есть, раз ты пришел ко Мне, ты есть». Уже диалог.
Д. Алексеева
– Да, взаимное признание факта существования.
А. Козырев
– Да, да.
Д. Алексеева
– Такое обоюдное.
Цитата. Мартин Бубер. «Два образа веры». «Вечное Ты по своей сущности не может стать Оно; ибо вечное Ты по своей сущности не укладывается в меру и предел, даже в меру неизмеримого и предел беспредельного; ибо вечное Ты не найти ни в мире, ни вне мира: ибо вечное Ты не раскрывает себя в опыте; ибо его нельзя помыслить; ибо мы заблуждаемся и прегрешаем против Него, Сущего в бытии, когда говорим: «Я верю, что Он есть»... И все же мы, в соответствии с нашей сущностью, постоянно превращаем вечное Ты в Оно, в Нечто, делаем Бога вещью».
А. Козырев
– Ну действительно этим другим Ты может быть много что, да, то есть и тот же котик может быть другим Ты, по Мартину Буберу.
Д. Алексеева
– Да, да.
А. Козырев
– А Бог может быть? К Богу я могу обращаться на Ты?
Д. Алексеева
– Ну в каком-то смысле да. По крайней мере если исходить из того, что говорил по этому поводу Левинас, то он как раз и связывал...
А. Козырев
– Да и Бубер тоже.
Д. Алексеева
– Да, и Бубер, да.
А. Козырев
– Бубер был очень такой человек между двух традиций: он писал по-немецки, был еврей, ну вот и человек европейской культуры, но который сохранял свои иудейские корни, но сохранял их не очень ортодоксально для традиционного иудаизма. Поэтому для иудеев он не был своим, скажем так, то есть как многие философы. Я помню, Сергей Сергеевич Аверинцев рассказывал, как в Иерусалиме он пытался найти могилу Мартина Бубера, и никто ему не мог подсказать...
Д. Алексеева
– Не нашел, никто не мог подсказать?
А. Козырев
– Потому что для неверующих евреев просто такого имени не было. А для верующих это был еретик, чуждый абсолютно вот их истинной вере. Поэтому никто ему долго не показывал, не рассказывал, где Бубер похоронен.
Д. Алексеева
– Какая интересная ситуация. Человек пытался говорить или пытался установить этот самый диалог с Другим, да, при этом...
А. Козырев
– Ну вот я всегда себе задаю вопрос: а почему мы на Бога на Ты обращаемся, а французы обращаются к Богу на Вы: «Vous, Seigneur...», да?
Д. Алексеева
– Вот поэтому я засомневалась при ответе на вопрос, насколько мы можем говорить: Ты. Если Другой это некий...
А. Козырев
– Ну вот мы говорим: Ты, Господи, – вот обращаясь. Вот это удивительно, у меня нет ответа на этот вопрос. То есть, может быть, какое-то представление о рыцарстве, о господстве, да. В то же время если я напишу француженке письмо, и «Вы» напишу с большой буквы, по-французски...
Д. Алексеева
– Она обидится.
А. Козырев
– Если не обидится, то очень удивится. У них не принято. То есть, вообще говоря, они легче переходят на ты друг с другом, и совершенно нормально люди разного возраста, но которые общаются по работе или по каким-то обстоятельствам близко, обращаются друг к другу на ты. У нас это как-то не принято. У нас даже в семье не всегда принято там к тестю, к теще на ты обращаться, да. А вот тем не менее к Богу на Вы, а мы к Богу на Ты.
Д. Алексеева
– Да.
А. Козырев
– Ближе дистанция? Мы ближе к Богу, чем они?
Д. Алексеева
– Нам кажется, что Он ближе к нам.
А. Козырев
– А вот, кстати.
Д. Алексеева
– Я не уверена, что мы к Нему ближе. Но создается впечатление, что Он ближе к нам. Мне кажется, здесь такое отношение.
А. Козырев
– Ну да, ну вот то есть все, кто пишет о Другом и вот эти философы Другого, это философы ну как-то христианской или иудейской традиции, да, в европейской культуре или не обязательно?
Д. Алексеева
– Мне кажется, не обязательно. Ну по крайней мере я не могу однозначно утверждать, что Лакана можно отнести к какой-то религиозной традиции. Он-то как раз писал о Другом, правда о Другом как некоторой структуре, которая встроена в нас.
А. Козырев
– Жак Лакан, да.
Д. Алексеева
– Да. Вот, конечно, Эммануэль Левинас явным образом относится к иудейской традиции, Мартин Бубер, как вы уже говорили, он к иудеохристианской. Куда относится Жак Деррида...
А. Козырев
– Насколько я знаю, Лакан школу в Риге закончил, на русском языке учился и читал Достоевского.
Д. Алексеева
– Но тем не менее. Читал да, и Достоевского, и Бахтина, разумеется.
А. Козырев
– И французский язык для него не родной.
Д. Алексеева
– Не родной.
А. Козырев
– Поэтому не знаю, как его по-французски читают, но по-русски его сложно читать. Потому что когда переводят еще с неродного языка, и он что-то пытается с этим неродным языком сделать, то его опыт очень интересный.
Д. Алексеева
– Это да, ну какие-то вещи он проговорил достаточно четко, они интересные, они неожиданные. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что Другой – это именно Лик, за которым проявляется абсолютная инаковость, и Божественная инаковость для него абсолютна, то есть для него Бог это что-то скрытое, что не очень похоже на христианскую традицию, потому что похоже на иудейскую. Вот что-то, но что нам намекает другой своим существованием. И что у него Другой сходен по-своему со смертью, с неожидаемым будущим, то есть с чаемым будущим, котором мы не можем предзаказать, допустим, да. Но при этом для него же Другой, там его там типичные примеры Другого – это сирота, вдова, как иностранец без прав там, допустим, да. То есть, с другой стороны, говорит о некоей такой близости и о том, что этот Другой вызывает в нас желание ласки – там приласкать каким-то образом, помочь ему и так далее. То есть вот, на мой взгляд, какая-то парадоксальная ситуация, возможно, здесь есть как раз некое совмещение вот такой, не знаю, европейской что ли культуры, каких-то мотивов иудаизма.
А. Козырев
– Ну, с другой стороны, я на Радоницу видел, всегда вижу, каждый год, объявления в метро, вот что автобусы организуются бесплатные на кладбище, можно поехать. А тут вдруг иду в метро и вижу объявление, что есть фонд, который организует бесплатные автобусы для бомжей, и их отвозит в приют, в ночлежку, да, что есть проект. Ну я думаю, что, слава Богу, мы ведь не только на кладбище себя отвозим, у нас еще живые люди есть, о которых тоже надо подумать. Очень хорошо, что мы думаем о покойниках и, наверное, и о покойниках плохо думаем, потому что состояние наших кладбищ оставляет желать. Но вот о живых-то людях тоже надо подумать. И есть другие, которые ждут нашей помощи, пока они еще не умерли.
Д. Алексеева
– Безусловно. И вот такой модус отношения к Другому, да, – модус заботы, о Другом или ответственности за Другого – это то что явным образом читается у Левинаса, кстати, может быть, в меньшей степени у Бубера там, и совсем не обнаруживается у Гуссерля.
А. Козырев
– Ну обнаруживается у Бахтина.
Д. Алексеева
– Да, да.
А. Козырев
– Вот здесь тоже интересно вспомнить, что Николай Михайлович Бахтин уроженец города Орел и человек, который большую часть сознательной жизни проработал в Саранске преподавателем педагогического института.
Д. Алексеева
– Он так повлиял на французскую философию и на философию диалога тоже. Удивительно.
А. Козырев
– Да. Может быть, потому что брат его был во Франции и воевал даже в иностранном легионе французском, и писал по-французски. Но, к сожалению, брат рано умер. И брат Бахтина, старший брат, Николай Михайлович Бахтин – я оговорился, речь идет о Михаиле Бахтине. Николай Михайлович, старший брат, был заведомым атеистом, человеком такого вполне антихристианского мировоззрения. В то время как Михаил Михайлович Бахтин, да, вот человек, который в основе своей философии Другого – ну для меня по крайней мере так представляется – имеет какие-то христианские корни.
Д. Алексеева
– Да, тут сложно не согласиться. Безусловно.
А. Козырев
– А почему, вот как вам кажется, философия Бахтина, Михаила Бахтина вдруг становится такой мировой, что называется, значимой философией? То есть к русской философии есть такое сдержанное отношение на Западе – ну мало ли что там мы, русские, понадумали у себя там. А вот Бахтин переводится на все языки, конференции проводятся. Почему?
Д. Алексеева
– Ну сложный вопрос. Но мне кажется, дело в том, что он высказал какие-то идеи, которые в тот момент или в тот период были как-то очень созвучны в целом тем трансформациям, которые происходили в культуре и в европейской культуре. Это и неожиданное понимание, что этот самый Другой есть, и понимание что я или мы, как некое там сообщество, не являемся тем, чем, может быть, себе казались, когда мы игнорировали этого Другого или сводили его до уровня вещи. Это определенные культурные процессы, которые впоследствии станут там процессами глобализации и так далее. Вот его идея, что Другой – это то что, скажем так, тот, через взгляд кого мы определяем себя в этом мире. Мы не можем посмотреть на себя, мы смотрим на себя глазами Другого, он нам рассказывает, кто мы такие, по большому счету.
А. Козырев
– Но в то же время мы не становимся Другим.
Д. Алексеева
– Не становимся, да.
А. Козырев
– И на этом Бахтин настаивает, что надо сохранять свое единое, единственное место в мире.
Д. Алексеева
– Это да. И более того, мы не можем от него избавиться, мы не можем перестать быть собой. И вот, кстати, это то что отличает, мне кажется, Бахтина от каких-нибудь там теоретиков постколониализма или некоторых представителей современных гендерных исследований, которые предполагают, что идентичность текуча, она может меняется как угодно, она рассеивается.
А. Козырев
– То есть, когда полицейский должен преклонить колена перед афроамериканцем – это не Бахтин.
Д. Алексеева
– Нет.
А. Козырев
– Из философии Бахтина это никак не следует.
Д. Алексеева
– Ну не следует по крайней мере. Я думаю, что не очень хорошо согласуется, в том смысле что все-таки Бахтин исходил из того, что человек занимает, каждый человек, каждый субъект вообще занимает свое уникальное место. Как бы человек это и есть место в каком-то смысле, да, в широком смысле слова – он сформирован некоторой культурой, он занимает некоторое место в пространстве и физическом, и культурном пространстве и так далее. Его тело устроено каким-то образом, у него есть некоторый опыт. И это не то, от чего можно взять и отказаться. И любой такой человек имеет право на существование. Очень странно выглядит, когда там, не знаю, за грехи отцов кто-то встанет на колени и будет просить прощения...
А. Козырев
– Ну конечно. Если ты сам виноват перед этим конкретным человеком – приди к нему, встань на колени и попроси прощения или другим образом каким-то попроси прощения. Но вообще просить прощения, в принципе, за то, что кто-то сделал против кого-то – я этого не понимаю. Может быть, я как бы недостаточно осознал еще это, но это, мне кажется, как какая-то абстрактность. Причем абстрактность... Вот философию упрекают в абстрактности, а здесь, по-моему, какая-то абстрактность общественного сознания – то есть его как бы пытаются загнать в какую-то клетку. Когда мы начинаем не непосредственным чувством жить, не проявлением этого чувства к другому человеку, а какими-то ментальными схемами. Вот сделай прививку, потому что, сделав прививку, там другие не заболеют, условно говоря. Ну это же абстрактная схема.
Д. Алексеева
– Ну, возможно, да.
А. Козырев
– Нет, ну я знаю, что я делаю прививку, да, мне говорят: 96%, что у вас не будет заболевания. Я доверяю врачам. Но мне же никто не говорит, что вы знаете, 85% что другие не заболеют. То есть это абсолютно никак не доказано – ни медицински, ни биологически, да, это некое ментальное пожелание, скажем так. Поэтому в этой ситуации вот мы пытаемся наше общественное сознание перестроить, исходя из каких-то абстрактных априори.
Д. Алексеева
– Не знаю, вот не уверена. Все-таки я как человек, который переболел, все равно часто хожу в маске. Не потому, что мне там кто-то замечание сделает, да, а чтобы другие чувствовали себя комфортнее. Они же не знают, когда я выхожу на улицу, что я не могу быть заразна.
А. Козырев
– Но это же другой аргумент – не чтобы они не заболели, а чтобы они чувствовали себя комфортнее. То есть в данном случае, когда люди в метро, да, проявляют агрессию, потому что видят кого-то без маски – ну, наверное, в ситуации пандемии это – я не сказал бы, что это нормально, но это можно понять. Если есть предписание, если есть санитарные врачи, которые сказали, что надо ходить в маске. А кто-то наглец, да, и, по сути, он тем самым нарушает нормы общественного порядка. И его надо призвать к тому, чтобы он эти нормы соблюдал. Как если бы он, допустим, матерился, бил женщину или еще что-то совершал в метро. Здесь я вполне согласен с этим, что и сам стараюсь соблюдать. Но не для того, чтобы другие не заболели, а для того, чтобы они чувствовали себя комфортно и не были бы уязвлены, скажем так, моим агрессивным поведением: вот, мол, я диссидент, мне вообще, я во все это не верю, вы верите – ну это ваши проблемы. Это же тоже, наверное, ненормальное поведение.
Д. Алексеева
– Ну да. Вот с ситуацией, когда кто-то встает на колени, прося прощения у некоей абстрактной нации за злодеяния своих отцов или культуры, к которой он считает себя принадлежащим – конечно, это крайне странная ситуация. У меня нет каких-то таких прямо вот готовых моделей объяснения. Единственное, что мне здесь вспоминается, это идея, с которой я сталкивалась в постколониальных исследованиях, что ненависть к Другому или презрение к Другому, которая приписывается, допустим, представителям митрополий по отношению к колонии, это некая сублимированная или трансформированная, превращенная ненависть их к самим себе.
А. Козырев
– В эфире программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доцент философского факультета МГУ, Дарья Алексеева. Мы сегодня говорим о философии Другого и о каких-то практических смыслах, которые с этим связаны в нашей жизни. А вот как вам кажется, вот вера и единоверие – важный фактор сегодня в общении с Другим? То есть когда мы выбираем себе собеседника или, может быть, спутника жизни даже. Такое часто бывает, когда наши дети, допустим, ищут себе половинку вторую. Вот человек твоей веры, человек, как и ты, разделяющий твои какие-то религиозные принципы – это главный фактор? Или сегодня, может быть, это не самый основной фактор. Если да, то почему?
Д. Алексеева
– Ну, на мой взгляд, это крайне существенный фактор. Возможно, для каких-то людей, которые сосуществуют просто чисто физически друг с другом это и не принципиально. Но если эти люди видят друг друга как Других, если между ними есть некий диалог, то такие глубокие вот мировоззренческие разногласия могут усложнять их сосуществование. Хотя, наверное, могут быть и преодолены. Если человек, если в конце концов оба принадлежат к разным конфессиям или к разным религиям, но и та и другая религия является монотеистическими религиями хотя бы, как минимум. Ситуация, когда один является категорическим атеистом, а другой человеком верующим, на мой взгляд, более сложная, поскольку все-таки вера затрагивает какие-то очень существенные мировоззренческие установки, не только там бытовые, да, жизненные установки. Хотя это тоже, тоже будут там некоторые проблемы. Но такие принципиальные расхождения, скажем так, могут создавать сложности.
А. Козырев
– Но, с другой стороны, вот Августин в 30 лет обратился. Его мать, Моника, была уже верующей христианкой. Но она молилась за сына, она же не сказала ему там: ты в Бога не веришь, иди, не хочу с тобой ничего общего иметь. Нет, она молилась и в конце концов вымолила обращение сына. А вот когда и муж, и жена верующие, но, допустим, принадлежат к разным церквям, к разным конфессиям – я видел такую ситуацию во Франции, в Париже, когда сильно ругались друг с другом муж с женой. И она его затащила, католика, в православный храм на rue Daru, и они обсуждали – твоя религия, моя религия – ощущение, как будто шли разговор шел вообще о разных религиях. Хотя и там вера в Троицу и во Христа, и тут вера в Троицу и во Христа – разный обряд, немножко разные, да, догматические предписания. Но вот часто бывает, что даже атеист, может быть, с верующим легче найдет какой-то диалог, чем люди, которые различаются в каких-то нюансах веры.
Д. Алексеева
– Бывает и такое. Ну, с другой стороны, вот ислам дозволяет брак с иудеем, иудейкой и христианкой, допустим, то есть в принципе, это ну официально санкционировано. Ну, конечно, можно себе представить, когда два человека и одной веры или два атеиста живут как кошка с собакой. Почему нет? Сколько угодно.
А. Козырев
– Или два народа одной веры начинают враждовать друг с другом.
Д. Алексеева
– Или два народа одной веры.
А. Козырев
– Находят какие-то политические поводы и устраивают чуть ли не войну. Вот как это происходит? То есть эта философия Другого может на это дать ответ? Что мы должны делать с Другим, чтобы мы увидели в Другом не врага, не чужака, не иностранца, а увидели в нем собеседника? Ну если не такого же как мы, ну или там подобного нам. Флоренский вообще говорил, что подобны только вещи, а люди либо совпадают, либо не совпадают, либо тождественны, либо не тождественны. Что нужно делать для этого? Вот в практическим смысле.
Д. Алексеева
– Ну, мне кажется, остановиться для начала, остановиться.
А. Козырев
– Ментально остановиться.
Д. Алексеева
– Да, ментально остановиться, эмоционально остановиться. Осознать, да, увидеть этого Другого как другого и осознать и те моменты, в которых вы не сходитесь, и его право быть таким, какой он есть, и свое отличие от него, и вот эту вот принципиальную –может быть, принципиальную, а может быть, не очень – разницу между вами и постараться понять, почему он такой, какой он есть. И почему ты такой, какой ты есть. Понятно, что в некоторых ситуациях это невозможно.
А. Козырев
– И вспомнить себя другим. То есть может быть в детстве, в юности ты был совсем другой.
Д. Алексеева
– Кстати, да. Да, задуматься.
А. Козырев
– Вот когда сегодня мы нашим детям говорим: да как ты посмел, да ты что, ты с кем общаешься? Да он же в церковь не ходит! Ну, вообще-то говоря, каждый человек проходит становление в жизни. И если церковь для нас – это место добра, любви, да, какого-то понимающего взаимодействия с другим человеком – то это одно, а если это как партия раньше была, да, – кто записался, кто не записался – то это другое совершенно.
Д. Алексеева
– Да. Мне кажется, очень важно действительно понимать, что и ты был другим, да и, может быть, ты не являешься сейчас тем, каким ты себе кажешься, и в тебе есть эти элементы.
А. Козырев
– А вот терпимость? В конце я задам вопрос: вы за терпимость к другому человеку?
Д. Алексеева
– В некоторых рамках, так скажем. Там, где это не касается напрямую моей жизни, скажем.
А. Козырев
– Терпимость и толерантность – это одно и то же?
Д. Алексеева
– Ну я это использую как синонимы, да. То есть когда вы сказали: терпимость – я подумала именно о толерантности, которая очень сильно отличается и от понимания Другого, и от признания и Другого как имеющего право на существование, какое оно у него есть, и от этического отношения к Другому. Терпимость – это просто... Ну вот орет ребенок в самолете – ну мы терпим. Ну что делать? Нам он что, нравится как Другой? Мы что, задумываемся, какой он, или что, мы пытаемся проявить какую-то заботу? Нет, мы терпим просто. То есть терпимость не идентична пониманию...
А. Козырев
– Если ребенку два года, то, наверное, мы терпим. Если ребенку пять – мы уже говорим: ну родители не умеют воспитывать детей.
Д. Алексеева
– Ну да.
А. Козырев
– Если ребенку двадцать – то, вообще-то говоря, тут надо вызвать полицию.
Д. Алексеева
– Ну если он большой и страшный, мы тоже терпим как бы. Поэтому я говорю: в некоторых рамках, да. Понятно, что терпимость, которая заставляет страдать нас, которая ставит под вопрос наши способы жизни, наше понимание мира, прямо даже не только понимание, а именно жизнь, да, – то есть мы для того, чтобы терпеть, мы обязаны очень сильно изменить свою идентичность, свою жизнь – как бы такая терпимость, как бы я не вижу для нее каких-то философских оснований, так скажем. Это некая ситуативная проблема, которая может решаться в каждой ситуации по-разному.
А. Козырев
– То есть это некая зона ожидания, что либо другой изменится и поймет, что рядом с ним есть люди, живущие по-другому. Ну либо просто придется положить какой-то конец этому общению и уйти от этого Другого подальше.
Д. Алексеева
– Ну да, либо я, задавленный неким, не знаю, неврозом, неким чувством вины, скажу: ну да, простите, пожалуйста, что я вот не такой, как вы. Давайте я подвинусь там.
А. Козырев
– Может быть, последний вопрос, поскольку время подходит к концу. Другой – он лучше или хуже нас?
Д. Алексеева
– Хуже, конечно. Он – другой.
А. Козырев
– То есть мы лучше всех.
Д. Алексеева
– Ну я шучу. Он – другой. Но он ни в коем случае не должен восприниматься как тот, кто лучше нас. Мы можем занять некую этическую позицию, когда в которой мы будем оберегать Другого, допустим, больше, чем себя – некую альтруистическую позицию, там предполагая, что этот Другой является неким посланником Бога в каком-то смысле – он нам дан для чего-то, чтобы мы видели эту инаковость и так далее, и взаимодействовали с ней. Но он не лучше Я, не лучше нас.
А. Козырев
– То есть нам не надо постоянно говорить: я хуже всех, я хуже всех, я хуже всех...
Д. Алексеева
– Нет, нет. Бахтин был бы против.
А. Козырев
– А, то есть все мы, ну внутри себя, в своем собственном духе, да, я могу каяться – у Бахтина эта идея присутствует. Но от Другого я слышу: встань и иди.
Д. Алексеева
– В идеале.
А. Козырев
– То есть Он как бы поднимает меня. Ну что же, я очень благодарен нашей сегодняшней гостье, Дарье Алексеевой, с которой мы подняли очень важные и сложные философские проблемы Другого. Мы попытались сделать это на каких-то знакомых нам и текущих жизненных ситуациях, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Наверное, их еще больше, потому что мы могли бы затронуть и проблему мигрантов, и проблему культурного разнообразия, с которым мы встречаемся сегодня на улицах наших городов. Но будут еще поводы, будут еще эфиры. И философия должна нам помогать. Не усложнять жизнь, а должна решать наши сомнения, решать наши вопросы и как-то налаживать нашу жизнь, особенно в таком непростом и неспокойном мире. И я благодарю мою собеседницу за этот разговор.
Д. Алексеева
– Спасибо вам большое, очень приятно.
А. Козырев
– До новых встреч в программе «Философские ночи» на радио «Вера».
Д. Алексеева
– Всего доброго.
Тропарь Благовещения

«Благовещение» Леонардо да Винчи, 1472–1476 гг., из собрания галереи Уффици во Флоренции, Италия
Одним апрельским утром много лет назад я шла на работу. Воздух был свежим и прохладным, пели птицы, природа просыпалась, но вот только я этого почему-то не замечала. На душе было тоскливо, хотя и причины-то особой для печали не было.
Двери храма, мимо которого пролегал мой путь на работу, были в то утро открыты. Через них слышалось пение. Наверное, сегодня праздник — подумала я и решила зайти.
В храме было много людей. Горели свечи, пахло свежими цветами — их принесли к иконе Богородицы. На всю службу я остаться не могла, но решила постоять хотя бы некоторое время и помолиться.
Хор запел песнопение, в котором упоминался архангел Гавриил, и я догадалась — это был Праздник Благовещения. А слова этого праздничного песнопения надолго остались в памяти. Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.
Как я поняла позже, это был тропарь Благовещения — то есть гимн, прославляющий праздник. Он описывает евангельское событие, когда Архангел Гавриил принёс благую весть юной Деве Марии. Ей суждено стать Божией Матерью.
Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так: «Сегодня начало нашего спасения, сегодня открытие вечной тайны: Сын Божий стал Сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил». Вот как эти строчки звучат на церковнославянском языке: «Днесь спасения нашего главизна,/ и еже от века таинства явление:/ Сын Божий, Сын Девы бывает,/ и Гавриил благодать благовествует». Давайте послушаем первую часть тропаря Благовещения.
Вторая часть молитвы понятна почти без перевода. По-церковнославянски звучит она так: «Темже и мы с ним Богородице возопиим (то есть будем петь):/ радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою».
Послушаем второй фрагмент тропаря Благовещения.
Когда я вышла в тот праздничный день из храма, утро было всё таким же — прохладным, весенним, чуть влажным от тающего снега. Люди спешили по делам, шумел город, а во мне звучала мысль: как хорошо в храме Божием! Какая благодать! И почему я раньше не заходила? Именно там, в тишине молитвы и в звуках церковного пения в Праздник Благовещения, сердце снова научилось радоваться — так душевно и так по-весеннему.
Давайте послушаем тропарь Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.
Все выпуски программы: Голоса и гласы
Оренбург. Мученик Александр Шморель

Фото: Nico Siegl / Pexels
В сонме святых Оренбургской епархии есть имя мученика Александра Шмореля. Он родился в Оренбурге в 1917 году. Отец Александра был немцем, а мать — русской. Родители крестили сына в оренбургской Петропавловской церкви. Мальчик в два года потерял маму, а в четыре переехал с отцом в Германию. В 1940 году Шморель поступил учиться на медицинское отделение Мюнхенского университета. В то время Германия переживала время гитлеровской диктатуры. Вокруг Александра образовался студенческий кружок «Белая роза». Его участники выпускали и распространяли листовки с призывом сопротивляться нацистскому режиму. В 1943 году подпольщиков схватила полиция. 19 апреля Александра Шмореля приговорили к смертной казни. Три месяца он провёл в тюрьме, прежде чем приговор был приведён в исполнение. Перед лицом смерти юноша оставался спокойным. Опору он находил в вере во Христа. И в письмах утешал родных, уверяя в грядущей встрече за пределами земной жизни. В 2012 году Церковь прославила Александра Шмореля в лике святых. В 2020-ом в Оренбурге на Парковом проспекте был установлен памятник мученику.
Радио ВЕРА в Оренбурге можно слушать на частоте 88,3 FM
12 февраля. «Смирение»

Фото: Aaron Burden/Unsplash
Как всего плодоноснее учиться у Господа смирению? Конечно, с благоговением и покаянием призывая Его всесвятое имя. Молитва Иисусова, свершаемая в простоте и незлобии, с посильным вниманием и постоянством, — один из лучших и кратчайших путей к стяжанию смирения. Имя Господне, подобно преизливающейся чаше, наполняет сердце христианина живой водой — благодатью смирения.
Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров
Все выпуски программы Духовные этюды














