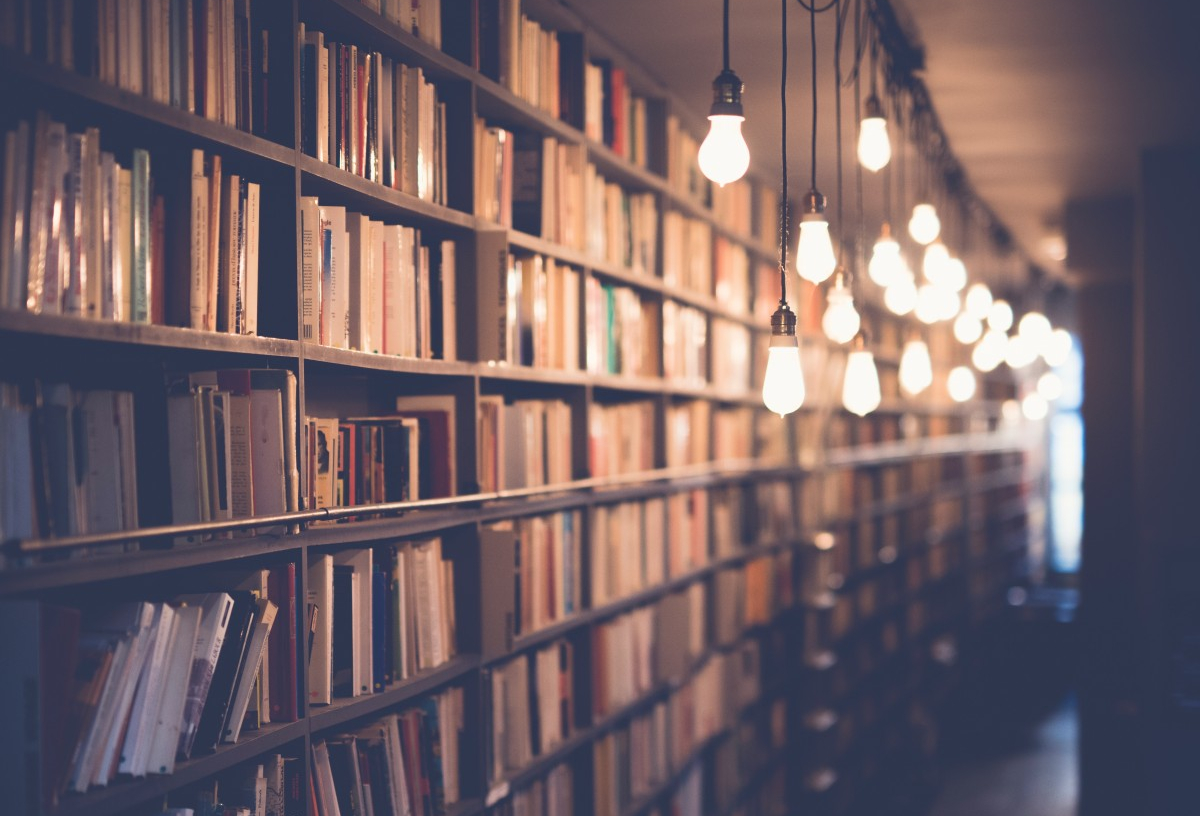
Гость программы — Анна Жучкова, литературный критик, доцент РУДН.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об искании Бога в современной литературе. У нас сегодня в гостях литературный критик, доцент Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Анна Владимировна Жучкова. Здравствуйте, Анна Владимировна.
А. Жучкова:
— Здравствуйте, Алексей Павлович, рада с вами познакомиться, увидеться. Здравствуйте, дорогие слушатели.
А. Козырев:
— Я поясню, почему мы говорим о литературе, о современной литературе в программе «Философские ночи», дело в том, что, вообще-то говоря, те, кто хотя бы немножко изучал, читал русскую философскую классику, знают, что есть такой жанр философской критики русской литературы. Владимир Соловьев, Николай Бердяев, Семен Франк, они писали блестящие литературоведческие статьи. Вот статьи Соловьева о русской поэзии — это шедевры, о Лермонтове, о Случевском, о Полонском, о Тютчеве, то есть здесь мы что-то привнесли. Я не могу сказать, что в западной философии нет таких аналогов, но вот такая близость русской философии и литературы это, наверное, вы со мной согласитесь, одна из особенностей нашей философской традиции.
А. Жучкова:
— Нашей и литературной традиции, потому что, как Михаил Бахтин, до сих пор непонятно, кто он, как его называть в первую очередь: литературовед, теоретик литературы или философ. Ну и, в общем-то, да, действительно, это очень близкие вещи.
А. Козырев:
— Я знаю, что вы профессионально занимаетесь Бахтиным, и мы ещё, я надеюсь, сделаем программу о Бахтине. Но сегодня я подумал вот о чём: что на самом деле, вот философы, в том числе и современные философы, когда они говорят о литературе, они обращаются к Достоевскому, они обращаются к Толстому, о Чехове они иногда любят порассуждать — а что, на них литература кончилась? Вот сейчас литературы нет, после Пастернака тёмный лес, или всё-таки?..
А. Жучкова:
— Алексей Павлович, вы прямо с места в карьер, прямо под дых, потому что, если говорить о том, что сейчас с литературой, то нужно уйти лет на тридцать назад и сказать, что после 1991 года у нас было прервано естественное развитие литературы, потому что, если мы берём изначальный русский постмодерн, назовем его так, 50-х, 60-х годов, «Лианозовскую школу», Всеволода Некрасова и других авторов: они развивали то, к чему потом на Западе пришли в поэзии 80-е годы, например. Но с конца 80-х и вот после 1991 года получилась резкая смена поколения литературного, и их всех задвинули, и вот наш настоящий андеграунд, он на самом деле дальше не развивался, и Всеволод Некрасов очень много об этом писал, почему же на смену нам, которые всегда говорили о свободе и о духовной свободе, в первую очередь пришли челночники, челноки, которые стали с Запада таскать их ценности, учить нас думать о свободе. Ну, это кто: это вот Дмитрий При́гов, это его ученик Дмитрий Кузьмин, это вот покойный ныне Лев Рубинштейн и другие представители вот такого нового как бы андеграунда, как бы концептуализма. И вот такая вот наша постмодернистская, скажем, литература: Сорокин, Пелевин, которые стали для нас, в кавычках «классиками» на следующие тридцать лет.
А. Козырев:
— Но они действительно в каком-то смысле не просто стали литераторами выдающимися, но они стали учителями жизни для молодёжи, вот жить по Пелевину, вот Пелевин черпает из молодёжной среды, из богемной среды, из айтишников, из их образа мысли, из их образа жизни, и они, соответственно, подстраиваются под вот эту пелевинскую стратегию, да?
А. Жучкова:
— Да, и проблемы здесь две: то, что Пелевин — это не высокая проза, по-моему глубокому убеждению, он работает со штампом и стереотипом, то, что ближе к массовой культуре.
А. Козырев:
— Я могу здесь немножко другую точку зрения привести, потому что когда в 90-е годы я немножко писал в «Новый мир» критические статьи, то заведующая отделом критики Ирина Бенционовна Роднянская, выдающийся литературный критик и историк русской философии, мне сказала: «А вы читали „Чапаев и Пустота“?» Я говорю: «Нет, первый раз слышу». — «Как? Пелевин — это очень большой автор, обязательно обратите на него внимание». То есть я вот обратил внимание на Пелевина благодаря ныне здравствующей Ирине Бенционовне, которая очень тонкий человек.
А. Жучкова:
— Ирина Бенционовна прекрасна, мы сегодня будем говорить о Дмитрии Данилове, например, и только она смогла отгадать суть его романа «Горизонтальное положение», потому что она единственный уникальный критик, который сохранял и в постсоветское время, и в послесоветское христианскую позицию, то есть её критика — это критика именно с христианской направленностью, и поэтому она многие вещи...
А. Козырев:
— С христианской точки зрения, да?
А. Жучкова:
— Да, и она многие вещи в нынешней литературе, которая снова обратилась к Богу, может увидеть, тогда как те критики, которые были воспитаны этим нашим постмодерном, заимствованным с Запада, по большому счёту, который прервал нашу преемственность, ведь я не договорила про второе, за что я не люблю, и давно не люблю Сорокина, Пелевина, Пригова и вот эту плеяду так называемых постмодернистов: за то, что они поставили крест на всём, что было до них. Вся наша огромная традиция русская и даже советская отчасти — это то, что даёт нам силы, потому что без корней не будет будущего, а они переориентировали нашу культуру и литературу только на западные тренды.
А. Козырев:
— А почему так произошло? Ведь 90-е годы — это было время церковного ренессанса, с этим трудно не согласиться, когда открываются храмы, открываются монастыри. Я знаю, что у нас целыми курсами уходили в Церковь, не просто принимали крещение, а становились священниками. Вот отец Михаил Васильев, погибший под Херсоном, был один из тех молодых людей, выпускников нашего факультета, который пережил вот это религиозное обращение благодаря отцу Дмитрию Смирнову. Это было начало 90-х годов, воцерковление шло очень мощно, и в то же время литература, которая как бы совсем не хотела воцерковляться, а наоборот, бежала в какую-то другую сторону.
А. Жучкова:
— Потому что, как замечательно написал в начале 90-х годов Константин Крылов, русский патриот, он написал статью о том, что «наше общество сегодня разделено на два этноса: есть русские, а есть россияне», и вот мы видели, как это разделение с 90-х годов все больше прогрессировало. Я отсылаю к этой статье — «Россияне и русские», пересказывать ее долго.
А. Козырев:
— Крылов — тоже, кстати, выпускник нашего факультета.
А. Жучкова:
— Правда?
А. Козырев:
— Конечно.
А. Жучкова:
— Прекрасная статья, но, как многие прекрасные статьи, почему-то они прочитываются в основном только сейчас, но хотя бы сейчас начинаем с этим разбираться. И вот тогда, как премия «НОС», например, открытым текстом на открытых дебатах (премия «НОС» — это премия, которую делает Ирина Прохорова) говорит устами Анны Наринской, которая очень часто была в США, говорит: «Вот, у нас на Западе сегодня, в этом году носят какие-то тренды...», там эмпатия, ЛГБТ, какие-то разные были.
А. Козырев:
— То есть носят как вот юбки, да?
А. Жучкова:
— Ну, это я цитирую вольно, разумеется. Просто каждый год я слушала вот эти открытые дебаты премии «НОС».
А. Козырев:
— О чём сегодня прилично говорить, о чём неприлично.
А. Жучкова:
— Да. И вот перед голосованием жюри, тоже открытым, Анна Наринская как представитель жюри, сообщала жюри, какие сегодня надо выбирать книжки, и после этого члены жюри в соответствии с этой повесткой вот этот «НОС» — новую социальность и новую словесность и формировали. Я сейчас не открываю никаких тайн, это всё произносилось на аудиториях вслух.
А. Козырев:
— Это опера такая была у Шостаковича по Гоголю.
А. Жучкова:
— Да, у них там ходит нос по сцене, ходил в этой премии. Вот это россияне, которые хотели, по мнению Крылова, и мы сейчас это видим, как бы захватить землю нашу русскую и отдать её Западу, ну вот так они видели своё предназначение. А были русские. Были русские, которые и развивались, и продолжали жить, хотя это было трудно, но у нас формировалось в это же время под такой застывшей шапкой постмодерна, нам же говорили, что постмодерн жив и в «нулевые» годы, и в 10-е, и чуть ли не в 20-е вначале пытались. «Пригов. Фест» у нас шёл вплоть до 2021 года, тогда как постмодерн даже на Западе официально уже закончился, и его теоретик Линда Хатчеон в 2002 году написала: «Мы должны признаться в этом: постмодернизма больше нет». Понимаете, какая получается странная ситуация: постмодернизм закончился словами его же теоретиков, это Джеймисон, это Линда Хатчеон, это Зигмунд Бауман и другие, они после «нулевых» годов уже не писали о постмодерне, они писали о другом.
А. Козырев:
— Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет.
А. Жучкова:
— А у нас двадцать лет всё те же «законодатели» мод сообщали, что наши главные классики — это всё так же Сорокин, Пелевин, у нас всё так же постмодернизм, и не замечали ту другую литературу, о которой мы с вами сегодня хотели поговорить.
А. Козырев:
— Вот интересно поговорить о другой литературе, потому что те-то уже вошли в литературный процесс худо-бедно...
А. Жучкова:
— В процесс — да, а в историю, я думаю, нет.
А. Козырев:
— В процесс. А вот новое, что читать человеку, живущему религиозной жизнью, духовной жизнью, ищущему Бога, ищущему какие-то сходные ответы в современной литературе? Я помню, когда мы были молодые, мы спросили знакомого священника из церкви Иоанна Кронштадтского на Карповке в Петербурге, можно ли читать светскую литературу. Он нам сказал: «Всё можно читать. Вы молодые, вам надо читать всё и понимать, что ваше, что как бы соответствует вашей внутренней жизни, а что ей чуждо», то есть действительно, вот такой подход. Но всё-таки подсказать и, может быть, дать какие-то имена, на которые следует обратить внимание, потому что в школьной программе-то ничего этого нет, и школа как-то сейчас, по-моему, не учит современного выпускника, такая массовая школа, как ориентироваться в современной литературе. Идут споры, включать или не включать Пушкина в ЕГЭ, а вот современная литература?
А. Жучкова:
— Алексей Павлович, вы такие глобальные темы поднимаете. Попробую сейчас быстренько как-то сформулировать, потому что школа — это отдельная очень большая беда, и тем не менее надежда, потому что можно форматировать по-другому и иметь совсем другой результат. Как-то вот на КРЯККе — это Красноярская ярмарка как раз книжной литературы, которую организовывала тоже Ирина Прохорова, Галина Юзефович читала лекцию о современной литературе, говоря, что у нас постмодерн, что нет никаких смыслов, нет больших нарративов, нет общих высоких истин, человек дефрагментирован, нет личности, и это типа как бы вот хорошо, это такие тенденции, это было уже в конце 10-х годов. И женщина из зала спросила: «Скажите, пожалуйста, а есть у нас книги о России, о природе, о Боге, о душе?» Она сказала: «Нет, конечно, вы что, это же не модно, так уже не носят, это вот что-то вы такое советское говорите, мы против этого всего боремся, от этого давно отказались». И мне так стало ее жалко, ситуация казалась дикой, я подошла к этой женщине, протянула листочек, говорю: «Вот, посмотрите, есть, конечно». Она ко мне повернулась, говорит: «Я знаю. Я хотела спросить у Юзефович». Я это к чему: к тому, что люди читают и знают, вот то, что в официальной шапке представлено, это совсем не то, что живет и кого сегодня читают, кого сегодня любят.
А. Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, литературный критик Анна Владимировна Жучкова, мы говорим об искании Бога в современной русской литературе.
А. Жучкова:
— Итак, кого сегодня читают, любят: Дмитрий Данилов, Кирилл Рябов, Анна Долгарева. Есть огромный пласт литературы, которая обратилась снова к контексту человека, включенного в природу, включенного в системную связь с миром. Человека, который ищет духовные ценности и обоснования и в Боге, и в то же время в природе, то, что всегда было свойственно нашим предкам. Это Александр Бушко́вский, очень интересный путь у этого человека: он боевой офицер, прошел две чеченские войны, и когда ушел в отставку, он уехал в Карелию работать печником. Он сказал, что мужчина должен познавать мир через руки. И его поиск Бога, человека, прошедшего войну, человека просто с разодранным сердцем, это, конечно, отдельная история. И он продвигается по этому пути, и вот его прекрасный роман «Ры́мба», посвященный истории Руси, от начала до наших дней, отчасти напоминает о «Прощании с Матёрой» Распутина, но если у Распутина люди с Матёрой прощаются, то остров Рымба живет среди веков и не собирается никуда уходить.
А. Козырев:
— А Распутин — это вообще такая была советская эсхатология, то есть это вроде и не христианский роман «Прощание с Матёрой», но в то же время вот такой христианский приближающийся конец света, и люди, которые перед этим концом должны побелить избу, убрать, навести порядок в избе и внутри себя — это потрясающая метафора.
А. Жучкова:
— Да, отношение к смерти, и в то же время к смерти как к переходу в вечную жизнь. И в то же время у Распутина очень сильна славянская составляющая: Ли́ствень — великое дерево, которое стоит посреди острова и которое невозможно ни срубить, ни сжечь. И есть еще некий дух, хозяин острова, который тоже по нему бегает и его охраняет. И вот, как ни странно, сегодня поиски Бога сопряжены с возвращением отчасти и к нашему славянскому прошлому и переосмыслению того, что же нам осталось в наследство от фольклора и от наших предков. Ведь, как пишет, например, академик Рыбаков про родину славян: она насчитывает свою историю еще начиная со второго с половиной тысячелетия до нашей эры, поэтому когда нас пытаются объявить варварами, то тут вопрос еще, кто более дикие племена, поскольку наши предки жили очень давно, и у нас сформировались серьезные такие каноны отношения к миру. И вот эти поиски Бога в современной литературе, они иногда, с одной стороны, охватывают также и возвращение к такому природному пониманию жизни, то есть о чем я говорю, когда говорю о природе: о том, что все это взаимосвязано, жизнь человека включена в единство природы и космоса. И вот, кстати, по поводу философии: русский космизм, как пишет философ, это уникальное явление, свойственное только для русской философии, и оно как раз охватывает и все эти слои и сферы, в которых живет и реализуется человек. И сегодня русский космизм, он как раз и в литературе проявляется таким образом через мифопрозу, я так называю это явление. Вот Бушковский, потому что эта «Рымба» его, она немножко тоже имеет такие сказочные отчасти фольклорные корни, но вместо Лиственя-великого дерева, которое как ось держит мир, у Бушковского есть храм, который горит из-за туристов зашедших, не знающих нашей истории, но его восстанавливают сами жители Рымбы, но в то же время они и общаются с деревьями, они понимают эти силы природы, потому что в нашем славянском представлении, как пишет Пропп, все обряды были связаны как раз, я процитирую: «с организацией циркуляции сил от объектов, в максимальной степени наделённых ими в тот или иной момент времени, к объектам, в возрастании сил которых заинтересованы организаторы ритуала», то есть это такая система систем.
А. Козырев:
— Я думаю, что если перевести это на простой человеческий язык, то это такое воцерковление природы, которое мы видим в годичном круге праздников, когда в храм то берёзка приносится, то яблоки освящаются, то ёлки приносятся, ну и потом, лития, когда освящается масло, освящается хлеб, ну и, конечно, Евхаристия как вершина, как Таинство церковное, где тоже берётся хлеб и вино и пресуществляется в Тело и Кровь Христову, то есть это тоже связь с миром, тоже связь с тем, что человек приносит в храм плод своего труда, ведь он выпекает этот хлеб, он делает это вино, а умение делать вино передаётся от поколения к поколению, от отца к сыну, и всё это приносит Богу, всё это полагает на алтарь. То есть то, что, например, отец Сергий Булгаков называл религиозным материализмом, то есть таким трепетным отношением к плоти мира, которая должна быть освящена.
А. Жучкова:
— Очень красиво. И получается, западная философия сегодня, я немножко грубо выражаюсь, но она доходит до формулирования этих же истин, грубо в плане — доходит. Вот, допустим, есть концепция Беннета, называется «виталистический материализм», это как раз про то же, что предметы и явления...
А. Козырев:
— Но только она не всегда доходит до Бога, то есть тут можно остановиться на вот этом магическом материализме, то есть на каких-то неодушевлённых вещах, которым мы придаём субъектность: как мыслят леса там и так далее, но до Бога-то не дойти, поэтому вот то, о чём вы говорите — искание Бога, оно совсем, наверное, не гарантирует, что Бога мы обязательно найдём.
А. Жучкова:
— Тут такое дело, что если мы, допустим, посмотрим ещё на произведение автора, тоже мифопрозаика современного, Ирины Богатырёвой, она работает с природой, она такой фольклорист, специально пошла обучаться этому в магистратуру РГГУ по фольклористике, она ездит в архангельские деревни, разговаривает с бабушками, и вот её романы наполнены какой-то животворной силой, назову, например, «Ведяна», «Белая согра», она творит новый миф, и вот там получается, что когда человек идёт к себе, то он проходит через жизненные все перипетии, трудности, и он выходит на разговор с Богом, а посредниками в этом разговоре являются то звёздное небо, то прекрасное озеро горное, блеснувшее вдруг после долгого пути. Это, помните, как у Германа Гессе в «Игре в бисер», когда герой пошёл в мир из Касталии, и вот он пошёл в мир, и вроде бы это было отходом от духовного служения, но в финале он доходит до этого горного озера, он заходит в эту воду, и он там умирает, и эта смерть как вознесение в том плане, что человек вместил в себя созданный Богом мир и принял его чудо, потому что когда мы говорим о природе в этих романах, то мы говорим о чудотворении...
А. Козырев:
— Но у нас тоже есть хорошие примеры — Пришвин, человек, который всю жизнь как бы шёл от природы, и, наверное, пришёл к Богу благодаря своей жене, Валерии Дмитриевне Лио́рко, то есть последние дневники Пришвина, его размышления поздние — это всё-таки уже мысли, близкие к христианству, о том, что не надо охотиться, не надо убивать зверей, если ты можешь их не убивать, и недостаточно только погружённости в природу, но тут должно возникнуть ещё и какое-то чувство трансцендентного, где из этой природы мы можем, действительно, сквозь деревья увидеть лес, сквозь деревья увидеть Бога, если можно так перефразировать, да?
А. Жучкова:
— Да, и поэтому уникальный сегодняшний период, так называемый метамодерн, я скажу это слово, многие его не любят, потому что опять какой-то модерн, все уже устали и от модернизма, постмодернизма, но это хорошее название, потому что мета, по словам теоретиков метамодернизма, означает «после, между и сверх», то есть после постмодернизма, новая эпоха, между модерным и постмодерном и сверх них, вот эта эпоха, которая учит нас совмещать противоположности, но не сливая их в какое-то третье, как у Гегеля было, вот почему Бахтин не любил гегелевскую диалектику и особенно синтез гегелевский: потому что, представляете, живут две противоположности, а потом они берут, и чтобы снять напряжение между собой, сливаются в какую-то третью невнятную субстанцию, в которой теряют свою субъектность.
А. Козырев:
— Ну, например, атеизм и вера, взять и синтезировать это в какой-нибудь антропософии, условно говоря, да?
А. Жучкова:
— Условно говоря, она же никуда не вывела, были у них там какие-то желания постичь тайны этого мира, но далеко они не смогли уйти. Или, допустим, вот наша какая-то расхожая идея, что дети будут лучше, чем мы, для этого достаточно их родить, то есть берём мужчину, берём женщину, у них рождается ребёнок, и дальше всё, он будет лучше, чем мы. А кто сказал? Нет, что-то мы не наблюдаем, что поколение за поколением, мы становимся лучше.
А. Козырев:
— Потом мама ругает папу, папа ругает маму, и ребёнок, слушая критику от обоих родителей, становится лучше.
А. Жучкова:
— Отлично. (смеются) Ну вот Бахтин говорил, что вот этот синтез, он как будто живёт в таком стеклянном аквариуме, бьётся об эти стенки, а выйти не может. Гегель, приводя в пример, что он понимает под диалектикой, берёт метафору цветка, то, что вот из семечка развивается стебель, потом цветок, и вот это, мол, развитие. Но разве вам не кажется, что он ошибся в одной штуке? Потом из цветка получается семечка, и всё повторяется, то есть эта диалектика синтеза, она, конечно, описывает развитие, но только один шаг, а дальше-то как? И вот метамодерн, он предлагает такую схему, что мы эти противоположности не сливаем в третье, а мы осцилируем между ними, постигаем каждую противоположность в её экстремуме и учимся налаживать диалог.
А. Козырев:
— Это на философском языке скорее называется антиномией, то есть вот такое не снимаемое противоречие, но тем не менее, мы пребываем и при том, и при другом, и, действительно, пытаемся налаживать диалог.
А. Жучкова:
— Да, я много разных уже терминов видела: и оппозиция, и биполярность, и антиномия, и дуализм. И диалог между ними, ведь диалог это тоже бахтинский, очень важный для него принцип, и вот сегодня этот принцип начинает проявляться, поэтому, когда мы говорим о нашей литературе сегодня, то мы не можем уйти и от мифа, и от поиска Бога, это вместе, и это не противоречит, вот что интересно. То есть раньше христианская наша эпоха, скажем так, которая началась, допустим, на Западе, она отрицала язычество: всё, мы с этим боремся, но именно Россия показала пример, что это можно гармонично соединить в православии.
А. Козырев:
— Ну, та же идея матери-сырой земли, Достоевского Хромоножка говорит: «Богородица что есть? Мать-сыра земля», то есть кажется, это такое возвращение к архаике, к язычеству, но на самом деле, ведь для христианства, действительно, Богородица — это новое небо и новая земля, то есть можно перевести эти интуиции на христианский язык и найти между ними диалог, что, собственно, вокруг вот этого понятия «мать-сыра земля» и делают русские философы, и Вячеслав Иванов, и Георгий Петрович Федотов, где они пытаются христиански осмыслить вот это отношение к Богородительнице, сопоставив это с отношением крестьянина, например, к земле, которую он тоже холит, лелеет, любит, целует, кается, припадает к ней, как Раскольников в «Преступлении и наказании».
А. Жучкова:
— Да, я думаю, так все базовые концепты нашей культуры можно рассматривать.
А. Козырев:
— Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня мы говорим о искании Бога в современной русской литературе с литературным критиком, доцентом Российского университета дружбы народов, Анной Жучковой. И после небольшой паузы мы вернемся в эфир программы «Философские ночи» и продолжим нашу беседу.
А. Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН, литературный критик Анна Владимировна Жучкова. Мы говорим об искании Бога в современной русской литературе. И вот уже несколько имен прозвучали, вы их назвали, но почему-то самые известные имена вы не называете. Вот Евгений Водолазкин, о котором сейчас все говорят, и «Лавр» уже не раз представлен в качестве театральной постановки, как событие если не века, то десятилетия, как это было заявлено. Вот вы умышленно не упоминаете это имя в кругу искателей?
А. Жучкова:
— Да, у нас мало времени, хотелось поговорить о Кирилле Рябове обязательно, о Дмитрии Данилове, об Анне Долгаревой, я думаю, мы успеем. А сейчас пару слов тогда скажу о «Лавре» и о Водолазкине. Тут произошла интересная вещь совмещения, вот как мы говорим, когда одно съедает другое. Если метамодернистская эпоха предполагает диалог и это можно тогда сравнить не с гегелевским треугольником, а с ДНК, вот это вот туда-сюда, туда-сюда, то в случае Водолазкина тут произошла какая-то такая подмена, сейчас я покажу, в чём тут дело. Это очень успешный издательский проект, да простят меня любители Водолазкина, сейчас я объясню, почему: потому что Лотман однажды пошутил, он говорил: «Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными». Почему издательский проект? Потому что проза Водолазкина выдаётся за высокую литературу нравственного поиска, богоискательства, но давайте посмотрим правде в глаза: прочитав «Лавр», хороший, в общем-то, роман, лучший у Водолазкина, мы не разойдёмся с вами во мнениях, о чём этот роман, у нас не будет споров о его смыслах. А настоящая высокая литература, особенно для современников, всегда непонятна, всегда есть споры, о чём это, потому что понятна она станет лет через пятьдесят.
А. Козырев:
— Потом, меня вот гложет вопрос: почему, как в романе Водолазкина, так и в нашумевшем фильме «Остров» Павла Лунгина всё обязательно начаться должно с какой-то гадости? Вот человек что-то подленькое такое совершил, но, минуточку: потом он стал святым.
А. Жучкова:
— Ой, слушайте, какой хороший вопрос, только сегодня об этом подумала. Вообще, тут важно (сейчас я договорю, скажу главный тезис и потом вернусь к началу романа) главный тезис то, что Водолазкин, он певец не богоискательства, он певец этого самого неолиберализма, который испытывает кризис своей системы, кризис конца истории, что дальше? У него нет смыслов. Водолазкин написал роман по лекалам, по шаблонам русской традиции богоискательства, но его герой не ищет Бога. Вот смотрите, что он говорит, если мы процитируем: «Я очень боюсь, что время может кончиться». Это, извините, говорит человек верующий. А дальше ещё интереснее: «Человечество не имеет цели, цель имеет только человек. Во всём, что шире человека, есть какая-то ненадёжность». Это типичная либеральная парадигма: человек, его конкретная жизнь, которая кончится здесь и сейчас. Кроме человека нет ничего, и поэтому мы всё кладём только на то, чтобы человек жил хорошо здесь и сейчас.
А. Козырев:
— А почему? Он же, может быть, и о спасении человека думает. Вот Константин Леонтьев не либерал — консерватор, но он тоже говорит: «Я эгоист, мне важно, спасусь ли я, а спасутся ли остальные, меня мало волнует».
А. Жучкова:
— Это другой вопрос. Это вопрос по пути, как мы спасаем свою душу, потому что если он спасётся, он уже станет тем, от кого миру светло. А здесь Водолазкин, что «всё, что шире человека, это ненадёжно». Понимаете, это человек, верующий в Бога, сказать в принципе не может, и вот то, что сегодня происходит, когда люди идут и умирают за Родину добровольно, за ближнего, за Россию, за то, чтобы была жизнь вообще на планете.
А. Козырев:
— Актуализируется идея жертвы, в общем-то, христианская, глубоко христианская идея жертвы.
А. Жучкова:
— Обязательно христианская, но не у Водолазкина, потому что, как вы сказали, в начале романа, вот мне сегодня в голову эта мысль пришла, мы видим, что: если мы говорим о том, что это был совершён грех, в котором потом Арсений каялся всю жизнь, то здесь некоторое лукавство: сама влюблённость, любовь этого Арсения, которая вроде как грех, она не воспринимается греховной ни читателем, ни автором, ни, по сути, героем. Пока была любовь, всё было нормально. Как бы грех — это такое немножко внешне навязанное понятие. А потом умирает его возлюбленная, и вот тут начинается его страдание. Так перед нами что? А перед нами травма. Вот это базовое понятие литературы и культуры либеральной последних наших лет — травма, с которой герои пытаются справиться на протяжении дальнейшего романа. Так что здесь, к сожалению, мы имеем такую подмену. Читатель радуется, потому что он узнаёт: вроде бы, вот же разговор о человеке снова, о духовности, но герой не проходит вот этот путь богоискания, он только нам даёт вот эти формулы, по которым...
А. Козырев:
— Я думаю, что было бы интересно посвятить отдельную программу, но ваша позиция очень интересна, мне кажется, что она заслуживает внимания. Конечно, могут быть и другие взгляды на Водолазкина, на классика, можно сказать, современной литературы, но тем не менее о вкусах спорят, и особенно когда эти вкусы касаются каких-то представлений о духовной судьбе человека, поэтому это весьма, по-моему, правильно, что вы затрагиваете эти вопросы.
А. Жучкова:
— А можно я ещё как критик сейчас скажу, с чисто такой аналитической стороны, именно литературной: есть литература высокая, экспериментальная, как я уже сказала, она современникам часто непонятна, и Пушкин стал «нашим всем» далеко не тогда, когда он жил. Когда он жил, он был понятием только близким его друзьям, и потребовалось усилие Аполлона Григорьева, кому и принадлежит, собственно, фраза «Пушкин — это наше всё», а особенно Достоевского, который уже в 1881 году произнес речь о Пушкине, где он объяснил, что такое Пушкин для русской культуры, что он действительно всеприимчив...
А. Козырев:
— Даже не 1881, а в 1880 году, потому что в 1881 умер уже Достоевский. Это было празднование юбилея, памятник открыли в Москве опекушинский, вот в связи с этим и была прочитана Пушкинская речь.
А. Жучкова:
— Причем настолько это было необычно, что он речь прочитал, а потом вынужден был еще написать письменное объяснение: «ребята, о чем я сказал, вы не поняли? Давайте я вам еще раз расскажу». И рассказал, сформулировав, по сути, нашу русскую ментальность. Вот мы говорим: «Россия спасет мир», а чем? А очень просто сказал Достоевский, опираясь на Пушкина: «тем, что мы умеем любить все национальности, мы умеем понимать их субъектность и принимать их». И вот то, что сегодня наши лидеры политические говорят о многополярности — это выражение той же самой идеи. Мы действительно любим и немцев, и французов, и не хотим настаивать только на своем.
А. Козырев:
— И то лучшее, что есть в их культуре, потому что мы на этом мы росли, мы воспитывались, мы впитывали в себя и Гёте, и Бодлера, то есть куда мы от этого денемся? Мы от этого не отречемся.
А. Жучкова:
— Да, мы не будем заниматься критикой никакой культуры, и мы как раз умеем видеть мир системно. Вы знаете, что удивительно? Вот Грегори Бейтсон, один из лучших умов американской философии, антропологии, он кибернетик еще был, в 70-е годы сказал, что наша цивилизация западная зашла в тупик, потому что мы слишком целенаправленны, вот у нас есть цель, и мы не обращаем внимания на обратную связь, но я знаю, что нас спасет. И тут он выдал слово, которое составляет сущность русской культуры. Он говорит: «нас спасет смирение», то есть умение жить с миром, вот эта системность, этот русский космизм.
А. Козырев:
— Потрясающе. Смирение, действительно, ведь это умение жить с миром. С-мирение, то есть умение мириться, умение себя на второй план ставить, а другого как-то возвышать, может быть, в спорах, понимать его правду, но не уступать, не отдавать то, что ценно, то, что свято.
А. Жучкова:
— Да, диалог и всеприимчивость.
А. Козырев:
— Давайте продолжим разговор о каких-то положительных, с вашей точки зрения, героев современной русской литературы.
А. Жучкова:
— Кажется, что, на первый взгляд, поэзия больше обращается к христианству: Светлана Ке́кова, Елена Лапшина, Олеся Николаева, Дмитрий Данилов. Дмитрий Данилов, он пишет не в подчеркнуто православной стилистике, но он так чувствует, он так чувствует мир, он вообще по образованию поступал на философский год после армии, но, говорит, меня не взяли, мне нужна была «пятерка», потому что после армии одна «пятерка» и меня берут, но мне поставили «четыре», и я больше никуда не поступил из принципа, потому что хотел только поступать на философский, и закончил он богословские курсы. И вот у него само отношение к миру такое, как раз принимающее и очень-очень человечное, его стихотворения, кажется, просто про быт, про текущий быт, что он наблюдает в больнице: привязывают старенького дедушку к койке, потому что ему нельзя вставать, а он, чтобы сходить в туалет, не может позволить себе сделать это в памперс, и вот его привязывают, а он кричит: «Пожалуйста, не привязывайте меня, я сделаю всё, что вы хотите!» Ну, в общем, это просто бытовые сценки, но через них идёт такое тепло и свет, человеческое принятие и действительно, свет, который идёт от людей, вот Дмитрий Данилов. Анна Долгарева, прекрасный наш поэт, действительно прекрасная, потому что у неё совершенно новая поэтика и у неё новая, тоже совмещающая вроде бы разговорный привычный нам язык и вот эти высокие смыслы, и главное — ощущение этого высокого долга. Высокого долга, потому что мы сейчас, в общем-то, так, наверное, и должны жить, потому что просто убегать от каких-то проблем и закрывать на них глаза...
А. Козырев:
— Может быть, вы что-то прочитаете?
А. Жучкова:
— Прочитаю, да. Вот только я не знаю, у неё много всего прекрасного, что же лучше прочитать... Давайте я прочитаю стихотворение, которое было написано до начала СВО. Анна действительно никогда не избегала трудностей, в ковид она пошла работать в госпиталь волонтёром, до этого она была военкором на Донбассе, которого как бы для нас не существовало, а его действительно всё это время бомбили, и Анна делала репортажи из жизни людей, как они там выживают. И вот стихотворение написано в 2020, по-моему, году.
А воздух жаркий, и липкий, и так его мало.
Пропустите, говорит, пропустите, я Его мама,
но ее, конечно, не пропускают,
ад хохочет, трясется, и зубы скалит,
торжествует.
А она говорит: дайте мне хоть ручку Его неживую,
подержать за ручку, как в детстве,
я же мама, куда мне деться.
Вот она стоит, смерть перед ней, в глаза ей смеется,
Пасть у смерти вонючая, зрачки-колодцы,
Смерть идет по земле, истирает гранит и крошит,
А она отвечает:
Маленький мой, хороший,
Ты уж там, где ты есть, победи, пожалуйста, эту дрянь.
Ты вот ради этого, пожалуйста, встань,
Открывай глаза свои, неживые, незрячие.
И плачет, сильно-пресильно плачет.
Он войдет в ее дом через три дня.
Мама, скажет, мама, послушай, это и правда я,
Не плачь, родная, слушай, что тебе говорят:
Мама, я спустился в ад, и я победил ад,
Мама, я сделал все, как ты мне сказала.
Смерть, где твое жало?
А. Козырев:
— Потрясающе. Да, это действительно религиозная поэзия. Можно говорить, что она, может быть, слишком безжалостная, слишком жестокая.
А. Жучкова:
— Жестокая, рвущая душу.
А. Козырев:
— Ну, и человек привык к комфорту, ему хочется, чтобы стихи услаждали его слух, «Ананасы в шампанском», Игорь Северянин... Мы привыкли к тому, что поэзия должна где-то дополнять наши вкусовые, зрительные, музыкальные, ещё какие-то впечатления, а это взрывает вот этот комфорт.
А. Козырев:
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, литературный критик и доцент кафедры русской и зарубежной литературы РУДН Анна Жучкова. Мы говорим об искании Бога в современной русской литературе. Искание это ещё не означает, что обязательно найдём, но ведь человек так устроен, иногда он идёт какими-то переулками и едет в какие-то дальние страны, а оказывается, что Бог, Он был здесь, был рядом, Он ждал нас, что просто в храм соседний надо было прийти и припасть к иконе, но ведь человек иногда не ищет простых путей, и литература — это тоже ведь в каком-то смысле исповедальный жанр. Можно сравнить литературу с исповедью? Вот человек не решается пойти к священнику, но он пишет, и он пишет о том, что в данный момент его гнетёт, о чём он страдает, что у него болит.
А. Жучкова:
— Тут мы выходим на очень сложную, опять же, литературоведческую проблему, потому что сейчас у нас распространён жанр так называемой «литературы травмы», который превратился чисто в терапевтическое письмо, то есть люди просто выговаривают, проговаривают свои травмы, а травмой является всё: мама не так посмотрела, на горшок не так высаживали...
А. Козырев:
— Но ведь исповедь это не проговаривание травм, это к психоаналитику, это не к священнику.
А. Жучкова:
— И то, настоящий психоаналитик, он глубже берёт. Поэтому засилье этой литературы, типа Оксаны Васякиной и других, конечно, всех страшно раздражает, но, я думаю, достаточно быстро пройдёт, это гримасы такие наступающего нового, а настоящее новое, оно погружает в человеческую глубь и даже, как говорят западные теоретики метамодерна, возвращается измерение человечности, имея ввиду, что вот какие же мы люди. Мы тут разговаривали, в гостях был отец Прокопий из Соловецкого монастыря и Анна Долгарева, и мы как раз говорили: а какая же национальная идея, к чему мы можем прийти? И оба они сказали то, что единственное, наверное, что нас спасёт всех, и вообще на всех уровнях нашей жизни, вплоть до ЖКХ и всего остального, вот аварии в Подмосковье, конечно, тоже серьёзная проблема (я из Подмосковья) на всех уровнях — это внимание человека к человеку, это, как говорит Долгарева, всё, что расчеловечено, я хочу очеловечить. И отец Прокопий говорит: это просто внимание и любовь к ближнему, а ведь, по сути, что такое любовь к ближнему? Это внимание к нему. И об этом как раз Дмитрий Данилов вот вообще везде, во всех произведениях, я имею в виду, потому что он пишет и прозу, и пьесы по всей стране его идут: «Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой». Была забавная история: растяжка была на театре, что будет пьеса Данилова «Серёжа очень тупой», а театр в одном из провинциальных городов был виден из окна местного мэра, которого звали Серёжа, и он, прочитав это как-то утром, сказал, что этой пьесы в театре быть не должно, потому что «Серёжа очень тупой», и его это обидело. Ну вот и в таком духе. А вот есть у Данилова пьеса «Что вы делали вчера вечером?», построенная как такой вербатим, то есть просто как бы люди подходят к людям на улице...
А. Козырев:
— ... без чувства юмора оказался, да. Наоборот, пошёл бы на премьеру, надел бы бабочку...
А. Жучкова:
— В ложе бы сидел и хлопал.
А. Козырев:
— В ложе бы сидел, да. (смеются)
А. Жучкова:
— И эта пьеса построена так, что просто подходят как бы интервьюеры к людям на улице и спрашивают: «А что вы делали вчера вечером?» И ты читаешь и думаешь: так, а где тут пьеса, где тут сюжет? А за этим идут прямо вот человеческие судьбы, кто-то говорит: «Я не помню». Представьте, как страшно? Кто-то говорит: «Ну как, ну макароны сварил, сосиски поел», кто-то говорит «с мужем ругался», кто-то напился, кто-то говорит: «А чего ты меня спрашиваешь, сейчас я тебе в зубы дам!» И вот ты смотришь этот спектакль по этой пьесе, и ты выходишь с чувством любви к людям, потому что вот какие ни есть, но вот мы действительно их любим, и мы хотим им счастья и добра. А вот ещё прекрасный писатель Кирилл Рябов, питерский прозаик, достаточно молодой, по-моему, ему сорока ещё нет, где-то вот рядом. И он тоже пишет о человеческой боли, у него есть такой рассказ «Человеку плохо». Вообще у него есть шикарный сборник «Фашисты», это о поиске корней вот этого фашизма, ненависти, откуда она берётся в нашем обществе. И, по моему мнению, которое, в принципе, писатель одобрил, скажем так, в личной беседе, там проблема в том, что в человеке место Бога пусто. И когда место Бога пусто, то вот оно болит, как, знаете, ампутированная конечность...
А. Козырев:
— Фантомные боли, да?
А. Жучкова:
— Да, и ему плохо, это одна сторона. А другая сторона, что в это пустое место начинает вползать вовсе даже и не Бог.
А. Козырев:
— Ну, есть же поговорка «Свято место, пусто не бывает», то есть если Бог ушел, туда заползает всякая нечисть.
А. Жучкова:
— Вот про эту нечисть, про то, что человек чувствует эту боль, и как он страдает, и что заполняет это пустое место в сборнике «Фашисты» его финальный рассказ «Человеку плохо», когда герой Николай почувствовал боли в печени. И он пошёл в больницу, очень сильная боль, и ему один доктор сказал, что там камень, а другой сказал, что «у вас там бес», но и то, и то одновременно верно. Вот это и есть такая метамодернистская парадигма: ну, да там камень, но да, при этом это там бес. И второй доктор дал ему телефон священника, к которому мог бы герой обратиться, но дальше идут перипетии, и этот бес проявляет себя всё чаще в жизни героя, тот пытается ему противостоять, и в один момент всё-таки срывается, когда слышит, как кто-то там в больнице повторяет одно и то же: «мы проиграли войну, мы проиграли войну», и вот он срывается и позволяет себе наброситься на этого человека, побить его, и с этого момента бес ему завладевает.
А. Козырев:
— А молиться не пробовал?
А. Жучкова:
— Нет, потому что это обычный герой, понимаете, вот хороший человек, жену любит, маме никогда не возражает.
А. Козырев:
— Герой нашего времени.
А. Жучкова:
— Да, в светской культуре. И вот он пропускает одну бабушку вперёд в себя, вот он отсидел в очереди к врачу сорок минут, и ему нужно зайти, его уже это всё раздражает, наша больница, и тут какая-то бабушка такая медленно-медленно идёт, и он говорит ей, как хороший человек: «проходите». И она «медленно-медленно, — так пишет Рябов, — подходит к двери, медленно-медленно открывает дверь, медленно-медленно заходит». Что мы чувствуем? Мы чувствуем, что вот у этого героя нашего, который её пропустил, внутри начинает раздражение копиться, которому он даже отчёт не отдаёт, что в нём это есть. Он же сделал всё правильно, да? И в этот момент его опять боль пронизывает, то есть вот когда человек живёт неосознанно, и дальше он превращается просто уже буквально в животное, и в конце Александра, его жена, связывает его, даёт ему в зубы, он говорит: «Как ты могла меня ударить?» Говорит: «Ну слушай, если бы я тебя не ударила, то ты бы меня, наверное, убил», и вызывает священника. А дальше поразительная вещь. Я много читаю текстов литературных, я понимаю, что какие-то вещи, когда там уже понятно, о чём, я пропускаю. И вот дальше Рябов в этом произведении цитирует молитву Василия Великого об изгнании бесов, она достаточно большая, длинная, и он цитирует заклинательную молитву Василия Великого от духов нечистых. Большую её часть он цитирует, там несколько абзацев, и я читаю от слова до слова. Я трижды перечитывала этот сборник, и я каждый раз читаю от слова до слова, то есть текст не отпускает, и в конце я чувствую освобождение и очищение — я, читатель. Понятно, что герою тоже становится легче.
А. Козырев:
— Я думаю, что текст просто от молитвы и пошёл, то есть он как бы сначала увидел эту молитву, а потом придумал сюжет, который как бы... Нет?
А. Жучкова:
— Рябов — писатель очень многоуровневый, и тут у него всё так сплавляется. Просто знаете, как он интересно пишет прозу? У него каждое слово, как в поэзии, начинает играть несколькими уровнями смысла, поэтому, я думаю, здесь всё вместе. Но удивительно: вот этот эффект современной литературы направлен в большей степени на работу самого читателя. Она не даёт нам никаких ответов, мы не можем сейчас, как раньше, сказать: «вот герой нашего времени такой-то и такой-то», потому что герой нашего времени — каждый из нас. И вот этот текст Рябова, он такой тяжёлый сначала, там много гадостей из нашей жизни, но в конце ты действительно как будто выныриваешь и чувствуешь себя легче.
А. Козырев:
— А есть тексты, где герой находит Бога всё-таки, искание Бога в современной литературе? Вот человек нашёл Бога, и, я не знаю, что: стал счастлив или умер, что с ним там произошло.
А. Жучкова:
— Нет, конечно, потому что найти Бога должен читатель. Если найдёт Бога герой, то читателю будет уже нечего делать.
А. Козырев:
— Вот Раскольников, он нашёл Бога в конце «Преступления и наказания»? Мы не знаем, что он, покаялся, началась с ним какая-то умоперемена или нет?
А. Жучкова:
— Достоевский говорит, что да. Он же показывает в конце весну, а весна — это значит новая жизнь.
А. Козырев:
— Но он говорит, что это новая повесть. «Здесь начинается новая повесть», этим эпилог заканчивается, после кошмарного сна о трихинах.
А. Жучкова:
— Прекрасно он описывает вообще всю проблему нашей цивилизации.
А. Козырев:
— Завелись какие-то трихины. То есть, вообще-то говоря, если открывается какая-то перспектива надежды, то она открывается, может быть, в самых последних строчках романа, и мы точно не знаем. Вот с Сонечкой, наверное, всё нормально, то есть она как бы обрела себя, она пожертвовала в служении. А вот с Раскольниковым — не факт. То есть, наверное, вы говорите правильно, что всё-таки читатель должен найти Бога, прочитав, может быть, даже страшную книгу, та же распутинская «Прощание с Матёрой», ведь там далеко всё не исчерпывается авторской позицией. Это книга, которая работает уже завтра, сколько лет прошло, она работает и по-новому звучит в новой исторической реальности, что интересно.
А. Жучкова:
— Что и характеризует настоящую классику.
А. Козырев:
— Да, настоящую литературу.
А. Жучкова:
— А «Лавр» Водолазкина, он по-новому звучать не сможет, тут уже всё прочитано и всё понято. И так забавны отзывы читателей где-нибудь в интернете на «Лавра»: «Всё понятно, всё ясно, очень люблю серьёзную настоящую литературу». Ну, это звучит просто абсурдно, то есть так не бывает. А вот, например, противоположный пример — Дмитрий Данилов, вроде бы достаточно раскрученный автор, его любит вполне либеральная тусовка, потому что он между всем этим, он не углубляется. И вот у него выходит роман «Саша, привет!» — и ни один обозреватель за два года не написал ответ, о чём же этот роман, потому что, чтобы ответить на этот вопрос, тебе нужно раскрыть себя, а роман этот о смерти. Абсурдный как бы сюжет, что преподаватель, гуманитарий, он преподает что-то типа философии, культуры, его по новым законам, которые считают, что связь с несовершеннолетними распространяется на несовершеннолетних теперь до 21 года. Вот его за связь с 20-летней девушкой сажают в тюрьму и должны расстрелять. Но условие такое, что он не знает, когда это произойдёт, просто каждое утро он идёт по коридору...
А. Козырев:
— По новым законам, которые в романе, да?
А. Жучкова:
— Да, конечно, мы не будем никого пугать, такое у нас будущее, у нас самые жёсткие статьи будут в Уголовном кодексе за коррупцию и за связи, за сексуальное поведение такое, по Данилову.
А. Козырев:
— Ну, неплохо.
А. Жучкова:
— Да, Данилов вообще умён. И каждый день его утром проводят по коридору, в котором наверху висит пулемёт такой, выглядящий как это: «в белом венчике из роз», такой вот, там шесть пулевых отверстий, он белый, вот он висит, и он смотрит ему в спину, и герой проходит по коридору и выходит в прекрасный сад, чуть ли не райский сад, и каждый день он там гуляет, и даже нет особого забора, забор на уровне колен, он может перешагнуть и пойти в Москву дальше гулять, но его вернут. Вот такое лояльное место заключения, ему дают интернет, он может заказывать себе еду, он может звонить родным, просто вот каждый день он проходит утром по этому коридору. И что вы думаете? Проблема романа в том, что он перестаёт вообще жить, чем-то заниматься. Вот эта вот идея смерти, которая может быть прямо завтра, она лишает его всего. Вот я филолог, я живу у себя дома в кабинете, я, по сути, живу так, как этот заключённый, я читаю книжки, я пишу в интернете, я редко-редко выхожу в мир кого-то посмотреть вживую, так почему бы ему не жить оставшуюся жизнь, принося, в конце концов, обществу пользу, читая, занимаясь своей работой? Он не может. Смерть, приближенная настолько близко к человеку, лишает его воли, вот это и есть пока главная тема наших авторов, ищущих Бога: Долгарева, Рябов, Данилов, Алла Горбунова — это тема смерти, потому что переход от такой либеральной парадигмы, которая была сосредоточена только на физической человеческой жизни, к парадигме христианской, она, мне кажется, заключается как раз в смерти, как мы к ней относимся.
А. Козырев:
— Но всё равно, мне кажется, что здесь не нужно упрощать это отношение к смерти, не нужно превращать смерть во что-то естественное и неизбежное, потому что, как иногда слышишь: «ну, всё равно же мы умрём», поэтому...
А. Жучкова:
— А это как раз первая парадигма, когда жизнь воспринимается как отрезок. Почему почти вся литература европейская и философия — это про попытку объяснить себе ужас смерти, как это преодолеть? А у нас другой подход получается, христианский по-настоящему, потому что мы не потеряли эту связь с христианством.
А. Козырев:
— То есть мы должны говорить: всё равно мы не умрём.
А. Жучкова:
— А мы не умрём, потому что смерть — это такой момент перехода. И вот Анна Долгарева, когда она была на «Голубом огоньке» в прошлом году, когда дали ей слово, она сказала единственное: «Смерти нет».
А. Козырев:
— Как в советской песне пелось: «Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется смерть». Мы переделаем здесь советскую песню немножко, потому что, вообще-то говоря, христианское отношение к жизни не предполагает вечную смерть, оно предполагает вечную жизнь.
А. Жучкова:
— Очень хорошо.
А. Козырев:
— Мне кажется, что мы интересную сегодня тему подняли благодаря нашим писателям, новым писателям, имена которых, может быть, наши радиослушатели слышали, а многие, может быть, и не слышали, впервые сегодня услышали. И вот философия литературоцентрична, она выражает себя по-разному, она выражает, конечно, и в умных книгах, и в докторских диссертациях, но для массового сознания всё-таки она выражает себя в литературе. И литература — это очень чуткий барометр того, что происходит с нами, того, что происходит с обществом, того, что будет. И я очень благодарен нашей сегодняшней гостье, Анне Владимировне Жучковой, за этот разговор об искании Бога в современной русской литературе. Надеюсь, мы ещё встретимся и побеседуем в нашем уютном эфире «Философских ночей».
А. Жучкова:
— Спасибо, Алексей Павлович. Спасибо за внимание, дорогие слушатели.
А. Козырев:
— До свидания.
А. Жучкова:
— До свидания.
Все выпуски программы Философские ночи
Три монахини возрождают монастырь, давайте им поможем

В древнем городе Юрьев-Польский Владимирской области есть Петропавловский женский монастырь, основанный в 1874 году. Когда-то он считался духовным центром и украшением города: с тремя церквями, высокой колокольней, школой для девочек и большим яблоневым садом. В XX веке монастырь разорили и от прежнего великолепия почти ничего не осталось... Он фактически превратилась в руины.
Но сегодня его история продолжается. С 2015 года в Петропавловской обители живут, молятся и трудятся несколько монахинь. Их любовь и забота подарила монастырю вторую жизнь. Понемногу он возрождается. «Люди нам всегда помогают, чем могут, — говорит игуменья Серафима, — Летом, например, снабжают дарами со своего огорода и косят траву, зимой чистят снег — в общем заботятся о нас, а мы за них молимся».
За 10 лет троим монахиням при участии добрых людей удалось сделать многое: огородить территорию, восстановить одну из церквей в честь Вознесения Господня, построить корпус для сестёр и сделать проект реставрации колокольни. В скором времени в монастыре откроется приют и духовное училище для девочек.

Петропавловский монастырь постепенно возвращается к жизни, но ему всё ещё нужна поддержка. Сегодня оплата коммунальных услуг — одна из насущных и трудных задач для сестёр. И если вы хотите в этом помочь, переходите на сайт фонда «Мои друзья», где открыт сбор для Петропавловского женского монастыря во Владимирской области. Собранная сумма обеспечит обитель теплом и светом на ближайшие полгода и даст возможность сёстрам спокойно молиться, трудиться и продолжать дело возрождения.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Судьба М.М. Бахтина». Андрей Тесля

Гостем программы «Светлый вечер был кандидат философских наук, научный руководитель Научно-образовательного «Центра исследований русской мысли» Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (г. Калининград) Андрей Тесля.
Разговор шел о судьбе известного русского философа, христианского мыслителя Михаила Михайловича Бахтина, о его философских концепциях и о жизненном пути в Советском Союзе от ссылки на Соловки до возвращения в научное сообщество.
Этой программой мы открываем цикл бесед, приуроченных к 130-летию со дня рождения М.М. Бахтина.
Ведущий: Константин Мацан
Все выпуски программы Светлый вечер
«Возрождение русской деревни». Мария Большакова

Гостьей программы «Светлый вечер» была заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению российских традиционных культурно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области, председатель Экспертного совета Конкурса Грантов Мэра Москвы Мария Большакова.
Разговор шел о том, как сегодня можно возрождать и развивать жизнь в малых городах и деревнях России и почему это важно. Мария поделилась личным опытом создания проектов, привлекающих внимание к сельским территориям и помогающих делать жизнь вне больших городов более комфортной.
Ведущая: Анна Леонтьева
Все выпуски программы Светлый вечер













