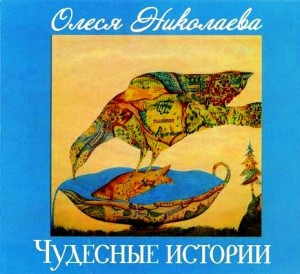 «…Вообще эти уполномоченные по делам религии в советское время требуют своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника и прихода. Они имели власть или вовсе не дать иерею Божиему регистрацию, или ее отобрать, и тогда тот оставался без храма, меж небом и землей, или просто – шантажировали его этой угрозой. Но, как правило, многоопытные священники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как называли их в церковном народе, “Упал, намоченный”. А отец Анатолий из соседней епархии, многочадный деревенский священник, духовный сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от своего уполномоченного, в конце концов, обратил его в свою веру».
«…Вообще эти уполномоченные по делам религии в советское время требуют своего отдельного рассказа. Именно от них порой зависела судьба священника и прихода. Они имели власть или вовсе не дать иерею Божиему регистрацию, или ее отобрать, и тогда тот оставался без храма, меж небом и землей, или просто – шантажировали его этой угрозой. Но, как правило, многоопытные священники, знатоки человеческих душ, умели с ними обращаться: те были падки на деньги, выпивку, жадные, сребролюбивые, и, как правило, их просто подкупали и подпаивали. Как называли их в церковном народе, “Упал, намоченный”. А отец Анатолий из соседней епархии, многочадный деревенский священник, духовный сын архимандрита Серафима, тоже много чего претерпевавший от своего уполномоченного, в конце концов, обратил его в свою веру».
Это был голос писательницы Олеси Николаевой, она читала начало рассказа «Новый Никодим», из книги «Чудесные истории». История об уполномоченном также включена и в сборник «“Небесный огонь”», изданный Сретенским монастырем в полюбившейся читателю серии, начатой книжкой архимандрита Тихона (Шевкунова) «“Несвятые святые” и другие рассказы».
Литературная традиция подобных историй, писательская и читательская тяга к ним никогда не иссякали в нашем народе, ищущем – поддержки в своей повседневной духовной жизни с одной стороны, и насущной потребности о размышлении о бытии Божием – с другой. В лучшие свои минуты – тихие, смиренные, созерцательные мгновения, – мы жаждем примера и урока, и вот она, матушка Олеся, книгой своей – по слову того же отца Тихона, научает нас «любоваться нашими замечательными братьями и сестрами». И – дерзновенно добавлю я от себя, отважно рассказывает нам о нашем «всехнем», как иногда говорят малые дети – «маловерии». Своей книгой она настойчиво напоминает нам и о том, что вся жизнь верующего человека претворяется в развернутое непрестанное чудо, «в чтение удивительных словес, где ему, конечно, понятно далеко не всё, а только отчасти, чуть-чуть, едва-едва…»
Возвращаясь к теме маловерия или к благословенной возможности, взглянуть на этот мир и себя самого, пусть и «сквозь мутное, – говоря словами апостола – стекло», откроешь иной раз книгу Николаевой, преисполняясь радости и удивления. Вот, взять хотя бы того же уполномоченного, о котором читалось выше, хоть это и крайний случай (но ведь и его мы можем проецировать на свою многогрешную жизнь).
Уж он-то, не верящий ни во что, кроме своего, прости Господи, партбилета (да и то сомневаюсь), руководимый в своей «ответственной – в кавычках – работе» исключительно наущениями нечистого (например, издевательская пропаганда так называемого «здорового образа жизни» – и это о попытке административного запрета, представьте, на принятие Святых Христовых Тайн!)…
…Даже он, когда суета отступила, а смерть приблизилась, – куда он побежал?
В церковь пошел, к своему «подопечному», причащающемуся из той же чаши, к которой еженедельно подходят как физически здоровые люди, так и инфицированные разными хворями больные. Пошел, как миленький.
«А через полгода появляется у него уполномоченный, совсем желтый, скукоженный, засохший, как полевая трава. Смотрит на цветущего священника – красавца и здоровяка мутным взором:
– Рак, – говорит, – у меня нашли. Онкологию. Покрестите меня, отец Анатолий. И потом дайте мне из этой вашей чаши целебной, из которой сами вы причащаетесь. Только в тайне. Партийный я. Нельзя мне.
Покрестил его отец Анатолий, и сделался уполномоченный у него тайным христианином. Вроде евангельского Никодима. Тот ведь тоже членом синедриона был. А сам он по ночам приходил к Иисусу, и когда настал час, собственноручно погребал его, обернув в пелены, умащенные благовониями – алоэ и смирной…»
Вспоминаю, как обрадовался я за этого несчастного «упалномоченного», прочитав «Нового Никодима» впервые. Обрадовался и стал гадать – что же стало с ним дальше: сколько же ему дал Господь времени пожить в новом качестве, да каким он стал человеком… И оборвал себя на гадании, вспомнив, что теперь он – брат мне, тот, чьего имени я, по счастью, не знаю. И – крепко задумался о собственных духовных немощах, о бесконечной Господней любви, – как надеюсь, и любой читатель этих «Чудесных историй».
23 декабря. О почитании святого Николая Чудотворца на Руси

19 декабря, в День памяти святителя Николая Чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святителя Николая Мирликийского в московском районе Щукино.
На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о почитании святого Николая Чудотворца на Руси.
Все выпуски программы Актуальная тема
23 декабря. Об оружии против козней

В 6-й главе Послания апостола Павла к эфесянам есть слова: «Облекитесь во всеоружии Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских».
Об оружии против козней — священник Алексий Дудин.
Все выпуски программы Актуальная тема
23 декабря. О том, как не опоздать в Царствие Небесное

В 4-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Господе: «Будем опасаться, чтобы, когда еще остаётся обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим».
О том, как не опоздать в Царствие Небесное, — священник Николай Дубинин.
Все выпуски программы Актуальная тема













