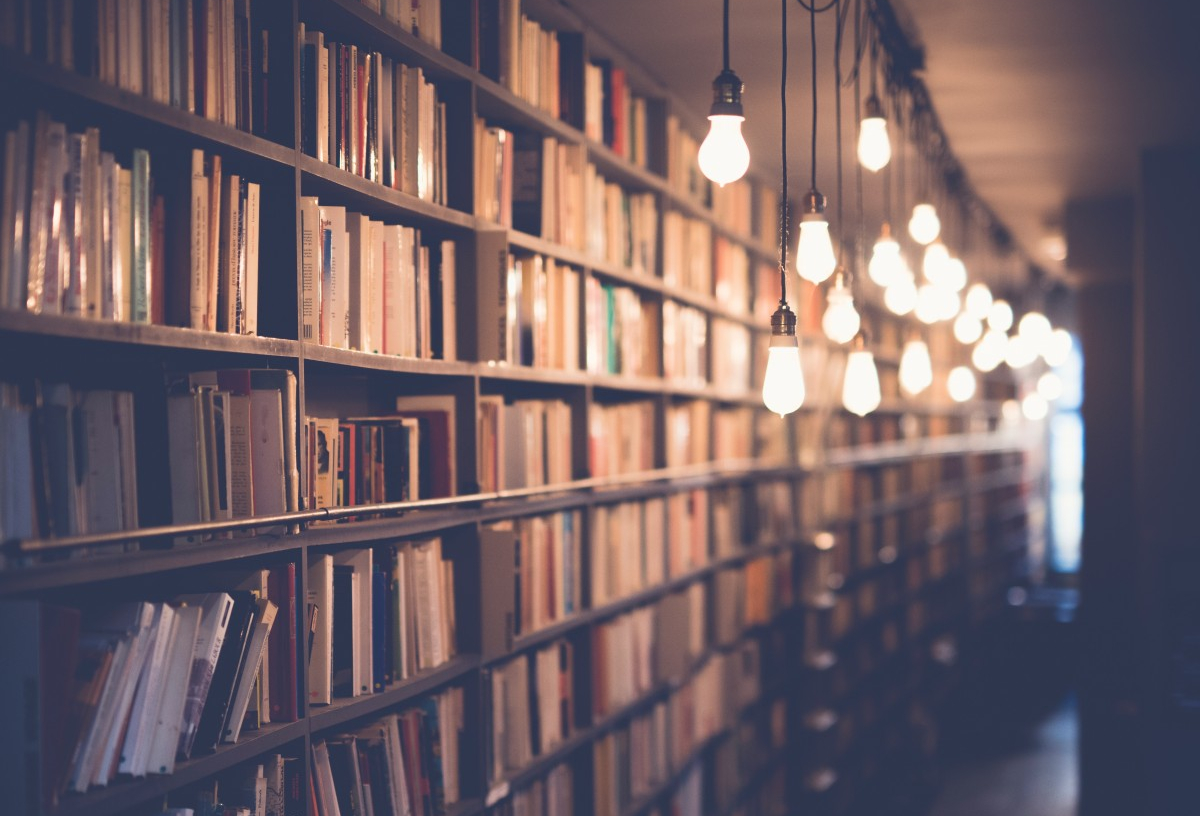
Гость программы — Василий Элинархович Молодяков, доктор политических наук, историк, профессор университета Такусёку (Токио, Япония), исследователь русской и японской культуры.
Ведущий: Алексей Козырев
Алексей Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Шарле Моррасе и его времени. У нас сегодня в гостях доктор политических наук, профессор университета Такусёку из Японии, известный исследователь русской и японской культуры Василий Элинархович Молодяков. Здравствуй, Василий.
Василий Элинархович Молодяков:
— Здравствуй, Алексей. Дорогие радиослушатели, мы с Алексеем Павловичем можем так называть друг друга, на «ты» и по имени, потому что мы давние друзья еще со школьных лет. Я очень благодарен Алексею за представившуюся сегодня возможность выступить перед вами и рассказать о том, чем я занимаюсь последние годы.
Алексей Козырев:
— Еще мы вместе ходили на Пасху и читали потом «Светлое воскресение».
Василий Элинархович Молодяков:
— Николая Васильевича Гоголя.
Алексей Козырев:
— Николая Васильевича Гоголя, да.
Василий Элинархович Молодяков:
— Незабываемое впечатление.
Алексей Козырев:
— Такое было в нашей юности, еще советские романтические воспоминания.
Василий Элинархович Молодяков:
— Да, как раз излет советской эпохи.
Алексей Козырев:
— Восьмидесятых годов. Так получилось тогда, что я поступил на философский факультет в московский университет, а ты стал студентом института стран Азии и Африки, выучил японский язык и потом стал работать в Японии. И уже много лет...
Василий Элинархович Молодяков:
— С 1995 года я там живу и работаю.
Алексей Козырев:
— Но, тем не менее, часто бываешь в России.
Василий Элинархович Молодяков:
— К сожалению не так часто как хотелось бы из-за нынешней прискорбной ситуации.
Алексей Козырев:
— Ну, понятно, ковид. Но это, я надеюсь, как-то пройдет. А вот книги в основном выходят здесь.
Василий Элинархович Молодяков:
— Конечно, конечно. Мой читатель и слушатель, моя аудитория в России, безусловно.
Алексей Козырев:
— Книги самых разных тематических сюжетов: это и серебряный век, и академическая биография Валерия Яковлевича Брюсова, переизданная и изданная в Пушкинском доме и в ЖЗЛ, и книга о символистах, которая вышла тоже в серии Жизнь Замечательных Людей. Так что, наверное, десятки сюжетов, о которых мы сегодня могли бы поговорить в студии.
Василий Элинархович Молодяков:
— Может быть, еще и поговорим.
Алексей Козырев:
— Может быть, еще и поговорим в будущем, да. Но вот предмет твоего интереса последних лет несколько неожиданный для меня даже — это французские правые. Мы в школе учили французский язык.
Василий Элинархович Молодяков:
— И он пригодился.
Алексей Козырев:
— И он пригодился, да. Французские консерваторы, французские традиционалисты.
Василий Элинархович Молодяков:
— Я бы сказал еще реакционеры, не побоюсь этого слова.
Алексей Козырев:
— Жуткое слово. У Садовского Бориса была маленькая такая вещица «Святая реакция».
Василий Элинархович Молодяков:
— «Святая реакция», именно.
Алексей Козырев:
— Поэтому мы не будем сейчас здесь под этим подписываться, но можем себе представить, особенно если учесть, что прошлый наш эфир был посвящен Константину Победоносцеву...
Василий Элинархович Молодяков:
— Прекрасно.
Алексей Козырев:
— Что реакция это далеко не всегда плохо.
Василий Элинархович Молодяков:
— Реакция — это реакция, когда на что-то реагируешь.
Алексей Козырев:
— Иногда реагируют на плохую погоду, берут с собой зонт и надевают калоши.
Василий Элинархович Молодяков:
— Именно.
Алексей Козырев:
— Совершенно бесполезен в этом случае либерализм.
Василий Элинархович Молодяков:
— И резонерства всяческие.
Алексей Козырев:
— И резонерство, не надо зонт брать, не надо калоши надевать. Но, в общем, не надо — простудишься, заболеешь и умрешь.
Василий Элинархович Молодяков:
— Пойдем босиком, как говорили в годы нашего детства, назло мамке отморожу уши.
Алексей Козырев:
— Да, да, да, абсолютно. И это действительно очень интересные имена людей, которые вступили в культуру в начале века, да?
Василий Элинархович Молодяков:
— В конце 19-го, это как раз рубеж эпох.
Алексей Козырев:
— Многие из них пережили Первую мировую войну, достигли Второй мировой войны, участвовали как-то в реакции на вторжение Гитлера во Францию. И по разные стороны баррикад, насколько я знаю.
Василий Элинархович Молодяков:
— Ну, мои герои-то все оказались на одной стороне баррикады, я говорю сейчас о монархическом движении Аксьон франсез — Французское действие — и его вожде и идеологи Шарле Моррасе. Он был всегда по одну сторону баррикады, он был против немцев. Он всю свою долгую жизнь, а он родился в 1868 году, в один год с Максимом Горьким и Полем Клоделем, своим непримиримым оппонентом, и умер в 1952 году, за полгода до Сталина.
Алексей Козырев:
— Родился, кстати, на два года раньше Ленина, если так посмотреть.
Василий Элинархович Молодяков:
— Да, да, родился на два года раньше Ленина, умер за полгода до смерти Сталина. И всю свою жизнь Моррас люто ненавидел немцев, потому что, если у этого человека была одна отрицательная сжигающая страсть — это была ненависть к Германии, к германизму, к немцам, вообще ко всему германскому, потому что он считал Германию, как он говорил, наследственным врагом Франции. И это, собственно, первое и главное, что надо помнить о Шарле Моррасе.
Алексей Козырев:
— А почему ты заинтересовался, это библиофильский интерес был в начале, у истока?
Василий Элинархович Молодяков:
— Это интерес был очень сложный. Меня давно очень интересовал феномен французского коллаборационизма, я этой теме вообще касаться не буду, потому что ей стоит посвятить десять таких эфиров, но возможно не в этой студии. И звучала фамилия Шарля Морраса. Вообще на Шарля Морраса повесили клеймо коллаборанта в 1945 году, французский суд приговорил его к пожизненному заключению и лишению политических прав за сотрудничество с оккупантами и подрыв морального духа французского народа. Более нелепого...
Алексей Козырев:
— Как может быть коллаборантом человек, который ненавидел германский дух.
Василий Элинархович Молодяков:
— Ну, в 45-м году могло быть все, что угодно. Более нелепого обвинения в адрес Морраса представить невозможно, его можно много в чем обвинить, сразу хочу сказать, что я не апологет Морраса ни в коей мере, но в чем он точно не был виноват никак, это в сотрудничестве с коллаборантами и в подрыве морального духа французской армии и народа, потому что он был не только монархист, он был фанатичный националист, как говорится ультранационалист, патриот, шовинист, ксенофоб, германофоб.
Алексей Козырев:
— Ну, вообще-то говоря, монархист во Франции в 20-м веке это не монархист в России в 20-м веке, потому что монархия во Франции пресеклась значительно раньше в результате французской революции.
Василий Элинархович Молодяков:
— Моррас был постоянным оппонентом республиканского строя, причем он открыто призывал к свержению существующего строя, призывал к восстановлению монархии, как он говорил, всеми способами, включая законные. И все-таки с 1908 по 1944 год, тридцать шесть лет и несколько месяцев на страницах ежедневной газеты «Аксьон Францез», которая называлась так же как и возглавляемое им движение, он, что называется ежедневно, говорил об этом в своих передовых статьях, за исключением двух периодов. Когда он поддерживал существующее французское правительство, четыре года Первой мировой войны 1914 и 1918-й, период так называемого священного единения. И период с июля 1940-го по август 1944-го, когда он поддерживал маршала Петена, видя в нем единственную силу, которая может противостоять немцам.
Алексей Козырев:
— Ты две книжки написал о Моррасе. Одна из них «Моррас и Аксьон Францез» вышла в университете Дмитрия Пожарского.
Василий Элинархович Молодяков:
— Написал я три, одна еще не вышла.
Алексей Козырев:
— Вышло две книжки о Моррасе.
Василий Элинархович Молодяков:
— Первая называлась «Шарль Моррас и Аксьон Францез против Германии от Кайзера до Гитлера», то есть период от дела Дрейфуса 1890-х годов до прихода Гитлера к власти в 33-м году. Она вышла два года назад в издательстве Дмитрия Пожарского, год назад вышло ее продолжение под названием «Шарль Моррас и Аксьон Францез против Третьего Рейха». Ну, тут, я думаю, все понятно. Хронологические границы здесь 32-й, не 33-й, а именно 32-й, потому что президентские выборы в Германии и успех нацистов на выборах в Рейхстаг в 32-м году, то есть когда стало ясно, что нацисты могут прийти к власти в Германии. И собственно говоря, Моррас и его единомышленники были в числе первых французов, которые сказали, что а) это возможно и б) это очень опасно для Франции. И тут я, кстати, позволю себе сразу одну реплику. Вообще в результате прихода Гитлера к власти отношение к Германии во внешнем мире очень сильно изменилось. У кого-то оно изменилось к лучшему, в целом оно изменилось к худшему. В том числе во Франции. Так вот во Франции, пожалуй, была единственная сила, у которой отношение к Германии к худшему не изменилось. Это было движение Аксьон Францез и, соответственно, читатели одноименной газеты. Почему? Что они приветствовали, может быть, Гитлера или как-то его поддерживали? Ничего подобного. Просто их отношение к Германии было настолько плохим, что хуже оно стать уже не могло.
Алексей Козырев:
— А что их пугало в Германии? Империализм, милитаризм?
Василий Элинархович Молодяков:
— Все. Это трудно...
Алексей Козырев:
— Протестантизм?
Василий Элинархович Молодяков:
— Все, все вместе, то, что Моррас называл германизм.
Алексей Козырев:
— Кстати, прежде чем мы перейдем к Германии, давай зададим себе вопрос. Националист, монархист, наверное, истый католик?
Василий Элинархович Молодяков:
— Ха, и вот тут-то начинается самое интересное. Пожалуй, одна из главных тем, связанных с Аксьон Францез, которой уделяют основное внимание французские авторы — причем, я беру здесь не только историков и религиоведов, но эссеистов, писателей — это отношения даже не столько Аксьон Францез с Католической церковью, потому что Аксьон Францез всегда поддерживала Католическую церковь безоговорочно, тут никаких колебаний не могло быть, но это личные отношения Шарля Морраса с Католической церковью и католической верой, каковые надо различать. Потому что сам Шарль Моррас в частной жизни был агностиком, он не был атеистом, о чем неоднократно напоминал, он был агностиком и при этом идейным и политическим...
Алексей Козырев:
— То есть агностик — это человек, который не знает, есть Бог или нет, но воздерживается от суждений.
Василий Элинархович Молодяков:
— Да. Моррас в четырнадцать лет под воздействием определенных обстоятельств личной жизни, о которых я еще скажу, утратил личную веру. Но это было, именно это я хочу подчеркнуть, это было особенностью личного духовного пути молодого человека, потом уже и не очень молодого по имени Шарль Моррас, это никак не отражалось на позиции Морраса как политика, как политического публициста, как философа, потому что здесь его позиция была совершенно однозначной. А собственно говоря, я должен сказать, что все остальные ведущие деятели движения Аксьон Францез, например Лион Доде, сын Альфонса Доде, знаменитого писателя. Кстати, Лиона Доде называли лучшим произведением Альфонса Доде. Это были верующие католики, и можно сказать, истые католики. Моррас, кстати сказать, свои агностические убеждения или атеистические убеждения всегда держал при себе. Он в молодости опубликовал несколько сказок в духе агностицизма, потом он исключил их из переиздания своих книг и говорил, что моих читателей из числа добрых католиков я прошу, пожалуйста, не читайте эти мои произведения. Согласитесь, авторы не часто так говорят.
Алексей Козырев:
— Если мы вспомним каких-то более известных французских литераторов этой эпохи, например, Мориса Метерлинка, то он тоже не был верующим католиком, хотя в его произведениях мы можем найти упоминания о Рождестве и какие-то притчи христианские.
Василий Элинархович Молодяков:
— У Морраса, кстати, был особый личный культ Божией Матери, что вообще для очень многих французских литераторов характерно. Моррас не был атеистом, то есть человеком, не верящим в Бога, отрицающим существование Бога. Моррас не был антихристианином и проповедником язычества, в чем его обвиняли. Хотя он действительно был очарован миром античной Греции, куда он попал в 1896 году, кстати, довольно забавно, в качестве спортивного журналиста он поехал на Первые Олимпийские игры. Просто скажем, если для многих учеников и последователей Морраса, вроде Анри Массиса, так сказать, западная цивилизация это Рим, это Римское государственное наследие плюс Католическое церковь, для Морраса это, конечно, дополнялось наследием античной Греции во всем ее богатстве.
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор университета Такусёку, доктор политических наук, историк Василий Молодяков. Мы говорим сегодня о Шарле Моррасе, французском националисте, активном участнике движения Аксьон Францез. В твоей книжке есть такая фраза, что кюре какой-то сказал: французы хорошие католики, но плохие христиане. Что это значит? Почему можно быть преданным Католической церкви и считающим, что она играет большую роль в истории, но при этом лично быть неверующим человеком. Что это? Может быть, какое-то пленение классической культурой, вера в то, что подлинные корни Европы это античные Греция и Рим, а католицизм хорош потому, что он впитал в себя римский дух, латинский дух власти, дисциплины, права римского? Просто если вот такой более широкий диагноз попытаться поставить?
Василий Элинархович Молодяков:
— В случае Морраса надо разделять, как говорили в годы нашей молодости, общественное и личное. То есть общественно Моррас был монархистом, реакционером, сторонником порядка. Кстати сказать, это интересный момент, он был противником централизованной власти, и одной из его главных претензий к французской революции, как он говорил: революция, которую они осмеливаются называть французской и которая является великой только по масштабу причиненных ею бедствий — и революцию и Наполеона, дитя революции, он осуждал именно за централизацию власти. А тут еще важный момент, он уроженец Прованса и он был еще видным деятелем провансальским. Он был французом и провансальцем, у него была такая двойная самоидентификация, причем одно не противоречило другому. Моррас понимал, что история французской монархии как история сорока королей, создавших Францию, неотделима от истории Католической церкви, что для Морраса главной святыней было не христианство, не Западный мир, для Морраса главной святыней была Франция. Вот это Диес Франс — Богиня Франция, как он говорил. Далеко, кстати не все даже его ближайшие единомышленники разделяли эту веру. Допустим, Анри Массис, его ученик и друг был как раз католикоцентричным человеком.
Алексей Козырев:
— Но мы в православии тоже встречаем, когда человек не в Христа верит, а в то, что православие это русская вера.
Василий Элинархович Молодяков:
— Бердяев, кстати, сравнивал Морраса с великим инквизитором Достоевского. Вот тут очень важный момент, что есть Католическая церковь как одна из основ, не единственная основа, или один из столпов, если угодно, Западной цивилизации. Есть Католическая церковь, неотделимая от всей истории Франции, есть Католическая церковь, неотделимая от французской монархии. Есть Католическая церковь, в которой заложен весь этический кодекс француза. Есть Католическая церковь, которая противостоит антифранцузским явлениям, а как Моррас говорил: наши враги это четыре государства в государстве, это протестанты, масоны, евреи и метеки. Слово метек на современный русский язык уместнее всего перевести выражением «понаехали тут».
Алексей Козырев:
— Слушай, это просто Иван Ильин, это «Наши задачи». Там с этим списком очень все хорошо пересекается.
Василий Элинархович Молодяков:
— Вообще меня неоднократно спрашивали, и в разных дискуссиях поднимался вопрос, а с кем Морраса можно сопоставить из русских мыслителей или русских деятелей? В разных контекстах называли — кстати, Ильина я в данном контексте слышу впервые — называли Суворина, в силу газеты «Новое время». Сравнивая, возможно, роль «Нового времени» и «Аксьон Францез», аналогия очень неверная. Сравнивали Морраса с Победоносцевым, тоже неверная аналогия, потому что Константин Петрович был как раз одним из столпов режима, а Моррас был его противником. Сравнивали Морраса с Солженицыным. Ну, если бы представить, что у Александра Исаевича на протяжении тридцати шести лет была бы ежедневная газета с национальным тиражом.
Алексей Козырев:
— Нет, это верное направление, надо просто внимательно почитать «Наши задачи».
Василий Элинархович Молодяков:
— Направление, действительно, куда-то сюда. Так вот, я возвращаюсь, что для Морраса есть...
Алексей Козырев:
— Меня, конечно, многие наши радиослушатели осудят. Они скажут, что Ильин был истинно верующий, православный человек. Но, во-первых, где тот барометр, с помощью которого мы должны измерить истинную веру, и, во-вторых, даже в начале 20-х годов Ильин в частных разговорах говорил: «Что, вы действительно думаете, что Христос воскрес?» То есть у него были серьезные сомнения в вере, и его риторика, в последних его работах очень православная, совсем не обязательно значила, что в глубине души у него не было достаточно серьезных сомнений.
Василий Элинархович Молодяков:
— Моррас как раз четко отделял одно от другого, что как говорится, есть идейно-политическая проповедь писателя Шарля Морраса, лидера и идеолога такого-то движения, который понимал, что он является фигурой национального масштаба и осознавал свою ответственность за каждое свое слово, которое имело очень широкое...
Алексей Козырев:
— А он действительно был лидером национального масштаба?
Василий Элинархович Молодяков:
— Да. Ну, как, он был идеологом. И, кстати сказать, коль скоро мы говорим о его агностицизме, необходимо упомянуть один ключевой факт. В возрасте четырнадцати лет, когда он учился в частных католических школах, в частном католическом лицее в Экс-ан-Провансе, а он был, кстати сказать, из очень набожной католической семьи, он начал глохнуть. Это была страшная трагедия, потому что она лишила его главной детской мечты, он хотел стать морским офицером. Как он потом, смеясь, любил говорить, чтобы с немцами повоевать, чтобы топить немецкие корабли. И это была большая личная трагедия, большую часть жизни Моррас прожил по нашей терминологии слабослышащим. То есть он оглох окончательно примерно в 45-м году, когда — а ему было уже 78 лет, когда он начал отбывать свой тюремный срок — он не слышал вообще, общаясь с ним, ему вопросы писали на бумажке. Он даже еще во время своего судебного процесса в начале 45-го года еще немного слышал. При нем был сурдопереводчик, который стоял к нему лицом к лицу — есть фотография, это документально известно — и если он ему негромко четко говорил лицом к лицу, то Моррас это улавливал. Именно это стало началом его большого духовного кризиса, но Моррас дебютировал в семнадцать лет рецензиями именно в католической прессе, никто не верил, что эти основательные солидные ученые рецензии пишет семнадцатилетний юноша, закончивший провинциальный лицей и не получивший высшего образования, а Моррас не получил его из-за глухоты. Но Моррас эту свою личную трагедию спрятал, и она выплеснулась только в его философских сказках в книге «Райская дорога» в 95-м году. Это именно та книга, которая потом послужила поводом к его осуждению Ватиканом. И именно та книга, из которой при переиздании 21-го года он исключил все тексты, в которых, условно говоря, в кавычках, агностические или языческие тексты. Он сам исключил эти тексты и говорил, что добрым католикам это читать не надо. И вообще, как говорится то, что творится в душе у частного лица Шарля Морраса, это не касается тех людей, которые читают тексты публичного человека Шарля Морраса, а позиция публичного человека Шарля Морраса в отношении религии и Церкви была безупречной.
Алексей Козырев:
— Да, очень интересная ситуация, когда человек уже в эту эпоху представляет собой несколько личин.
Василий Элинархович Молодяков:
— Там была потрясающая история, когда папа Пий X, которого Моррас очень почитал. Это Папа, который скончался в 1914 году. Он принимал группу французских католиков, в числе которых была матушка Морраса, он благословил ее, попросил передать благословение сыну. Я не знаю, правда, насколько корректно я тут выражаюсь. И потом в разговоре с одним из своих приближенных он назвал Морраса прекрасным защитником веры. «Может быть, прекрасным защитником Церкви, святейший отец», — переспросил его кто-то из кардиналов. На что его святейшество Пий X сказал: «Нет, прекрасным защитником веры». А Пий X знал, что Моррас является личным агностиком. Представляете, человека, который лично является агностиком, высший авторитет Римской католической церкви называет прекрасным защитником веры и подчеркивает, что он не оговорился, сказал именно то, что хотел.
Алексей Козырев:
— Это опять-таки требует какого-то глубокого понимания, что происходит в Католической церкви.
Василий Элинархович Молодяков:
— Политика. Там как раз вмешалась политика, будем называть вещи своими именами. Потому что, конечно, французский католицизм начала 20-го века был очень политизированный.
Алексей Козырев:
— Даже несмотря на то, что он хотел потопить немецкие корабли, надо сказать, что в период Первой мировой войны германофобия во Франции была куда более сильная, чем даже в России. Наш Эрн какой-нибудь «От Канта к Круппу» это были отзвуки.
Василий Элинархович Молодяков:
— А «От Канта к Круппу» придумал не Эрн, а Лион Доде.
Алексей Козырев:
— Ну, вот. А мы считаем, что это ноу-хау русской философии.
Василий Элинархович Молодяков:
— Ноу-хау Аксьон Францез.
Алексей Козырев:
— Вот. Все это были какие-то зады той ненависти, буквально, ожесточенной ненависти, которая овладевала французами в период Первой мировой войны.
Василий Элинархович Молодяков:
— Определенным сектором общества, потому что как раз в конце 19-го века во французском образованном сословии были очень сильны тенденции либо откровенно германофильские, либо скажем так, призывы учиться у Германии, либо призывы дружить и сотрудничать с Германией. То есть, собственно говоря, вся левая Франция во главе с Жаном Жоресом и так далее была настроена прогермански, в том числе исходя из убеждения в том, что совместные действия французских и германских социалистов могут предотвратить любую империалистическую войну.
Алексей Козырев:
— Достаточно приехать в Реймс, как я приехал два года назад незадолго до пандемии, и увидеть, что города-то нет. Собор стоит, но и то некоторые витражи Марк Шагал потом рисовал, чтобы заменить те, которые были уничтожены немецкими бомбежками. А города нет, потому что он уничтожен, в отличие от Шартра, который все-таки сохранился.
Василий Элинархович Молодяков:
— Реймс уничтожен в Первую мировую или во Вторую?
Алексей Козырев:
— В Первую.
Василий Элинархович Молодяков:
— По нему прошли две войны. Как и вообще по Франции прошли две войны с Германией. В обеих войнах Моррас, конечно, был уж однозначно против Германии. Вот как раз третья моя книга, которую я не давно закончил и которую надеюсь на будущий год издать, она называется... То есть первая книга как я уже говорил «Шарль Моррас и Аксьон Францез от Кайзера до Гитлера». Вторая «Шарль Моррас и Аксьон Францез против Третьего рейха», тут понятно, 32-40-й годы. И книга, которую я сейчас закончил, называется «Шарль Моррас и Аксьон Францез, „Подлинное Лионское сопротивление“», последние три слова в кавычках, это выражение Морраса. Это именно о деятельности Морраса от поражения до освобождения Франции. То есть тот самый период, за который его обвиняли в коллаборантстве и так далее, там как раз я на широкой документальной базе показываю, как Моррас продолжал против немцев бороться.
Алексей Козырев:
— Просто я хотел сказать о том, что не имей он дело с этим кейсом, где действительно Аксьон Францез становится на место Бога, и это политическое служение нации отставляет в сторону вообще какую-то проблему личной религиозности, личных взаимоотношений.
Василий Элинархович Молодяков:
— Ну, действительно, диес франс, богиня Франция, Моррас конечно считал, что, простите меня, возвращаюсь к такой старой советской формуле, общественное выше личного. Национальное выше личного, то есть служение Франции было для него главной ценностью, главной миссией, перед которой,.. а личные проблемы надо было решать самому. Как говорится, участник движения Аксьон Францез должен был быть добрым католиком, а если у него есть какие-то личные сомнения, он должен сам внутри себя с ними разбираться.
Алексей Козырев:
— Ведь это и проблема великого инквизитора по Достоевскому, что он, по сути, те соблазны, которые Христос отвергает, принимает. Соблазн хлеба, соблазн власти.
Василий Элинархович Молодяков:
— Почему Бердяев и Николай Бахтин, которые неоднократно обращались к идеям Морраса в 20-30-е годы, да, чаще всего...
Алексей Козырев:
— Николай Бахтин. Брат Михаила Бахтина, который уехал в эмиграцию и который в отличие от Михаила Михайловича Бахтина, православного человека, был тоже таким агностиком и, может быть, даже антихристианином.
Василий Элинархович Молодяков:
— И в этом круге, связанном с журналом «Путь», к Моррасу неоднократно обращались. А я еще хочу дополнить, что о Моррасе как литераторе неоднократно писал Георгий Адамович.
Алексей Козырев:
— Как раз об отношении русской диаспоры и этих французских националистов, давай поговорим в следующей части нашей программы. А я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях сегодня доктор политических наук, профессор университета Такусёку, Токио, историк Василий Элинархович Молодяков. После небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор политических наук, историк, профессор университета Такусёку, Токио, Япония, Василий Элинархович Молодяков. Мы говорим сегодня о Шарле Моррасе и его времени. Оказывается, что эти французские националисты — кто-то из них был правоверный католик, кто-то агностик, который защищал интересы католической веры — как-то пересекались с русской эмиграцией. Какие-то отклики Бердяева, журнал «Путь» об этом что-то писал. То есть это было какое-то зеркало, в которое русские православные смотрели или как-то себя соотносили с ними?
Василий Элинархович Молодяков:
— Насчет зеркала я не знаю. Я совсем плохо знаю богословскую религиозную мысль русского зарубежья, но в 20-30-е годы Шарль Моррас это фигура национального масштаба, его не обойти — не объехать. Он, конечно, в большей степени, политический публицист, то есть человек, который ориентирован на некую политическую актуальность. Это не такой человек как Маритен, хотя Маритен был членом Аксьон Францез.
Алексей Козырев:
— Он был женат на русской женщине еврейского происхождения Раисе.
Василий Элинархович Молодяков:
— Да. И интересно, что когда... Я два слова скажу о конфликте движения Аксьон Францез с Ватиканом, потому что в 1914 году незадолго до Первой мировой войны Коллегия кардиналов под сугубо политическим давлением, будем называть вещи своими именами, под давлением лево-либеральных католических сил Франции лево-либеральные католики нанесли ответный удар за то, что в 1905 году Святейший Престол осудил Марка Санье и его движение сьюмбразда — лево-либеральное модернистское течение в католицизме. Ответным ударом стало решение Коллегии кардиналов об осуждении и о внесение в индекс запрещенных книг нескольких книг Шарля Морраса и журнала «Аксьон Францез», еще не газеты. Но Папа Пий Х, одобривший это решение, сказал, что он сам решит, когда приводить его в исполнение и когда о нем объявить. Он положил это решение под сукно, его приемник Бенедикт XV сделал то же самое. И только Папа Пий XI, настроенный очень антинационалистически, который был против любого национализма, после компании, проведенной лево-либеральными католическими кругами в 26-м году, в канун нового 27-го года это решение обнародовал. Причем в список запрещенных книг попала газета «Аксьон Францез». То есть члены Аксьон Францез были лишены права на таинства и так далее. То есть движение Аксьон Францез было тотально осуждено.
Алексей Козырев:
— Но это уже было время Муссолини, это было время фашизма.
Василий Элинархович Молодяков:
— Муссолини тут как раз ни при чем.
Алексей Козырев:
— Может быть, Папа скрытым образом пытался противодействовать итальянскому фашизму.
Василий Элинархович Молодяков:
— Я думаю, что нет. Это были не связанные друг с другом процессы. Говорили, что это влияние немецких кардиналов, поскольку Моррас был германофобом. Сейчас я не буду углубляться в этот вопрос. Важно то, что тот же Жак Маритен до осуждения, до, так сказать, вступления в силу папского решения Морраса поддерживал и стремился как-то погасить конфликт между Аксьон Францез и Ватиканом. После папского решения он папскому решению подчинился. Это для многих членов Аксьон Францез была большая личная трагедия. Что характерно, если надо было выбирать между Папой и Моррасом, все-таки большая часть участников движения выбрала Морраса.
Алексей Козырев:
— Моррас мне друг, но Папа мне дороже.
Василий Элинархович Молодяков:
— Для кого-то. А для кого-то, понимаете, Папа святой отец, но Моррас мне дороже. Например, архиепископ Пинон — который был учителем Морраса еще в католическом лицее, был его ближайшим другом и наставником, их переписка за сорок пять лет неполная, это такой кирпич страниц в девятьсот, потрясающе интересный документ — он отказался осудить Аксьон Францез, ему пришлось оставить архиепископскую кафедру. Он удалился на покой в один из монастырей, не прекратив переписки с Моррасом, и газету «Аксьон Францез» ему посылали в двойном конверте. То есть клали в один конверт глухой без надписи, этот конверт вкладывали в другой конверт, который ему посылали. Так вот это была громкая история. И естественно журнал «Путь», прежде всего будем говорить о нем, который реагировал на все, что происходит в религиозной жизни Франции, не мог пройти мимо. Он опубликовал переводы соответствующих решений Святого Престола. К сожалению, я поздно обнаружил эти русские переводы, иначе указал бы их в своих книгах. То есть религиозная мысль русской эмиграции, которая внимательно следила за религиозной жизнью Западной Европы и прежде всего Франции, не могла на эти события не откликаться. И Моррас был слишком заметной фигурой, чтобы его не замечать. Меня скорее удивляет, что о нем так мало писали, хотя писал Бердяев, писал Николай Бахтин, писал Петр Бицилли. О Моррасе как о литераторе неоднократно писал Георгий Адамович. То есть Моррас сам с русскими эмигрантами не соприкасался.
Алексей Козырев:
— А Моррас и его сторонники как относились к России, к православной России? Они знали этот тип христианства, тип культуры?
Василий Элинархович Молодяков:
— Россию они считали дикой страной, потому что цивилизация для Морраса и его учеников заканчивалась на Рейне. Все, что за Рейном, это по большому счету люди с песьими головами, а тевтоны это или русские уже не так важно. Эту точку зрения очень ярко выразил ученик и друг Морраса Анри Массис в своей замечательной книги «Защита Запада», вернее я бы сказал, в примечательной книге «Защита Запада» 27-го года.
Алексей Козырев:
— Потому что мы имеем в Германии, например, «Закат Европы» Шпенглера, где он говорит о рождении Восточносибирской цивилизации, которая придет на смену Германо-Романской, и имеем примечательную книгу Вальтера Шуберта «Европа и душа Востока».
Василий Элинархович Молодяков:
— Вот как раз Шпенглер был одним из главных объектов критики со стороны Массиса, так же как и Эрнст Роберт Курциус, чей главный труд о латинской литературе средневековой Европы недавно переведен на русский язык, что очень хорошо. Владимир Васильевич Вейдле, один из моих любимейших авторов по поводу книги Массиса «Защита Запада» сказал: Массис отдает врагу слишком много европейской земли, для Массиса города, где родились, по-моему, Гете и Бетховен, оказываются вне Европы.
Алексей Козырев:
— В Азии.
Василий Элинархович Молодяков:
— Да. И с другой стороны Рене Генон так же резко критиковал эту книгу за то, что Массис вообще совершенно не представляет себе, что такое Восток, и для него Восток это люди вроде Тагора или Окакуры Какудзы, которые с точки зрения Генона являются просто полной профанацией Востока. Я кстати должен сказать, что вообще имя Анри Массиса и название его книги «Защита Запада», видимо, впервые узнал из русского перевода знаменитого трактата Генона «Кризис современного мира», вышедшего, дай Бог памяти, то ли в 91-м, то ли в 92-м году.
Алексей Козырев:
— Да, да, в начале 90-х. Ну, Генон как раз не соглашался с Массисом, насколько я понимаю, то есть у него другое отношение к Востоку.
Василий Элинархович Молодяков:
— Генон тоже человек был, как говорится, прикосновенный к Аксьон Францез. История Аксьон Францез как идейного движения это история еще очень многих диссидентов. Маритен был членом Аксьон Францез. Жорж Бернанос, который потом поносил Морраса последними словами, вообще потеряв всякое чувство меры, был членом Аксьон Францез, причем политическим активистом, но он сам оттуда ушел. С другой стороны членами Аксьон Францез были такие видные коллаборанты как Робер Бразийак и Люсьен Ребате, которые были изгнаны в годы оккупации из Аксьон Францез, что называется с барабанным боем и собачьим лаем. Моррас просто их публично проклял, потому что для него любой человек, призывавший к любому взаимопониманию с Германией, был либо предатель, либо мерзавец, либо идиот.
Алексей Козырев:
— Извини, что я все возвращаюсь к этой теме. Может, они не знали ничего о православии, о восточном христианстве. Все-таки надо сказать, что основная миссия знакомства Европы с православием принадлежала как раз русской эмиграции послереволюционной. Бердяев, Павел Евдокимов, Булгаков, конечно — это 30-е годы.
Василий Элинархович Молодяков:
— Но был и другой взгляд, как у Николая Валерьяновича Брянчанинова, очень интересного русского историка и литератора, перешедшего с русского языка на французский. Его книга «Русская Церковь», которую я имел честь тебе недавно подарить. Его книга «Русская Церковь», адресованная массовому французскому...
Алексей Козырев:
— Не родственник святителя Игнатия (Брянчанинова)?
Василий Элинархович Молодяков:
— Это один и тот же род, но разные ветви. Вот у меня в альманахе «Невский библиофил» вышла о нем подробная статья, и там это разбираю. Но род один и одни и те же корни, Грязовецкий уезд Вологодской губернии.
Алексей Козырев:
— Он был французским писателем? Николай Брянчанинов?
Василий Элинархович Молодяков:
— Моя малая родина... Николя Брян Чанинов, как он свою непроизносимую фамилию для французов разбил на две части как двойную. Он опубликовал с 25-го по 38-й год семь очень интересных книг на французском языке, в том числе «Русская Церковь» и «История России», которые выдержали много изданий. «История России», на мой взгляд, весьма неудачная. Собственно говоря, он трактует православие как восточную схизму. Я не знаю, был ли сам Брянчанинов католиком, но его позиция вполне соответствует профранцузскому, значит, католическому взгляду на православие, на восточное христианство как на схизму. И надо сказать, что если Моррас Россией, в общем-то, не интересовался, то Анри Массис, живо интересовавшийся Россией, но не знавший русского языка, кое с кем из эмигрантов контактировавший, опирался на таких авторов. А на кого он мог опираться? На Чаадаева, переведенного и изданного во Франции еще в 1861 году. На Леруа-Больё, на Брянчанинова.
Алексей Козырев:
— На маркиза де Кюстина. «Путешествия в Россию», 1839 год.
Василий Элинархович Молодяков:
— Кстати сказать, одно из изданий этой книги вышло с предисловием и с комментариями Массиса.
Алексей Козырев:
— Самая критическая, скажем мягко, по отношению к России книга, написанная французом.
Василий Элинархович Молодяков:
— Массис искренне хотел Россию понять. Массис читал и Достоевского, и все, что можно было прочитать во французских переводах, он читал. Он читал и евразийцев, и сменовеховцев, все, что было переведено.
Алексей Козырев:
— Умом-то Россию не понять. Сейчас как раз исполняется 155 лет этой цитате Тютчева.
Василий Элинархович Молодяков:
— И аршином массисовским точно не измерить.
Алексей Козырев:
— Да, в Россию можно только верить. А если утверждать, как это делал Массис в книге «Защита Запада», что Запад, это аллладизм, это рационализм, а Восток это какой-то мистицизм.
Василий Элинархович Молодяков:
— И хаос.
Алексей Козырев:
— И хаос, да. Извините, а что у вас не было Терезы Д`Авильской, не было католической мистики? Вся и французская католическая традиция, да и вообще европейская католическая традиция в гораздо большей степени или хотя бы в той же степени это и мистицизм, а не только рационализм.
Василий Элинархович Молодяков:
— Это вопрос, который надо было задать именно Массису, а не Моррасу. Потому что Моррас это такой картезианец, там никакой мистики нет. А Массис, бывший все-таки человеком верующим и неоднократно обращавшийся к католическим традициям, да, интересно было бы его спросить, от кого мы будем теперь защищать Европу.
Алексей Козырев:
— В эфире радио «Вера», программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк, доктор политических наук Василий Молодяков. Мы говорим о Шарле Моррасе, о французских националистах, о первой половине 20-го века. Мне кажется, эта история близка нам уже хотя бы тем, что с этими людьми в достаточной степени пересекались русские эмигранты. Вот оказывается в Бердяевском «Пути» за всей этой историей следили, и Бердяев, насколько я знаю, писал обширные развернутые рецензии на книги Анри Массиса. Но не Морраса, да?
Василий Элинархович Молодяков:
— Он Морраса неоднократно упоминал в своих статьях. Но просто Моррас это фигура, которую не обойти — не объехать. Говоря о современном для того времени интеллектуальном мире Франции, обойти Морраса нельзя.
Алексей Козырев:
— А вот если взять тему отношения к метекам и к евреям. На эту тему как-то реагировал Бердяев. Откуда этот антисемитизм?
Василий Элинархович Молодяков:
— Дело в том, что — собственно антисемитизм является в современной Франции главным обвинением против Аксьон Францез — Моррас всегда четко проводил разницу между тем, что он называл антисемитизмом государства и антисемитизмом кожи. Моррас называл себя антисемитом, даже на судебном процессе, когда он мог от всего этого откреститься, но абсолютно можно считать установленным тот факт, что Моррас не был расистом. Именно поэтому отмороженные расисты и антисемиты вроде Люсьена Ребате и Луи-Фердинанда Селина, как раз называли Морраса предателем, юдофилом и так далее и издевались над ним, что у Морраса нет расового чувства. У Морраса действительно никакого расового чувства не было. Вообще надо сказать, что этот расизм кожи или расизм крови был французской мысли не свойственен, евреи воспринимались как чуждая этническая общность, которая в Третьей республике захватила слишком много прав, но рассуждения о чистоте крови и так далее, был такой французский антрополог Ваше де Лапуж, которого в Третьем рейхе превознесли как великого ученого, во Франции в то время он имел репутацию городского сумасшедшего, или как сейчас говорят «фрика». Это очень важный момент, потому что сейчас мы слишком много разных значений вкладываем в слово «антисемитизм». Антисемитизм — это, безусловно, плохо, это моя личная позиция, но надо понимать, что этим словом назывались принципиально разные явления.
Алексей Козырев:
— Но и в русской эмиграции была позиция отца Сергия Булгакова, который написал книгу, тебе хорошо известную, «Расизм и христианство» и была позиция Владимира Ильина весьма несимпатичная, который публиковался даже в нацистских изданиях и с такими очень неприглядными статьями. Как тут ни крути, но после Второй мировой войны, после Холокоста пытаться как-то даже морально это реконструировать — это вещь очень опасная.
Василий Элинархович Молодяков:
— Безусловно. Мне приходится этим заниматься как раз в моей третьей заключительной книге о Моррасе, «Аксьон Францез и их борьбе с Германией, где я рассматриваю отношение Морраса к евреям и политике режима Виши в отношении евреев в контексте противостояния немцам. Это, может быть, многим слушателям, покажется парадоксальным или неправдоподобным. Но как говорится, не то чтобы поверьте на слово, а давайте дождемся выхода моей книги. Там я это все изложил. Кстати, на сайте «Русская идея» politconservatism.ru я черновой вариант этой главы опубликовал. Но, правда, бурной реакции это не вызвало, потому что я, конечно, очень тщательно выбирал выражения. Но еще раз хочу подчеркнуть главное, что а)в отношении Морраса к евреям не было никакого расового оттенка и б) французские критики Аксьон Францез пытаются выставить антисемитизм одной из идейных основ движения, это не правильно. Движение было ксенофобским, да. То есть в принципе все иностранцы — все чужаки, это первая итерация. И вторая итерация, что все-таки, если говорить, что какая-то фобия по этническому признаку была присуща движению Аксьон Францез, это была германофобия. Я бы сказал так, что юдофобия Аксьон Францез — это частный случай германофобии. Это очень важный момент. Эти нюансы российскому читателю совершенно неизвестны. И вообще я должен сказать такую печальную вещь, что сколько-нибудь адекватное представление о многих явлениях французской истории первой половины 20-го века в первую очередь о режиме Виши, о периоде оккупации и о движении Сопротивления — сколько-нибудь адекватное представление о них можно составить, только зная литературу на французском языке. Даже англоязычная не поможет, потому что даже в англоязычной литературе эти проблемы, эта картина искажена до неузнаваемости, и, будем называть вещи своими именами, искажена по политическим соображениям.
Алексей Козырев:
— Мне все-таки хочется попытаться какой-то диагноз поставить, чтоб наш радиослушатель как-то соотнес себя с этой проблематикой. Есть французы — очень хорошо. У них есть любовь к своей нации — прекрасно. Но для нас-то что? А вот для нас была такая книга замечательная, тебе хорошо известная, Владимир Федорович Одоевский «Русские ночи» 1844 год.
Василий Элинархович Молодяков:
— Я эту книгу в свое время назвал «Умные люди» в противоположность «Бедным людям».
Алексей Козырев:
— Где Одоевский в конце в послесловии констатирует: «Запад гибнет». И говорит это несколько раз. Почему Запад гибнет? Потому что, говорит Одоевский, иссякают религиозные чувства на Западе. Он предполагает, что, может быть, еще много великих людей появится и событий, и движений. Но вот религиозное чувство иссякает, а поэтому иссякает душа Запада.
Василий Элинархович Молодяков:
— Выходит из Запада душа? Там нечего ей делать.
Алексей Козырев:
— Вот-вот-вот. «Защита Запада» называлась книга Массиса. Все-таки не случайно, наверное, Вейдле так возмутился, потому что он всегда считал себя русским европейцем, а ему сказали: ты азиат.
Василий Элинархович Молодяков:
— И Курт Сус возмутился, написавший Массису известное письмо, сказавший: «Я такой же католик, как и вы. Я так же, как и вы ненавижу безбожную власть большевиков и так далее. Такой же европеец, как и вы. Почему вы мне отказываете в праве быть европейцем?
Алексей Козырев:
Да, да. Так что же мы можем сказать об этом процессе. Действительно ли Запад гибнет и сколько ему еще осталось?
Василий Элинархович Молодяков:
— Для начала надо определить, что такое Запад. Я лично скажу, что я с массисовским понятием Запада совершено не согласен. Мне гораздо ближе точка зрения Вейдле. И вообще я еще раз повторю, что я ни в коей мере не апологет Морраса или Аксьон Францез, когда меня спрашивают об отношениях к ним, я говорю, что, если бы я жил тогда во Франции и был французом, я бы скорее всего был бы членом, а может, и активистом Аксьон Францез. Но я не француз, я живу не тогда и не во Франции. И их безумная национальная ограниченность, их ксенофобия для меня органически неприемлемы. Моей задачей было, как говорил великий французский историк Марк Блок, не судить, а понять. А что касается Морраса, скажем, главное в контексте нашей беседы, умер-то он католиком, исповедовавшись, причастившись, с четками в руках. Он вернулся в лоно матери-Церкви, причем вернулся сам. Существует маленькая очень интересная книжка канонника Аристи де Кормье, который был его духовником в течение последних месяцев, когда Моррас уже — его как бы выпустили из тюрьмы, он находился в клинике под наблюдением — и архиепископ города Тур направил его к Моррасу, все-таки хотел вернуть Морраса в лоно матери-Церкви. Моррас вернулся туда сам. И это, пожалуй, один из самых важных эпизодов его духовной жизни и это последний эпизод его духовной жизни. Кормье его спросил: «Отрекаетесь ли вы от Церкви и от веры, в которую вы были крещены в детстве». Моррас сказал: «Нет. Я хочу туда вернуться». И он вернулся.
Алексей Козырев:
— Как писал Розанов: гуляй, душенька, гуляй, милая, а к вечеру возвращайся к Богу.
Василий Элинархович Молодяков:
— Мне кажется, что общую тенденцию и общую нотку Василия Васильевича Моррас бы не одобрил, но вернулся. Вот это как говорится...
Алексей Козырев:
— Ну, а Европа-то вернулась? Если мы о сегодняшней Европе.
Василий Элинархович Молодяков:
— А что есть Европа? Я где-то несколько лет назад прочитал не политкорректный комментарий: что сказал бы Владимир Васильевич Вейдле, с моей точки зрения образцовый русский европеец, увидев нынешнюю Европу, и что сказал бы Массис, от кого бы он призвал нынешнюю Европу защищать и вместе с кем?
Алексей Козырев:
— Когда нельзя говорить мадам и месье, а надо говорить в среднем роде, да? Когда феминитивы, сначала феминитивы, потом и от феминитивов отказаться.
Василий Элинархович Молодяков:
— Феминитивы и феминитивки.
Алексей Козырев:
— И феминитивки. Действительно, что бы сказал по этому поводу и Моррас и Вейдле? Когда начинают говорить, что елки рождественские нельзя ставить, вместо них ставят непонятно что. С Рождеством нельзя поздравлять. Я вот одного француза поздравил с Рождеством, в Москве как-то познакомились, он мне не ответил. Потом поздравляет меня со старым Новым годом и говорит: «Понимаете, для нас поздравление с Рождеством это так же неприлично, как для вас поздравление со старым Новым годом». Ну, во-первых, для нас совершенно прилично. Я совершенно с радостью праздную старый Новый год по православному календарю, почему ж не отпраздновать Новый год?
Василий Элинархович Молодяков:
— Я совершенно не понимаю, что неприличного в поздравлении со старым Новым годом. Если бы с 7 ноября?
Алексей Козырев:
— А вот для француза, видите ли, поздравление с католическим Рождеством неприлично.
Василий Элинархович Молодяков:
— Это безумие.
Алексей Козырев:
— И таких становится все больше и больше, потому что что-то происходит. Я думаю, что та Европа, которую пытались защищать эти люди, все-таки куда-то уплыла. По каким причинам, это другой вопрос. Может, веры не хватило.
Василий Элинархович Молодяков:
— Скажем так. Я, как политолог, вижу здесь много конкретных политических причин, связанных в том числе с внешними факторами, но разговор об этом увел бы нас слишком далеко от нашей сегодняшней темы, именно от Шарля Морраса, от движения Аксьон Францез и их непростых , но очень искренних отношениях с христианской верой и Католической церковью.
Алексей Козырев:
— Юрий Анатольевич Шичалин, который сидел в этой студии, мне сказал, что Европа это там, где читают Гомера. Если в Китае читают Гомера, если в Японии читают Гомера, то значит, Европа это Япония.
Василий Элинархович Молодяков:
— Мы все, учившие Гомера, как говорил Брюсов, в знаменитом стихотворении «Проснувшийся Восток».
Алексей Козырев:
— Возвращаясь в Японию, ты сейчас сильно будешь чувствовать, что ты возвращаешься в Европу, это как? Япония это Европа сегодня?
Василий Элинархович Молодяков:
— Европа это там, где я. Европа это то, что вокруг меня. Конечно, когда я вернусь в свой кабинет, заставленный книгами Морраса, Массиса и так далее...
Алексей Козырев:
— С автографами.
Василий Элинархович Молодяков:
— Там я, наверное, буду чувствовать себя в Европе. Может даже — Франция одна только Франция, как говорил Моррас, притом, что я ни в коей мере не француз, французом быть не могу, не тщусь и так далее. Но диалог и взаимодействие с этими людьми, я считаю, меня весьма обогатили.
Алексей Козырев:
— Ну, что же, я очень благодарен тебе за этот опыт, за то, что мы увидели, что люди веры бывают разными. Что иногда человек, потерявший веру, начинает истово поддерживать Католическую церковь и пытаться утвердиться...
Василий Элинархович Молодяков:
— Сознательно ее поддерживает. Я хочу сказать еще одно, что то ли Лион Доде, то ли Анри Массис сказал, что еще ни один человек не потерял веру, прочитав Морраса, но многие люди обрели веру, прочитав его. По-моему, это очень точное выражение.
Алексей Козырев:
— Читайте книги Василия Молодякова.
Василий Элинархович Молодяков:
— Спасибо.
Алексей Козырев:
— Потому что это действительно открытие и новых имен и новых фигур в не только европейской культуре, но и в восточной культуре. Я очень рад, что ты пришел в судию.
Василий Элинархович Молодяков:
— Спасибо, что пригласил.
Алексей Козырев:
— И я надеюсь, что еще не один эфир мы запишем в программе «Философские ночи».
Василий Элинархович Молодяков:
— Буду очень рад этому.
Алексей Козырев:
— Всего доброго. До свидания.
Василий Элинархович Молодяков:
— До свидания.
24 декабря. Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом

В 8-й главе Евангелия от Марка есть слова о Христе: «Начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть».
Об укреплении веры апостолов Господом нашим Иисусом Христом — игумен Назарий (Рыпин).
Все выпуски программы Актуальная тема
24 декабря. О важности духовного роста христиан

В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Для вас нужно молоко, а не твёрдая пища».
О важности духовного роста христиан — протоиерей Максим Первозванский.
Все выпуски программы Актуальная тема
24 декабря. Об укорении Христом иудеев

Сегодня 24 декабря. В 5-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно учить первым началам слова Божия».
Об укорении Христом иудеев — игумен Лука (Степанов).
Все выпуски программы Актуальная тема














