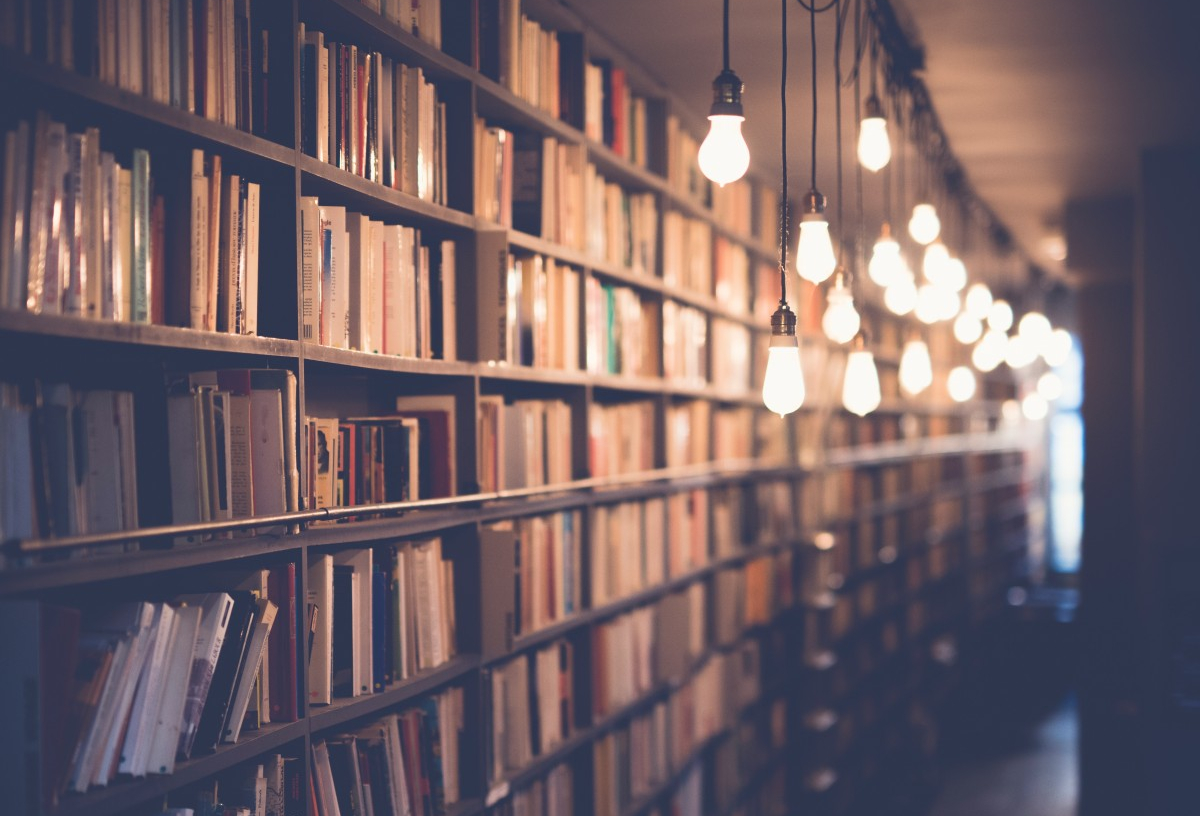
Гость программы — Татьяна Чудотворцева, художница, преподователь живописи.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об искусстве и о народном в искусстве. У нас сегодня в гостях художница, преподаватель живописи, мать замечательного семейства и вообще прекрасный человек — Татьяна Фоминична Чудотворцева. Здравствуйте, Татьяна Фоминична.
Т. Чудотворцева
— Добрый вечер.
А. Козырев
— Ну вот в эти великопостные дни самое время поговорить о прекрасном. Красота нас спасет?
Т. Чудотворно.
Да, безусловно.
А. Козырев
— Ну кому, как не вам это знать, человеку, который посвятил жизнь, с одной стороны, искусству, тому, чтобы научить рисовать людей, которые никогда не собираются быть художниками, оказывается, можно рисовать для себя, для души, для того, чтобы что-то открыть в себе. Ну, о других частях вашей жизни, наверное, мы по ходу этой передачи расскажем, но я хотел бы вас спросить: вот ваш путь к рисованию, ваш путь к живописи, Трубецкой называл живопись «умозрением в красках», он с чего начался? Это детство, это школа?
Т. Чудотворцева
— Ну, мой путь, если коротко говорить, начался совершенно неожиданным образом, потому что я в детстве никогда вообще не думала о рисовании, не умела рисовать, не знала, что такое краски, я жила достаточно скудно и училась в обычной школе, но в какой-то момент на Фрунзенской набережной, где я жила, ребёнком 12-летним, сойдя с автобуса, вместо пошивочной мастерской, которая там была, и мы, дети, там подбирали всякие звёздочки, нам казалось, что это и есть апофеоз прекрасного, звёздочки, якорьки, там шили для генералов форму, и вдруг в этом нами обожаемом месте я увидела надпись «Детская художественная школа», и я, как была с чемоданчиком после бассейна, пошла, естественно, туда, как любопытный ребёнок, и увидела там какую-то странную картину: стены достаточно голые, на которых висели на кнопках какие-то рисунки, я же не понимала, что за рисунки, и сидел дядька такой пожилой, который, увидев меня, страшно оживился, говорит: «Девочка, ну чего ты пришла, смотреть?» Я говорю: «Смотреть». — «А тебе нравится? Я говорю: «Ну, нравится». — «Хочешь поступать?» Я ему говорю: «Ну, давай». Дядька на меня наорал: «Это, говорит, ты давай!» И так он на меня наорал, я испугалась, и на другой день пришла, как он мне велел, с красками самыми дешёвыми, блокнотом и карандашом, и стала сдавать экзамены. Рисовать я не умела, вообще не понимала, что это, хотя была уже в пятом классе, но в школе другое рисование было. Но так как дядька меня очень строжил, я его боюсь, и стала срисовывать у других, чтобы долго это не рассказывать, так я сдала четыре экзамена, примерно срисовывая, вот так, как вы мне рассказывали по дороге, натюрморт красками паршивыми, натюрморт карандашом, какой-то мячик резиновый и облезлую утку, и какую-то композицию, и всё, я забыла об этом.
А. Козырев
— Ну вам понравился сам процесс?
Т. Чудотворцева
— Абсолютно, нет! Я мечтала только об одном — оттуда убежать, мне не понравилось. Я ушла оттуда, а через какое-то время моей матери поступил звонок с требованием, чтобы она зашла в школу. Мать пришла в школу, ей сказали: «Мы вашу девочку приняли в художественную школу». Она страшно удивилась, но ей было сказано: «Не обольщайтесь, эта девочка абсолютно бездарная, рисовать не умеет, но она такая миловидная, мы её взяли за красоту». И так меня продержали четыре года в школе исключительно по этому принципу. Я не рисовала, то есть я рисовала, но очень плохо, на меня никто внимания не обращал.
А. Козырев
— Слушайте, ну вот родители сейчас некоторые думают: ну вот надо обязательно, чтобы мой сын стал там Гленном Гульдом или Денисом Мацуевым, на худой конец, если он играет на рояле, если он рисует, то он «Мону Лизу» должен нарисовать, как минимум. Это для того, чтобы стать гением и заработать очень много денег, или это для чего-то другого — рисовать?
Т. Чудотворцева
— Я не очень вопрос поняла, прошу прощения.
А. Козырев
— Ну вот для чего ребёнка нужно отдавать в художественную школу?
Т. Чудотворцева
— Я этого не знаю, потому что меня никто не отдавал в художественную школу, и я сама никогда никого никуда не отдавала. Моя вот эта эпопея художественная началась в последнем классе, когда нечаянно из меня прорвалась вот эта вот, нам невидимая, глубоко тлеющая художественная страсть. Дальше уже была большая художественная школа, институт и так далее, я никогда не могла жить без этого больше, никогда. Но к этому не было никаких предпосылок вообще, минусовые, я вам вот ответила. Надо ли одарённого ребёнка, который очень хорошо... вот родитель видит, что ребёнок или кто-то не очень ребёнок, у него какие-то невероятные способности, надо ли его толкать дальше? Это огромный вопрос, это отдельная лекция, надо или не надо. В каком-то смысле надо, но в каком-то смысле не надо, потому что, как известно, лазейка всегда найдётся так или иначе.
А. Козырев
— Ну вот мы говорили с вами про притчу о талантах, еще как бы сомневались в том, что вы богослов и можете комментировать библейские тексты, но ведь вы тут не зарыли талант в землю, а фактически талант, которого, может быть, там было на три копейки, вы сумели как-то приумножить и развить, и из сферы, которая вам была совершенно не близка, стать профессиональной художницей.
Т. Чудотворцева
— Я бы не согласилась с такой формулировкой. Понимаете, дело в том, что тот талант, о котором мы говорим и в евангельской притче, и в нашем таком обиходном выражении — это всё-таки некий дар, который очевиден у человека, это не мой случай, не было у меня никакого дара, он не был очевиден, чего-то тлело, а дальше это уже было, действительно, теперь я уже с высоты своих многих прожитых лет это понимаю — это абсолютно рука Господа Бога, которая меня прямо «за веревочку» вела по жизни вообще, в частности, по этой. Но что касается зарывания таланта, это, повторяю, не тот случай, скажем, есть одарённый ребёнок, который вот от рождения музыкален или художник, таких случаев очень много, там, в музыкальной, в художественный, в любой культурной среде родился «Моцарт», и если этого «Моцарта» умышленно отдать в армию, или в сапожники, или ещё хуже, например, в строители, чтобы он там себе пальцы повредил, то это, видимо, и будет зарытие таланта, но это с одной стороны, а с другой стороны, тут не ключевое слово «отдать», потому что, когда мы думаем о притче о талантах, мы говорим о себе, а не о вас, не обо мне, то есть каждый о себе, не родители зарывают талант, не наставники, сам человек знает за собой, что у него есть вот это вот, что-то сокровенное, он это сокровенное бережёт и приумножает, это может быть и искусство, и хлебопекарство.
А. Козырев
— Ну, вот мы говорим «талантливый», а говорим иногда ещё слово «одарённый», то есть талант — это то, что у меня уже есть, а одарённый — это дар, который я получаю свыше, и, может быть, этот дар я могу получить не только...
Т. Чудотворцева
— Ну, и талант мы получаем тоже с рождением.
А. Козырев
— Ну да, но дар — это что-то большее, мне кажется, одарённость, которая проявляется в человеке и которая зависит от Бога, потому что Бог даёт нам дары.
Т. Чудотворцева
-Безусловно, и талант зависит от Бога, мало этого, зарытие или не зарытие таланта, умение с ним жить и обращаться — это тоже только от Бога, человек либо Его слушает, и тогда понимает, что к чему, или плюёт, ему гораздо важнее там пойти где-нибудь потусоваться, чем...
А. Козырев
— Но ведь вы, когда были маленькой девочкой, вы, наверное, об этом не рассуждали?
Т. Чудотворцева
— Нет, конечно.
А. Козырев
— Вы уже в церковь ходили в это время?
Т. Чудотворцева
— Нет, я очень поздно, я воцерковилась, стала церковным человеком только благодаря тому, что я в двадцать лет познакомилась и прожила всю последующую жизнь со своим мужем, который меня в это ввел, я даже некрещёная была — Николай Всеволодович Котрелёв.
А. Козырев
— Мой учитель, я не скрою, который действительно очень многое нам преподал, ну, а уж вы-то, можно сказать, от него получили все остальные таланты, скажем так, вот живописи он вас не обучал?
Т. Чудотворцева
— Он меня вообще ничему не обучал, обучал жизни Господь Бог. На самом деле, вот это присутствие Божие, оно, как в любом человеке, как дыхание, «всякое дыхание славит Господа», оно есть, и никуда от этого не деться, потому что у меня оно возникло первый раз в семь лет, когда я оказалась в лагере туристическом и стала там лазить, мне было скучно, и разгромленная церковь была закрытая, и я вдруг туда попала через окно и увидела вот на такой ниточке куски ризы всякой, и висели ангелы с ризой на нитке, ну, вот разодрали там что-то, раскидали, просто там было полное безобразие, мерзость запустения, но вот эти ангелы при солнечных лучах, вот они так болтались, я часто об этом вспоминаю, наверное, это вот такое пробуждение человека к творчеству, искусству в будущем, тогда, конечно, я дитя была.
А. Козырев
— Вот, а теперь у вас четверо детей, семнадцать внуков...
Т. Чудотворцева
— Ну, восемнадцать, даже правнучка одна.
А. Козырев
Да, и старший сын — священник, то есть вот удивительно, чудеса Божьи: вы пришли в храм вдруг, взрослым уже человеком, а теперь ваш старший сын служит у престола Божьего, да?
Т. Чудотворцева
— Да, конечно, да.
А. Козырев
— Ну, это тоже по-своему художество, художество жизни, поскольку не только на полотне ведь мы рисуем, но и в каком-то смысле Бог рисует узоры какие-то необыкновенные.
Т. Чудотворцева
— Бог рисует жизнь.
А. Козырев
— Да, из нас он рисует эти узоры. Но я дальше должен был бы расспрашивать вас про ваше творчество, про то, что вы нарисовали, про ваши картины, но мы договаривались немножко о другом в ходе нашей программы, вот вы всё-таки замечательный педагог, и я знаю, что вот годы ковида вы просидели в «зуме» и преподавали онлайн рисование, и до сих пор эти ученики с вами, и они не перестают удивляться, как можно на дистанте научить человека чему-то удивительному. Вы не только художница, но и педагог, и вот огромную часть жизни вы проработали в совершенно удивительном, как вы мне рассказывали, учебном заведении — Заочный народный университет искусств, это было в Советском Союзе, и это было место, куда приходили не будущие Репины и Суриковы, а приходили обычные люди...
Т. Чудотворцева
— Они не приходили.
А. Козырев
— Ну а вот что это? Как вы туда попали, и что это за университет такой?
Т. Чудотворцева
— Я объясню. Я вообще всю свою судьбу воспринимаю просто как милость Божию. Всё, от начала и до конца, и горе, и радость, вот у меня такое восприятие, потому что иначе невозможно объяснить, как человек может попасть вот в такое райское место, оно действительно по сути дела райское было. Дело в том, что я училась в полиграфическом институте, я по образованию художник печатной продукции, так называлось наше отделение, ХТОП, художественно-техническое оформление печатной продукции, известный факультет, известное отделение. И я понимала, у меня уже было двое детей, я была одна там такая в институте, по крайней мере, в художественной части её, и мне было ужасно важно, потому что по окончании этого института я понимала, что я не могу себе позволить работать так, как большинство моих однокурсников, художественными редакторами, то есть я либо должна принимать какую-то свободную форму жизни, ну, рисовать для книги, но этим, особенно молодому, юному художнику, тем более неопытному, без связей, прожить было бы довольно сложно. Или просто вообще куда-то уйти в сторону. К счастью, никаких тогда ко мне репрессий не было, потому что я уже мама была, я имею в виду репрессии со стороны государства, там тунеядство, тогда же это всё было, и в это время, это самое начало 70-х. И в какой-то момент в гостях я разговариваю с одним, теперь уже давно покойным, замечательным художником, такой абстракционист был, Борис Сергеевич Отаров, он рассказывал о каком-то учебном заведении, о котором я только вот могла бы... Я так была потрясена, что есть такое, в котором первое, самое главное для меня было: туда не надо ходить вот как на работу — работа дома и при этом работа с художниками, учениками со всего Советского Союза. Когда я поняла, что это именно то, что я бы хотела, я стала к нему, бедному, приставать, и в результате он дал мне возможность туда поступить.
А. Козырев
— В эфире радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, художница Татьяна Фоминична Чудотворцева, мы говорим сегодня об «умозрении в красках», об искусстве, о живописи и о живописи для народа, которая преподавалась вот в том самом удивительном учебном заведении — Заочный народный университет искусств, который существовал в 70-е годы в стране под названием Советский Союз, и куда знакомство или милость Божья, или рука Божья привели нашу сегодняшнюю гостью. Значит, не надо было ходить на работу, а как же можно научить живописи без контакта глаза в глаза?
Т. Чудотворцева
— Попробую коротко, поскольку времени не так много, рассказать сначала предысторию, потому что без неё трудно понять, но, чтобы закончить это колено: я прошла достаточно немаленький тогда конкурс, потому что желающих туда среди художников в Москве, как минимум, было очень много, так как это была не просто работа, которая закрывала всякую возможность порицания со стороны властей, что художник нигде не работает — мы там все были в штате. С другой стороны, она давала любому художнику-профессионалу, и там работало хоть нас очень много, невероятно интересный опыт приобрести в работе с этими людьми. Как начиналось создание этого заведения: в 20-е годы, где-то, по-моему, 1926-1927 год, по всему миру, в Европе, в Америке, в Англии, поскольку очень сильно была развита эта социальная работа тогда, всё кипело, всё время говорили о каких-то социальных нуждах людей, трудящихся, это не мы придумали. И стали возникать такие как бы самодеятельные коллективы для развития рабочего класса, крестьян там, где крестьяне, то есть, вот такое, как бы снизу идущее желание, и снизу, и сверху желание привлечь людей труда к прекрасному, так если плакатно говорить, и в Англии такой был, и в Германии, и в Штатах, в скобках, я всегда люблю этот пример приводить: читайте по этому поводу рассказ Сэллинджера «Голубой период де Домье-Смита», как преподаватель по письму учил рисовать монахиню. И в это время Крупская Надежда Константиновна, которая была, видимо, женщина совсем неоднозначная, она была очень, как бы, заинтересована этой проблематикой, и там начало создаваться огромное количество кружков. Но в частности, несколько художников, если я правильно помню, это был Иогансо́н, может быть, и кто-то ещё, сейчас вот я не возьмусь сказать, они создали сперва кружок для того места, где они находились, приходили к ним рабочие, какие-то ткачихи, они создали мастерские, учили, там есть какой-то материал даже иллюстративный на эту тему, они учили, были страшно увлечены этим процессом, это можно долго рассказывать, но я, так сказать, поверху в данном случае. Потом кому-то в голову пришло этот факультет не просто применить в одном взятом месте, а давайте мы попробуем всё-таки как-то привлечь большое количество людей, которых мы рядом не имеем. В итоге до войны уже были созданы вот эти, уже было какое-то достаточно большое количество педагогов, которые взяли на себя труд письменно отвечать людям, которые захотели учиться рисованию. И что для этого должно было быть: для этого должна была безукоризненно работать почта, она работала, так или иначе, письма от педагога должны были приходить к этим учащимся, как мы их называли, и вот это вот всё заведение, оно развивалось по принципу нарастающему. И сразу после войны решили создать университет, то есть вот это отделение ИЗО, в котором я преподавала на станковом отделении, факультет ИЗО, отделений было несколько: ста́нковый, где я была, отделение графики, потом прибавилось декоративно-прикладное и оформительское, только отделения. Но к этому ещё стали прибавлять факультеты. Был совершенно замечательный театральный факультет. Как они присылали там что-то записанное? Ну, это как бы, так сказать, понятно. И там было отделение бального танца, в этом театральном факультете — замечательный, до сих пор, кажется, он ещё есть, только не в этой форме, да и ИЗО тоже есть.
А. Козырев
— То есть речь шла о заочном образовании? То есть это, сейчас говорят: дистант, дистант, но дистант предполагает, что есть вот этот экран, есть «зум» или какие-то ещё программы, а это бумага и конверт, и ручка.
Т. Чудотворцева
— Тогда ручка, и на то время, когда я стала работать — печатная машинка, я стучала по ночам, когда дети спали, я отвечала на работы. Факультет был самый изумительный, кроме нашего — кино-фото факультет, который не просто там заканчивали люди, они получали профессию реальную. Так вот, самое интересное даже не это, а то, что к этому моменту вот послевоенному университет стал огромным, потому что он охватывал абсолютно все уголки Советского Союза. Как туда поступали люди? Задайте этот вопрос.
А. Козырев
— Ну, наверное, они какие-то конкурсные работы присылали?
Т. Чудотворцева
— Ничего подобного, нет! Это было самое демократичное, самое не советское, в буквальном смысле слова, учебное заведение.
А. Козырев
— То есть взятку не надо было давать, чтобы поступить?
Т. Чудотворцева
— Нет, нужно было прислать (я иногда в подарок от учеников получала мандарины, они, как правило, к моменту их получения были абсолютно все тухлые, но было очень трогательно). Люди везде, у меня были ученики из Армении, Грузии, Таллина, Эстонии, Латвии, Молдавии, невероятных уголков Сибири, из всех автономных республик. Это было заведение, в котором не было конкурса, туда можно было поступить всегда. Вот человек просыпался, ему по радио говорят: «Заочный народный университет искусств объявляет прием учащихся, допустим, с 15 до 115 лет. Оплата за обучение, если я правильно помню, 22 рубля в год».
А. Козырев
— Но это доступная была сумма?
Т. Чудотворцева
— Это не просто доступная, это было очень немного, девять профессиональных консультаций!
А. Козырев
— Для этого образовательный кредит не нужно брать было?
Т. Чудотворцева
— Ничего не нужно. Мало этого: этих денег, которые присылали учащиеся этого заведения, почему мой муж Николай Всеволодович Котрелёв всегда, глядя с восторгом на мою деятельность, говорил, что «это самое несоветское учреждение», потому что учреждение не брало ни копейки от властей, это было хозрасчётное, самоокупаемое учебное заведение. Этих денег, которые высылали люди, хватало на зарплату нам, педагогам, а некоторые зарабатывали много, всё зависело от того, сколько народу в группе, на отправление по почте прекрасных, написанных специально нашими педагогами пособий, малоимущим краски, кисти, тем, кто вообще не мог, а было много таких слоёв, это были инвалиды, зэки, у всех у нас учились зэки, они ничего не платили, им просто всё посылали, а они нам присылали, и вот эта в оплата почтовых расходов. Почта работала великолепно, приходили работы трёхметровые, вот такие вот холсты огромные приходили. Поэтому это было, действительно, абсолютно народное учебное заведение.
А. Козырев
— Слушайте, ну я вот слушаю вас, я вспоминаю, как я был давно в музее, под Лозанной, по-моему, есть такой музей Ар-Брют, первобытного искусства, наивного искусства. Вот это что — это наивное искусство?
Т. Чудотворцева
— Нет, отвечаю одним словом — нет. Вообще это нельзя никак, вот это всё, вот это большое понятие про это учебное заведение, его нельзя никаким образом обозначить. Можно сказать только одно, что среди тех людей огромного количества, разных способностей, разных возрастов, у меня был 83-летний ученик, а был 15-летний, разных представлений о том, что красиво, а что некрасиво, о том, что хорошо, что плохо, практически у каждого педагога находилась вот такая жемчужина, это никто их не выращивал, я имею в виду человека под названием, которого можно загнать в эти рамки как человека, представляющего наивное искусство, это мы придумали, а он об этом даже и не знает. Вот это натуральное, то, с чего мы начали — самый настоящий дар, доставшийся без всякого, так сказать, усилия.
А. Козырев
— Ну, кто-то из романтиков сказал, что «наивность — это свойство гения», что в каком-то смысле гений...
Т. Чудотворцева
— Ну, не в этом смысле.
А. Козырев
— Не в этом смысле, да?
Т. Чудотворцева
— Ну, я так думаю, да. У него там, ну, и романтики же... А тут всё просто: поступает к тебе учиться, вот как у меня было, среди огромного количества работ, среди них дико скучные есть, какие-то такие совершенно работы, как у третьеклассников, у которых нет дара, но он хочет. Самый большой дар — то, что люди эти не просто хотели, они работали, трудились, страшные судьбы были, и они никогда не прекращали заниматься любимым делом. И вот наше дело, педагогов, оно было как бы, с одной стороны профессионально-художественное, а с другой стороны, мы все вынуждены были быть психологами, поэтому, например, я всегда просила мне писать письма, чтобы понимать, как человек живёт, как он работает, в какое время он работает, и почему он делает это, а не это, даже зэки.
А. Козырев
— Какие-то религиозные переживания были у людей?
Т. Чудотворцева
— Я этого не помню.
А. Козырев
— То есть это такое чистое переживание искусства, как духовного, но без какой-то отсылки...
Т. Чудотворцева
— Это вы об их переживаниях говорите?
А. Козырев
— Да, об их, да.
Т. Чудотворцева
— Ну, я могу на это ответить, что я никогда в таких терминах их, даже, как мне казалось, такой ответ к какому-то религиозному чувству не воспринимала, потому что даже если они были, то это настолько личное, по крайней мере, со мной такими вещами никто не делился.
А. Козырев
— Ну, и это было опасно в Советском Союзе, вообще-то, говоря...
Т. Чудотворцева
— Да нет, нет, не поэтому. Потому что это была область сокровенного, это не то, что какие-то чувства или не чувства, это была сама вот это вот... Это и было общение с Богом, только они это не формулировали, потому что, представьте себе, какая-нибудь Марья Ивановна, которая живёт в колхозе под Тулой, это реальная, или самый любимый мой ученик, который есть даже в «Энциклопедии наивного искусства», он в какой-то тугайской деревне тракторист. Его там затюкали все, потому что считали, что вот так, как он рисует, что он сумасшедший. А я, когда получила первую работу, я вижу, что передо мной то ли Мондриа́н, то ли Миро́, то ли ещё кто-то, а он таких имён никогда не слышал и не видел. Человек, у которого видение пластики от природы было такое необыкновенное, такое фантастическое, и наша задача, и моя в частности, была не учить, а их только, как сказать, не напортить и дать им такую милость делать то, что они хотят, и получать от этого удовольствие, а от нас благополучие, утешение.
А. Козырев
— Мы сегодня в нашей программе говорим, казалось бы, не на самую философскую тему, но мне кажется, что то, что рассказывает нам наша сегодняшняя гостья, Татьяна Фоминична Чудотворцева, имеет самое прямое отношение к философии: как пробуждается человеческая душа? Откуда в ней возникает вот эта потребность высказаться, выразить своё видение, своё представление мира прекрасного, сотворенного Богом мира, в котором есть красота? Мы говорим сегодня об искусстве для народа, о живописи, которой занимаются простые люди, с художницей, с преподавателем Татьяной Фоминичной Чудотворцевой. После небольшой паузы мы вернёмся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
А. Козырев
— В эфире радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — художница, преподаватель живописи Татьяна Фоминична Чудотворцева, мы говорим сегодня об искусстве для народа. Я сначала хотел сказать «о народном в искусстве», но это совсем другое, народное в искусстве — это кокошники, это сарафаны, это валенки, а это искусство, которым занимается человек, вроде бы специально не предназначенный к тому, чтобы входить в какую-то художественную элиту, но который может научиться, который может обратиться к мэтру, коим является наш сегодняшний гость, и получить какие-то уроки живописи. Вот не случайно мы заговорили о наивном в искусстве, а прежде нашего разговора вы приводили такой пример с первобытным искусством, что вот те древние художники, которые оставляли наскальные рисунки каких-то диких животных, иногда прибегали к приёмам, которые не снились, например, современному художнику, работающему там в каком-нибудь архисуперсовременном стиле модерн. Вот есть ли какая-то параллель, и в чём она заключается? У Тертуллиана есть слова: «душа по природе — христианка». Может быть, душа по природе — художница?
Т. Чудотворцева
— Безусловно, душа по природе — художница, отвечаю на этот вопрос сразу, всем нормальным людям, которые когда-нибудь видели маленького ребёнка и наблюдали за ним, видят, что ребёнок, первое, что он делает, когда он научается чего-нибудь хватать и понимать, что можно к чему-то применить — это его страсть взять карандаш или всё что угодно рисующее и начинать замазывать поверхность. И душа хочет, душа — художник, это да, как душа — христианка у всех, я надеюсь, так душа и художник, и эти два понятия, видимо, тоже каким-то образом соединяются друг с другом. Но тут вопрос насчёт первобытного: да, мы с вами говорили об этом, и я привела этот пример, чтобы показать, что то, что может нарисовать художник-анималист, который специально учился этому направлению, как минимум, теперешний или живший сто лет назад какой-нибудь виртуоз, и те обнаруженные на скале рисунки, которые предполагают, мы же тоже ничего не знаем про них, что вряд ли эти, как нам кажется, первобытные люди, которые ничего не знали и не умели — тоже большой вопрос, мы ничего про это не знаем, увидели пластику вот этого движения, потому что наскальный рисунок, он потрясает не столько виртуозностью изображения копыт или крупа коня, хорошо нарисованного, сколько именно пластикой, движением, тем, что имеет отношение действительно к какому-то вдохновению глаза и руки, вот он это делает каким-то неведомым образом. Конечно, как сказал сегодня в разговоре один мой замечательный друг и художник, мы с ним беседовали на эту тему, и он сказал: «Ну это же медицина только идёт вперёд, а искусство, оно никуда не идёт вперёд, оно всегда стоит на месте, у него есть течения, есть предпочтения: сегодня все с ума сходят по Шишкину, а завтра все с ума сходят по Пикассо и так далее, это всё дело времени, вкуса и привычки, между прочим». Но если вернуться к вот этим людям, про которых мы говорили, к этим так называемым «наивным» художникам, то, конечно, потрясали всегда это абсолютные возможности у них, гораздо более, чем у меня лично. Вот я себе представляю: я могла, когда были маленькие дети, рисовать крайне редко, а они, при том, что они идут с поля, из коровника, как я говорила, с завода, ещё откуда-то, они рисуют, рисовали каждый божий день. И вот когда ты получал со всего Советского Союза разные какие-то признаки вот этой живой жизни, и тут вопрос о том, соприкасалось это как-то с духовной жизнью, не соприкасалось с духовной жизнью, какое это имело отношение к вере, или не имело, он вообще не возникает, потому что это то самое, вот «всякое дыхание да хвалит Господа».
А. Козырев
— Первичное, то самое первичное, да?
Т. Чудотворцева
— Да, потому что вот он тебе присылает дерево, ну не иконы он тебе присылает, и не изображение, как у меня в художественной школе говорили, когда я стала писать церковь, нас привезли на пленэр, и учитель мне говорит: «Чудотворцева, почему вы обращаете внимание на предметы культа?» Я даже вопроса не поняла. Да, там может быть и церковь, и дерево, и цветок, и портрет, в портретах особенно, ты видишь, что человек, рисуя портрет вот этот вот, необразованный, тот, которого ты пытаешься научить, или наоборот, не пытаешься научить, потому что ты можешь у него получить...
А. Козырев
— Да, я здесь как раз хотел спросить: ну, каждый пишет, как он дышит, а что тогда преподаватель может сделать?
Т. Чудотворцева
— Объясняю: так как в массе всё-таки вот эти явленные гении, которые были, мы их так называли, вот эти наивные гении, правда, это что-то необыкновенное, их было мало в процентном отношении, в основном были самые ординарные люди, которые получали программу, что на первом курсе мы рисуем, это всё было схематично, мы должны, допустим, понять, что такое натюрморт, и мы рисуем натюрморт, и пишем натюрморт, рисуем карандашом, пишем красками, и я, как педагог и другие, естественно, письменно, это же тоже очень было важно — написать такие слова, словосочетания, чтобы этот самый Иван Петрович, который таких слов никогда не слышал, такого рода, чтобы этот Иван Петрович или Мария Павловна понимали, что, то есть объяснить, что такое натюрморт.
А. Козырев
— То есть вы писали не под копирку, не нескольким сразу?
Т. Чудотворцева
— Я писала под копирку в том смысле, что я должна была сдать три экземпляра.
А. Козырев
— Ну, то есть каждому нужно было индивидуально написать?
Т. Чудотворцева
— Да, в том-то была уникальность этого заведения и абсолютная народность, что каждый педагог, к каждому ученику — у меня была группа 70 человек — к каждому ученику обращался и давал рекомендации применительно к его способностям, взглядам, возможностям и тем результатам, которыми он откликается, то есть ты понимал, когда приходила обратная работа после твоей консультации, насколько нормально и доступно ты сумел ему объяснить, и когда это было, ты получал результат такой, который тебя приводил в восторг или просто устраивал, это была невероятная победа. Вот я ждала каждый раз вот этих конвертов с трепетом, потому что я не знала, как наше слово отзовётся.
А. Козырев
— Слушайте, ну а я боюсь спросить: а сейчас-то такое бывает? Или это только вот какой-то град Китеж, который там ушёл куда-то?
Т. Чудотворцева
— Наверное, бывает всё, но так как я не могу сейчас, у нас нет на это времени, про это учебное заведение великое должна быть целая передача...
А. Козырев
— Но мы говорим больше про вас, то есть заведение, прекрасно, что оно было...
Т. Чудотворцева
— Нет, вы спросили — «бывает ли?», я вам отвечаю на этот вопрос.
А. Козырев
— Ну, как личный опыт, то есть вот от такого общения.
Т. Чудотворцева
— Так как это учебное заведение приказало долго жить в аккурат после того, как приказал долго жить наш Советский Союз, который был, всех обнимал, то уже этой формы нет и быть не может. А сейчас, ну а как можно выудить, это должна быть какая-то специальная экспедиция, где в таком-то селе сидит какая-то бабушка, наверное, есть такие, я этим не занимаюсь. Когда я там работала, преподавала, я видела, что это такое. Для меня это, увы, прекрасное далёко, прошлое, вернее, больше я никогда такого не видела, потому что я сейчас тоже занимаюсь, как вы сказали, дистанционно, но это совершенно не то. Вот этот опыт научил меня, как этим заниматься вот таким странным способом и получать результаты, то есть глядя в компьютер, имея мобильный телефон и так далее, когда я вижу, что человек делает, но это совсем не то.
А. Козырев
— Как это для вас соотносилось с вашим религиозным опытом, если можно спросить? Вы ходили в храм, помимо того, что вы воспитывали детей, у вас были материнские заботы достаточно долго, четверо, их надо поднять, их надо отдать в школу. Вот вы ходили в храм, вы участвовали в богослужениях, во всех праздниках, во всех литургиях, вот потом вы возвращались и что, садились за печатную машинку? Это как-то соотносилось для вас или это была работа, а то была духовная жизнь, а третья была семейная жизнь, или всё-таки как-то это выстраивалось в какое-то единое пространство жизни?
Т. Чудотворцева
— Ну, ответить на этот вопрос не так просто. В высшем смысле, может быть, прошу прощения, даже в философском, вам близком, так мне кажется, безусловно, соотносилось, как любая работа, не только эта, соотносится с твоей жизнью, в том числе и так называемой религиозной или духовной, потому что когда ты делаешь работу, ходишь перед Богом, как говорится, и делаешь работу на все 150 процентов, и знаешь, что ты её не можешь схалтурить, ты не можешь просто так взять и написать левой ногой или там сделать что-то не так, это и есть соотношение с моей духовной жизнью, другого у меня нет. Но моя ещё, моя конкретная, вот о чём мы говорим, она накладывает ещё как бы дополнительную такую функцию, обязательство перед человеком, которого я никогда не видела, с которым я общалась только по переписке. Некоторые иногда приезжали, но это отдельная опять-таки история, мы не будем сейчас углубляться, но моё личное переживание вот этой работы, оно в каком-то, ну не только в высшем смысле, не в том, что вот я сейчас пошла в церковь, помолилась, там детей причастила, сама причастилась, позавтракала, и вот мой религиозный порыв мне позволяет написать теперь ещё лучше консультацию — конечно, нет, это профессиональное, но сам посыл, само как бы, так сказать, зерно, внутренность вот этой деятельности, для меня, по крайней мере, она никогда не была формальной вообще, это была горячо и до сих пор незабываемая, любимая работа именно в силу того, что она приносила вот эти плоды, о которых я говорила, не только профессиональные, художественные, но и человеческие. Я понимала, что вот моё слово, оно важно там для какого-то человека, неважно какого возраста и вида, вплоть до зэка.
А. Козырев
— Это предполагает какую-то невероятную любовь к людям, то есть надо людей любить, вот чтобы так...
Т. Чудотворцева
— Ну, насчёт любви к людям не знаю, но любовь к своей профессии — да.
А. Козырев
— А вот для вас были какие-то значимые встречи, может быть, с художниками или не только с художниками, когда какой-то человек, ну вот вы сказали уже о муже, который, можно сказать, подарил вам целую сферу жизни вашей, а какие-то люди, которые для вас что-то привнесли, которые для вас являются, может быть, не обязательно учителями, но просто очень какими-то важными и дорогими?
Т. Чудотворцева
— Ну, конечно. Таких людей у меня было не так мало и не в области искусства, я бы так сказала, то есть не искусство, это неправильное слово, не в области художества, а в области общего понимания, в частности, и искусства, и жизни, и смерти, и радости, и печали, и вообще своего существования. Одна из самых ярких, конечно, ярчайших встреч у меня была, но это не особенно в тему, но раз вы спросили, это была, когда я совсем была ещё юная, мне был 21 год всего, случайная встреча в деревне, в избе, где я жила, с Марьей Фёдоровной Мансуровой, с которой я потом до конца её дней, какие-то у меня письма остались, небольшое количество, но осталось, и она нас как-то очень полюбила, и отношения с ней были невероятно знаковые для меня, не для неё, конечно.
А. Козырев
— В эфире радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев, и наша сегодняшняя гостья, художница Татьяна Фоминична Чудотворцева, мы говорим сегодня об искусстве, о живописи, об искусстве для народа. Вот вы вспомнили Марью Фёдоровну Мансурову, она ведь была из того рода, который вот с Самариными, славянофилами как-то был связан, да?
Т. Чудотворцева
— Ну да, да, была.
А. Козырев
— Московская церковная семья такая старинная?
Т. Чудотворцева
— Конечно, да. Ну, есть книжка «Самарины. Мансуровы», кому интересно, прочитают эту книжку, я не буду сейчас рассказывать. Но она была племянницей Александра Дмитриевича Самарина, кузиной Елизаветы Александровны Самариной, и все они были прихожане, как потом выяснилось, нашей Обыденской церкви, куда мы ходили. Но Марья Фёдоровна, тут вопрос даже не в том, что она сказала, или что она... Это вот действительно была в буквальном смысле встреча, вот в том смысле, в котором можно встретить, я не знаю, какой-то луч солнца, потому что это выглядело так: я прибежала в комнату, увидела сидящую старую женщину, опирающуюся на палку. Когда она подняла лицо, (она была сгорбленной, потому что по ссылке у неё там всё переломано было, биографию я не буду её сейчас рассказывать, естественно) когда она подняла лицо, я, совсем ещё юное создание, я поняла, что это встреча с нетеперешней жизнью. Мне трудно это объяснить, это были глаза с таким количеством света и красоты, вот это была абсолютная красота, вот если можно, не изображение, не икона, не какая-то живопись невозможная, а человеческий лик. Вот это была невероятная красота. А дальше мы с ней, когда уже стали разговаривать, потом мы много раз к ней ездили, она жила рядом в селе Высокое, после ссылки её никто никуда не брал, она жила с своей напарницей-крестьянкой. Мы несколько раз к ней ездили, все её знали, все понимали, кто такая Марья Фёдоровна, и было приятно, что она... Она не всех допускала, но к нам, ко мне конкретно относилась как к ребёнку, с нежностью, с дружбой, с дружелюбием. Но это не главное, главное то, какое она на меня произвела впечатление, я вам на ваши вопросы ответила. И таких у меня было несколько, конечно, в жизни встреч, одна из самых таких основополагающих от моей почти юности до её кончины — это, конечно, моя крёстная Наталья Леонидовна Трауберг, которая была очень... ну, вы её знали же.
А. Козырев
— Да, да, я читал её книги.
Т. Чудотворцева
— Она была человеком абсолютно неординарным, и разным, и прекрасным, и ярким, но вот моё личное, поскольку я росла почти что без семьи, то моя личная привязанность к ней может сравниться только с моей личной привязанностью к своему мужу, больше вот мне сравнить не с чем.
А. Козырев
— Она бывала у вас каждый год на Татьянин день, где вся Москва собирается, ну, пол-Москвы, наверное, Наталья Леонидовна всегда сидела на привычном месте, молчаливая, такая скромная, то есть это действительно такой образ праведницы.
Т. Чудотворцева
— Ну, для меня вот этих слов даже не хватает, чтобы определить, вы же меня спросили, что мою жизнь определило — вот встреча с ней. При этом встреча с ней, если с Марией Фёдоровной, это была вот действительно встреча с красотой, потому что у нас не было с ней таких тесных связей, а с Натальей Леонидовной, матушка, мы её все звали, кличка была просто, то есть я уже была открыта к этому, конечно, я не была такой, знаете, девочка со двора, она определила мои литературные вкусы во многом, мы с ней сходились абсолютно по всем эстетическим пунктам нашей жизни. И когда она умерла, я долгие годы не могла, как сейчас мне трудно переварить, что вот физически нет рядом со мной моего мужа, так я долго-долго не могла переварить, и до сих пор не могу переварить отсутствие человека, которому я доверяла как бы не душевные, не человеческие тайны, а вот какие-то именно тонкие вот эти нити, которые нас связывают с жизнью.
А. Козырев
— Портретов Николая Всеволодовича много у вас, а вот Наталью Леонидовну вы рисовали как художница?
Т. Чудотворцева
— У меня есть где-то, но я даже не пыталась, потому что это довольно сложная история, потому что я, во-первых, не портретист, а рисовала своего мужа я, потому что он всегда рядом был, и по многим другим причинам. В основном, как вы заметили, у меня портретов таких полноценных штук пять всего, может, чуть больше, а так это быстрые наброски, потому что я, рисуя какой-нибудь пейзаж или что-то ещё, мне жалко было стирать краску с палитры, и я всегда брала, неважно что, и рисовала быстро своего мужа.
А. Козырев
— А вот в семье дети не говорили вам: «Мама, что ты всё время рисуешь, займись нами»?
Т. Чудотворцева
— Ой, бывало. Нет, когда дети были маленькие, они этого не замечали, я не всё время рисовала, потому что на мне всё-таки была большая семья. У нас изначально, мой муж был уникальный человек в том смысле, что я не помню за 55 лет прожитой жизни, чтобы он меня к чему-то принудил и сказал бы мне: «давай, я буду так, а ты будешь эдак», поэтому я все решения сама принимала, и в какой-то момент я поняла, что если я не оставлю вот это бесконечное занятие красками, карандашами, портретами и прочими бумажками, то кто будет заниматься семьёй, я сама себе сказала, ну, как Бог даст, поэтому были периоды, дети не обращали внимания на это даже. Но вот когда у меня как бы второе дыхание открылось, а это было лет 25 назад, когда дети уже подросли, я уже могла себе позволить, сидя в деревне у дочери, например, куда-то отойти, сидеть, рисовать в наушниках, музыку слушать, её это дико раздражало, честно скажу, и она постоянно, ну, не говорила мне никогда ничего, но я понимала, что, с одной стороны ей это нравилось, что мама при деле и занимается любимым делом, с другой стороны, естественно, я же не только мама, но и бабушка, и в этот момент, значит, чем-то я таким занимаюсь.
А. Козырев
— Ну, не всякая бабушка может устраивать персональные выставки вот в Поленово, в Ясной Поляне, вот я был на ваших монографических экспозициях, они замечательны совершенно, как сейчас принято говорить: атмосферные, то есть это такая живопись, которая удивительно сочетается...
Т. Чудотворцева
— Вы и в Поленове были.
А. Козырев
— И в Поленове был, да. Вот как вам удается, то есть, как правило, в человеке вот что-то перевешивает, допустим, преподаватель «убивает» учёного, вот я очень хорошо это знаю в университете, когда ты вынужден каждый день преподавать, тебе некогда ходить в архив, заниматься исследованиями, и ты постепенно отодвигаешь себя, а вот вам как-то удалось соблюсти этот баланс?
Т. Чудотворцева
— Ну, как сказать, дело в том, что, опять-таки, я же неординарный преподаватель, если бы я ходила в тот же Полиграфический институт, где я училась, или в Строгановке ежедневно преподавать студентам живопись, рисунки, натюрморты и так далее, я не уверена, что я бы могла сохранить вот ту самую радость от общения, которую я сейчас сохранила со своими небольшим количеством учеников. Это какая-то другая сфера, это не то преподавание, это не чтение лекций, которые хочешь-не хочешь, вам это виднее, я не читаю лекции.
А. Козырев
— В любом состоянии, да, по расписанию.
Т. Чудотворцева
— Ты идёшь, и у тебя всё-таки есть какой-то наработанный материал для лекций, правильно? А тут ты каждый раз, я каждый раз, выходя на урок, или такой очный, у меня школьники, или заочный, вот этот онлайн, извините за выражение, по «зуму» и у меня каждый раз, могу — «похвастаться» не то слово, но констатировать, поделиться — та самая радость общения от того, что у него выходит, такая же, как будто я сама это делаю, и это довольно приятно. Что касается выставок, у меня, честно скажу, с тех пор, как на втором или третьем курсе мы устраивали, мы — «гениальные» художники, в кавычках, юные дети, которым казалось, что весь мир у их ног, какие-то устраивали выставки в кафе «Синяя птица», потом молодёжные выставки, когда я уже от этого отошла, так как у меня всё-таки семья была большая, и я никогда про выставки, как про выставки, вообще не думала, меня это не особенно даже интересует, чтобы выставиться. Но те, о которых вы вспомнили, вот эти две, это волей случая, Поленовская, как вы помните, возникла, потому что был итальянский фестиваль «Италия на берегу Оки», кто-то вспомнил, что есть такая художница, которая каждый год в Италии рисует, пишет.
А. Козырев
— Ну, «кто-то», по всей видимости, Наталья Фёдоровна Поленова, которая была у нас здесь на передаче.
Т. Чудотворцева
— Ну да, она меня позвала, потому что им надо было представить не только Поленова самого, не только итальянцев, но вот кого-то из живущих теперь.
А. Козырев
— Ну, не оправдывайтесь. Поскольку время наше подходит к концу, вот последний вопрос я должен задать, как выстрел: вот Аристотель говорил, что «искусство — это подражание», подражание природе. Чернышевский, что «искусство — это польза». Вот какую бы формулу искусства вы бы дали? То есть вот искусство, ну, пускай не всё искусство, а живопись — это?..
Т. Чудотворцева
— Искусство — это радость, всегда радость, это радость, полнота жизни и в каком-то смысле ощущение Господа Бога в твоей душе, потому что ты имеешь такую счастливую возможность так прославить Творца, пускай даже плохо, пускай даже криво, но тем не менее тебе это доставляет радость, и этого вполне достаточно.
А. Козырев
— Вот и мы тоже поблагодарим Татьяну Фоминичну Чудотворцеву за радость, которую она подарила нам с сегодняшней беседой, и пожелаем успехов в творчестве ей и ученикам на многая лета!
Т. Чудотворцева
— Спасибо.
А. Козырев
— С вами был Алексей Козырев, программа «Философские ночи», слушайте нас на волнах Светлого радио, радио ВЕРА.
Все выпуски программы Философские ночи
25 декабря. О смирении

В 9-йглаве Евангелия от Марка есть слова Христа: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».
О смирении — протоиерей Максим Горожанкин.
Смирение и чистота сердечная являются целью жизни православного христианина. Преподобный Серафим Саровский однажды и навсегда очень чётко и ёмко сказал: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Сам преподобный явил своей жизнью пример исполнения этих слов. И многие другие святые также поучают нас смирением своим.
Если мы откроем жития святых, если мы откроем Патерики и наставления святоотеческие, то увидим, какую великую пользу извлекали святые отцы, поучаясь в смирении. «Смиренному некуда падать», — можем прочесть мы в Отечнике, потому что он почитает себя ниже всех. И именно размышляя о себе в таком ключе, не превозносясь над другими, а смиряясь перед людьми и перед Богом, человек способен достичь святости. В чём да поможет нам всем Господь!
Все выпуски программы Актуальная тема
26 декабря. О ветхозаветном законе и новой надежде

В 7-й главе Послания апостола к евреям есть слова: «Закон ничего не довёл до совершенства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу».
О ветхозаветном законе и новой надежде — священник Захарий Савельев.
Закон ничего не довёл до совершенства. Закон дан человеку в Ветхом Завете для того, чтобы человеку совсем не упасть в прегрешение, для того, чтобы человечеству не умереть в беззакониях. Закон строго загоняет человека в рамки для того, чтобы, когда греховный дурман рассеялся и явилась истина, человек узрел эту истину, покаялся в своих прегрешениях и воспринял её с добрым сердцем и чистыми намерениями.
Закон, наподобие родителя, насильно отвращает человека, как родитель отвращает ребенка от огня, чтобы он не опалил себя, развернув его в другую сторону. А будущая надежда, которой служит этот закон, воспринимается уже добровольно покаявшимся и очистившимся сердцем. И эта новая надежда и есть Христос.
Все выпуски программы Актуальная тема
26 декабря. О подвиге святителя Досифея, митрополита Молдавского

Сегодня 26 декабря. День памяти святителя Досифея, митрополита Молдавского, жившего в семнадцатом веке.
О его подвиге — священник Стахий Колотвин.
В наши дни нам доступно православное образование и просвещение. Есть множество проектов: можно получить через интернет, через радио, через телевидение знания о богословии, изучить наследие святых отцов. А однако были времена, когда и люди вокруг были неграмотные. Так ещё если была богоборческая власть, так и возможности такой спокойно не было.
Когда мы смотрим на историю румынского народа, то мы видим, с одной стороны, это была автономия, которой не было у других православных народов — у сербов, у греков, у болгар — от османского владычества. Но, с другой стороны, больше дано — больше спросится. И то, что было автономное православное правление, накладывало на румынский народ большую ответственность перед Господом.
И эту ответственность на себя взял святитель Досифей, митрополит Молдавский. Конечно, его стали обвинять, что он на самом деле якобы шпион московского русского царства, и под конец жизни он вынужден был бежать на территорию Речи Посполитой, тоже в православные края. Умер во Львове, потому что уже не мог оставаться на своей родине ради просвещения, которому он трудился.
Но, как и в наши дни, порой обвиняют в православных странах людей в том, что они якобы связаны с Россией, что они действуют не в интересах своего народа, а в интересах какого-то русского правительства. Точно так же обвиняли и этого святителя, но спустя века его прославили в лике святых. Поэтому и сейчас человек, который служит единству православных народов, который служит церковному просвещению, может столкнуться с гонениями, но Господь обязательно всё расставит по своим местам.
Все выпуски программы Актуальная тема













