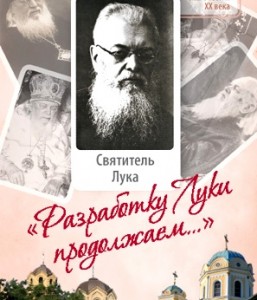 «…Помните же, помните все вы, братья и сестры мои, что своими силами не можем мы воевать с духами злобы поднебесными.
«…Помните же, помните все вы, братья и сестры мои, что своими силами не можем мы воевать с духами злобы поднебесными.
Помните, что все наши надежды должны мы возлагать только на помощь Господа и Бога нашего Иисуса Христа, Который подножием Своего страшного креста стер главу древнего змия. Аминь!»
Это был голос народного артиста России Владимира Заманского, который читал завершительные слова из проповеди Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), из его целительного слова «О борьбе с духами злобы поднебесными», произнесенного 12-го августа 1956 в Алуштинской церкви после литургии. Эта запись была сделана в начале 2000-х годов в библиотеке Московского Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя.
…Должен вам сказать, что это редкий случай в нашей «Закладке», – когда цитируемый голосом автора ли, актера – отобранный нами фрагмент текста, – не содержится в книге, которую мы сегодня представим. Редкий, но в данном случае, кажется, закономерный случай. Потому что выпущенный Московским Сретенским монастырем в замечательной серии «Подвижники благочестия XX века» сборник документов, составленный протоиереем Николаем Доненко и профессором Филимоновым, – сборник под названием «Разработку Луки продолжаем…» (это постоянная фраза из докладных записок Министерства Госбезопасности СССР) – не подвластен даже короткому цитированию.
Эти почти пятьсот страниц будничных доносов советских жандармов и уполномоченных по делам религии, – по моему впечатлению, жуткое, сюрреалистическое и в историческом смысле антропологическое чтение.
Что процитируешь из этих рассекреченных бумаг, думая о которых, жалеешь ту древесину, те деревья, которые пошли на их изготовление?
А завербованные этими идеологами осведомители (ведь кто-то из них, возможно даже и жив сегодня)? Что бы они сказали, – сообщи им достоверно, что спустя без малого сорок лет после кончины архипастыря, он будет причислен к лику святых как святитель и исповедник?
…Но читать это всё – необходимо, хотя временами хочется себя ущипнуть: да было ли такое, да говорили ли таким языком, да относились ли так к людям, пусть и облаченным в чуждые для служителей-идеологов парчовые одежды? Было.
И время было особое: тот самый новый накат на церковь, после относительного примирения с нею в военное и послевоенное время; время, когда Хрущев пообещал показать по телевизору «последнего попа».
И вот, читая сборник, я неотступно думал о том, что эти дремуче-косноязычные, бюрократические бумаги всё же – каким-то своим, таинственным образом – свидетельствуют нам, верующим и тянущимся к вере – об Истине, о силе Слова Христова. О святости величайшего из наших современников – врача человеческого и врача духовного, страдальца, познавшего через свои страдания – Бога.
О Святителе Луке (Войно-Ясенецком).
Невероятно, что сохранились две уникальных записи его голоса, голоса святого. Техническое их качество не поддаётся оценке, слышно еле-еле, но слышно. Давайте вместе поклонимся составителям сборника этих документов и вместе послушаем голос Святителя.
Сначала я прочитаю этот фрагмент – сам, для облегчения восприятия..
Вот – завершительная часть из слова «О преображении Господнем», – произнесенного 14 августа 1956 года на даче в Алуште. Говоря вослед Спасителю (Евангелие от Луки) о малом стаде, о том, что нельзя отчаиваться, об ободрении и утешении этого малого стада в день Второго пришествия, – тогдашний предстоятель Русского православия на Крымской кафедре, святой целитель Лука Войно-Ясенецкий сказал:
«…Будем же, братья и сестры мои, жить так, чтобы быть достойными в этот страшный час восклониться, с великой радостью восклониться. Ибо приблизилось избавление наше. Будем же достойны этого и не будем унывать. Аминь!»
Это был голос святого целителя Луки (Войно-Ясенецкого), фрагмент уникальной аудиозаписи 1956-го года.
12 декабря. О подвиге Святого Авива

Сегодня 12 декабря. День памяти священномученика Авива, епископа Некресского, жившего в шестом веке.
О его почитании — священник Стахий Колотвин.
13 преподобных ассирийских отцов, которые спустя два века после равноапостольной Нины, можно сказать, заново просветили Грузию, которая погрязла в суевериях, которая была под персидским владычеством, и насаждалось зороастрийство, и поэтому многие люди из страха отступили от Христа. Пришли, поселились в монастыре, в одном Зедазени, на горе, на высокой, а потом разошлись по разным уголкам Грузии. И вот на восток пошёл преподобный Авив Некресский.
Тем не менее, в отличие от большинства преподобных отцов ассирийских, он почитается не в лике преподобных. Почему? Потому что он был избран епископом. Это было время, когда Грузия — сильное государство, пусть и маленькое — в эпоху равноапостольной Нины была полностью покорена могущественной персидской державой, и поэтому, как вот новомученики и исповедники в XX веке, кто становился епископом в годы советских гонений, уже подписывали себе смертный приговор, так и три преподобных отца ассирийских стали епископами, но только один из них — Авив Некресский — стал мучеником, пострадал за Христа. И его тело за такой великий подвиг было абсолютно нетленным, что даже и звери, и птицы его не тронули. Его смогли предать погребению, но уже не в родном Некресском монастыре на кахетинских солнечных склонах, а в центральном грузинском монастыре Самтавро, где покоятся мощи первых православных грузинских царей Мариана и Наны.
Все выпуски программы Актуальная тема
12 декабря. О творчестве Владимира Шалинского

Сегодня 12 декабря. В этот день 100 лет назад родился композитор Владимир Шаинский.
О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.
Отказать в талантах Владимиру Шаинскому никак нельзя. Благодаря его оптимизму жизненному, юмору, умению с детьми говорить детским языком он достиг такой степени известности и популярности, которая современным песенникам и не снилась. «Крокодил Гена», «Чунга-Чанга», «Облака — белогривые лошадки», «Дождь пойдёт по улице», «Старуха Шапокляк», «Не плачь, девчонка», «Птицы счастья завтрашнего дня», «Уголок России», «Отчий дом» — эти произведения исполнялись миллионами, слушали — десятками миллионов, и все они родились в сердце человека, который никогда не унывал и стремился видеть светлую сторону жизни, не склонен был к депрессии, к негативу. «Именно по плодам познаётся всякое древо», — говорит Спаситель. Возможно, Владимир Шаинский был человеком далеким от Церкви, но и поныне дети всех наций, званий, состояния, а значит, и крещёные детки влюблёнными глазами смотрят, как по лужам шагает Крокодил Гена, как Чебурашка распевает добрые песенки, и мы с вами не можем не отдать дань песенникам той уже ушедшей культуры, которые много потрудились для созидания человеческой души, её веры в добро, взаимопомощь, товарищество, а значит, помогали человеку стать личностью.
Все выпуски программы Актуальная тема
12 декабря. О заповедях Божьих как основе гражданского закона

Сегодня 12 декабря. День Конституции Российской Федерации.
О заповедях Божьих как основе гражданского закона — протоиерей Михаил Самохин.
Наше Отечество получило представление о правовой системе из Византии вместе со Святой Православной Верой. И хотя «Русская правда» и соборные уложения средневековой Руси, конечно, не кодекс Юстиниана, смысл заложенных в них установлений также имеет в своей основе отсылку к заповедям Божиим как к основе всякого закона.
Сама идея человеческого достоинства основана на том, что человек сотворён по образу Божию, а право на жизнь и правосудие основаны ещё на Ветхозаветном, Моисеевом законе и других установлениях Священного Писания. Самое же главное христианское основание любого закона заключается в самой вере в то, что помимо земного суда есть Суд Божий, который невозможно оспорить, а решение которого сколь милостиво, столь и справедливо. Будем же помнить об этом и стараться реже нарушать законы, земные и небесные.
Все выпуски программы Актуальная тема













