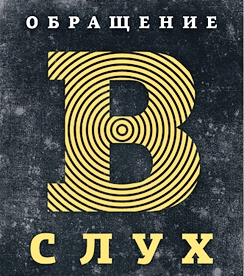 «…Я, можно сказать, была очень невлюбчивая. А богатые много заглядывали. Только я не хотела, например, за богатого замуж, потому что у меня ничего не было. У меня двое штанишек было и рубашечка – или одна, или две. Ну, лапти, может. И всё. Не, косы у меня были! Косы у меня хорошие были.
«…Я, можно сказать, была очень невлюбчивая. А богатые много заглядывали. Только я не хотела, например, за богатого замуж, потому что у меня ничего не было. У меня двое штанишек было и рубашечка – или одна, или две. Ну, лапти, может. И всё. Не, косы у меня были! Косы у меня хорошие были.
У меня красота была, все было на месте, и за мной много-много гонялись ребята, много. И журналисты мне находились. Переделкино-то – это же журналистика.
Я на танцы пошла, и журналист ко мне привязался. Ну, познакомилися, через три дня назначили с ним свидание, он привел мене к своим друзьям к журналистам. Привел меня – а там здание-то большо-ое такое!.. двор большо-ой такой!.. Ведет, а я боюся!.. Он привел, а там сидят нога за ногу, культурные такие, красивые, разукрашенные, курят!
Я посмотрела: нет, это мне не годится. Ну, я как-то туды, сюды и за поворот. Он-то думал, может, я в туалет, или мало ли я чего. А я выбежала – как дунула бегом! А он кричал-кричал, а я бегу-бегу – а потом уже калитку открыла, закрыла калитку и помахала рукой. И всё, и на этом конец».
Это был голос писателя Антона Понизовского. Звучал фрагмент из его дебютного романа «Обращение в слух», из книги, вызвавшей довольно бурную реакцию, как читателей, так и критиков.
Меня эта книга тоже сильно взволновала.
…В отеле швейцарского городка четверо соотечественников горячо беседуют о самом главном и больном, о русской душе. В компании – два гуманитария. Один – правда, бывший ученый, а ныне – состоятельный интеллектуал-западник, застрявший в гостинице после катания с гор; другой – явно человек верующий, капельку не от мира сего, обрабатывает для западного лингвистического проекта аудиозаписи исповедальных монологов тех или иных жителей России.
Тех, кого принято называть «обычными», «простыми людьми».
И еще здесь две женщины: юная, случайная, загадочная Лёля и зрелая, жена западника – Анна.
Разговаривают все эти люди под прослушивание тех самых аудиозаписей.
Есть у романа и пятое действующее лицо – Достоевский, который явлен и в бесконечном поминании имени, и в цитировании, и в споре-разборе. …И даже – в проекции героев оттуда – на героев отсюда. Ну, то есть, как если бы схватились Федор Карамазов и Смердяков в одном лице (западник-бизнесмен Белявский) с князем Мышкиным и Алёшей Карамазовым (филолог Федор) – в другом.
Повторюсь, всё густо пронизано историями из жизни, (в основном, очень горькими и даже страшными).
Впрочем, вы-то сейчас слышали короткую и невинную.
В самом конце романа филолог Федор говорит открывшейся ему Лёле – самое своё главное, заветное. Он шел к этой главной своей догадке мучительно-долго, шёл-шёл и дошёл.
«Эти истории, которые нам рассказали, вообще все эти люди – такое богатство. Такая сказочная пещера. Как будто приданое нам с тобой. Все живые.
А мы их не слышали. Мы их перебивали, пытались их интерпретировать, объяснять. Мы жалели их. А я теперь думаю: может быть, даже не надо сразу жалеть. Чуть попозже: жалеть, возмущаться, сочувствовать – но сначала услышать. Такими, как есть.
Это самое важное: не такими, как хочется, не придуманными – а такими, как есть. Просто слушать. Заставить себя замолчать».
Я уже говорил, что в наше совсем не литературное время книга Антона Понизовского «Обращение в слух» встряхнула многих.
Одним из первых её, еще в рукописи, читал литератор Виталий Каплан. В его отзыве есть особенный пассаж. «Автор не столь наивен, чтобы предлагать читателю ту или иную форму её разгадки русской души. Разгадки нет, но проговорены вещи, может, даже более важные, чем сама эта разгадка. Например, что такое подлинная любовь, в чем заключаются прощение и понимание, можно ли воспринимать спасение и погибель в черно-белой, двоичной логике; является ли посмертная судьба человека – простой суммой его грехов и добродетелей, или все сложнее…»
«И что еще для меня важно, – говорится в том отклике, – “Обращение в слух” разрушает незримую, но вполне реальную границу между мирами литературы православной и светской».
Признаться и для меня, это было и остается крайне важным. Не говоря о том, что в лицо собственному народу нам с вами удается взглянуть не так уж часто.
Не говоря – услышать.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

Апостол Павел. Худ.: Джованни Франческо Барбьери
1 Кор., 130 зач., IV, 1-5.

Комментирует священник Стефан Домусчи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Заповедь не судить — одна из самых сложных, ведь мы постоянно только и делаем, что оцениваем поступки других людей. «Тот плохой, а этот хороший», — говорим мы. И ведь кажется, что всем, кто хоть мало-мальски знаком с Евангелием, ясно, что Господь подобные оценки запретил... Но не Он ли при этом дал нам зрение, и, если мы видим явно неправильные поступки, как же смолчать? Ответ на этот вопрос даёт апостол Павел в отрывке из 4-й главы 1-го послания к Коринфянам, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
Глава 4.
1 Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих.
2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным.
3 Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе.
4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.
5 Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога.
Существует масса историй, в которых главное действующее лицо сначала всеми осуждается, а потом всеми же оправдывается. В светской жизни самым ярким примером может быть врач, в экстренном порядке проводящий трахеостомию, то есть разрезающий горло задыхающемуся человеку. Люди, не знающие всех обстоятельств дела, могут решить, что перед ними преступник, напавший на беззащитного прохожего. В жизни религиозной есть масса примеров святых, которых при жизни обвиняли в безнравственности, например, в том, что они общались с блудницами, а после их смерти выяснялось, что они беседовали с ними о покаянии и призывали их к спасению. Да и что далеко ходить: в этом обвиняли самого Спасителя.
В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел призывает учеников к доверию. Коринфяне видели перед собой разных проповедников — Павла, Аполлоса, Петра — и делились на партии, представители которых предпочитали одного из них, а других осуждали. Апостол Павел просит их видеть в каждом служителя Христова, пусть и действующего по-разному. Все они, проповедуя, старались оставаться верными Учителю и это для них самое главное. У них не было цели оправдаться перед лицом всех, и они не бросались от одного к другому, объясняя свои поступки. В конце концов, любой, кто пытался оправдываться перед лицом толпы, знает правдивость поговорки «на каждый роток не накинешь платок». Всегда найдутся люди, которые будут говорить за спиной. Однако Павел не хочет, чтобы подобными вещами занимались его ученики. Почему он и призывает их в итоге «не судить». Причём, особенно важно, что он и сам до конца себя не судит, не выносит о себе окончательного решения. Казалось бы, сам-то себя человек должен знать, почему хотя бы о себе он не должен выносить суда? Для апостола очевидно, что человеческий суд, даже обращённый на себя, не будет объективным, потому что человеческое знание не полно. Впрочем, это не означает совершенного отказа от оценки своих действий. Отнюдь! Апостол старается жить так, чтобы не видеть за собой никаких порицаемых поступков, но он не считает себя безгрешным. Он не выносит окончательного суда, предавая его в руки Божии.
Именно так стоит действовать каждому из нас. Естественно, явно греховных поступков стоит избегать, к явно добродетельным поступкам стоит стремиться, но окончательного суда о себе не выносить, понимая, что мы к нему не способны. Причём не только по отношению к себе самим, но и к другим людям. Явно греховные поступки, конечно, бывают и порой нам приходится давать им оценку, как было в самом Коринфе в известной истории с кровосмесителем. Но оценка поступка не должна превращаться в оценку человека, сердце которого открыто только перед Богом. Ситуации бывают разными, и, если человек работает судьёй, и поставлен судить чужие дела, ему стоит быть максимально объективным, честным и справедливым… Но в большинстве случаев от нас никто не ждёт никаких оценок и правильнее будет просто молиться о тех, кого мы считаем согрешающими, предав их в руки Божии.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Праведный Иоанн Кронштадтский о жизни сердца». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наша ведущая Кира Лаврентьева вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе книги святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» размышляли о том, что значит жить сердцем, каким образом христианин может заботиться о чистоте сердца и почему это важно, а также как грех может влиять на внутреннее состояние человека.
Ведущая: Кира Лаврентьева
Все выпуски программы Почитаем святых отцов
Светлый вечер с Владимиром Легойдой

Гость программы — Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ.
Темы беседы:
— Итоги общемосковского крестного хода;
— Памяти Азы Аликбековны Тахо-Годи;
— Образование как подготовка к будущему;
— Слом иерархии в культуре;
— Планы установить памятник В.Ерофееву в Петушках;
— Понятие «монастыринг» — почему появилось и чем отличается от привычного трудничества и паломничества.
Все выпуски программы Светлый вечер








