 С раннего утра у серого здания Томской городской тюрьмы толпился народ. Кто-то шёл сюда узнать об участи своих близких, кто-то нёс родным, попавшим в заключение, продуктовые передачи. Начался тысяча девятьсот двадцатый год – год «красного террора» с его массовыми арестами по сфабрикованным обвинениям в антисоветской деятельности. Тюрьмы страны не вмещали всех осуждённых, а попасть под чудовищный в своей жестокости молот мог любой, абсолютно ни в чём не повинный человек. Особенно, если он был верующим…
С раннего утра у серого здания Томской городской тюрьмы толпился народ. Кто-то шёл сюда узнать об участи своих близких, кто-то нёс родным, попавшим в заключение, продуктовые передачи. Начался тысяча девятьсот двадцатый год – год «красного террора» с его массовыми арестами по сфабрикованным обвинениям в антисоветской деятельности. Тюрьмы страны не вмещали всех осуждённых, а попасть под чудовищный в своей жестокости молот мог любой, абсолютно ни в чём не повинный человек. Особенно, если он был верующим…
В хвост длинной очереди у окошка для передач встала хрупкая девушка в косынке, аккуратно повязанной на пышные тёмные волосы. Приём шёл медленно – казалось, за три с половиной часа очередь не продвинулась ни на сантиметр. Но вот, наконец, подошёл черёд девушки в платке. Она протянула в окошко большой мешок с хлебом, крупой, маслом, кое-какой одеждой.
- Кому передача? – строго и резко спросили из окошка.
- Разделите между теми, кто передач от родственников не получает, - попросила девушка. – И вот ещё… - она достала из кармана несколько денежных купюр. – Это тоже включите в передачу.
- Ваша фамилия! – ещё строже прозвучало из-за мутного стекла.
- ГрИмблит, - ответила девушка. – Татьяна Николаевна Гримблит.
Таня Гримблит родилась в небогатой, но очень дружной, благочестивой семье. Символично, что день её рождения – четырнадцатое декабря – совпал с памятью святого Филарета Милостивого, который был известен своим состраданием и помощью обездоленным. Родители Татьяны были простыми служащими, а дед – священником Русской Православной Церкви. Глубоко верующей, воспитанной на евангельских идеалах, выросла и Таня.
Поэтому, даже после революции семнадцатого года, когда Церковь подверглась гонениям, а священнослужителей и верующих новая власть поставила в положение изгоев общества, Татьяна от веры не отступила.
Ей было восемнадцать, когда в тысяча девятьсот двадцать третьем году она устроилась воспитательницей в томскую детскую колонию. Дети Татьяну сразу же искренне полюбили, а вот коллеги, напротив, отнеслись к слишком «добренькой», на их взгляд, воспитательнице, с подозрением. А когда случайно узнали, что всю свою зарплату Гримблит тратит на передачи для ссыльных и заключённых, и вовсе опешили.
- Танька, тебе что, больше делать нечего?! Пошла бы лучше, платье себе красивое купила – а то ходишь в каком-то старье, - язвительно укоряли её коллеги.
Но Татьяна предпочитала одеваться скромно, а зарплату продолжала жертвовать нуждающимся. Когда в лютый мороз она отправилась в соседний Иркутск, чтобы передать деньги и продукты находящимся там в пересыльной тюрьме священнослужителям, её арестовали.
Это был первый арест в жизни Татьяны Николаевны Гримблит. Потом их будет ещё четыре, и все – по обвинениям в антисоветской деятельности и церковной пропаганде. Но ссылки и лагеря не сломили христианского духа милосердия этой женщины. После каждого своего освобождения она возобновляла помощь заключённым.
Вот слова самой Татьяны Гримблит, зафиксированные в протоколе допроса во время её очередного ареста:
«С тысяча девятьсот двадцатого года я оказывала материальную помощь ссыльному духовенству, и вообще ссыльным, находящимся в Александровском централе, Иркутской и Томской тюрьме и в Нарымском крае. Средства мной собирались по церквям и городу, как в денежной форме, так и вещами и продуктами. Я оказывала помощь священникам и мирянам; вообще заключенным, не уточняя причин их заключения».
Шестнадцать лет продолжалось самоотверженное служение Татьяны Гримблит обездоленным, попавшим в беду и безвинно страдавшим людям. В тысяча девятьсот тридцать седьмом году, во время последнего – пятого – ареста, её приговорили к расстрелу. Однако общая могила на Бутовском полигоне не смогла скрыть благодарную память о той, которую в страшные годы гонений на веру называли «новым Филаретом Милостивым». В две тысячи втором году Татьяна Гримблит была прославлена Церковью в числе святых новомучеников и исповедников Российских.
Псалом 124. Богослужебные чтения

Вы никогда не задумывались, почему горы — такие манящие? Причём любые: и совсем невысокие, до километра, и пятитысячники — не говоря уже о самых высоких, недостижимых для неподготовленного вершинах. Как сказал поэт, «Сколько слов и надежд, сколько песен и тем // Горы будят у нас — и зовут нас остаться!» 124-й псалом, который сегодня звучит в храмах за богослужением, многократно обращается именно к глубокой символичности гор для верующего человека. Давайте послушаем этот псалом.
Псалом 124.
Песнь восхождения.
1 Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек.
2 Горы окрест Иерусалима, а Господь окрест народа Своего отныне и вовек.
3 Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простёрли рук своих к беззаконию.
4 Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих;
5 а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля!
Нет ничего удивительного в том, что уже на самой заре человечества гора воспринималась как особое, священное пространство, где происходит соприкосновение небесного и земного. На горе Синай Моисей получает от Бога заповеди; на горе Фавор преображается Христос перед учениками; да и про Олимп как не вспомнить.
Сама по себе гора очень многозначительна: с одной стороны, её огромное, мощное основание — «подошва» — придаёт ей устойчивость, непоколеблемость. С другой стороны, тонкая, словно игла, вершина, буквально впивается в небо. Тот, кто хотя бы раз в жизни стоял на такой вершине, никогда не забудет абсолютно ни с чем несравнимого ощущения одновременной устойчивости — и воздушности, невесомости — когда перед твоим взором открываются величественные горизонты.
Удивительная вещь: казалось бы, когда мы летим на самолёте, мы видим ещё более далёкий горизонт — а всё же это вообще не то: только стоя ногами на вершине, ты испытываешь исключительный, всеобъемлющий восторг особого предстояния перед бытием.
Для многих древних культур гора — это axis mundi, космическая ось мира, соединяющая высшие и низшие миры. И именно поэтому на вершинах гор строились храмы, организовывались те или иные святилища.
Если мы вспомним самые древние жертвенники, о которых повествует книга Бытия, — это тоже будут «микро-горы», сложенные из камней — на вершинах которых и совершались жертвоприношения.
Прозвучавший сейчас 124-й псалом ещё глубже развивает тему символизма горы: он говорит о том, что «надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек». Гора для верующего становится не только внешним образом духовного вдохновения, но и наглядным примером того, как может ощущать себя сам человек, когда его голова, его мысли — всё то, что и отличает его от животного, — устремлены к Небу. И неспроста греческое слово «ἄνθρωπος» — состоит из двух основ: ἄνω означает «вверх» и θρώσκω — «смотреть, устремляться, прыгать». Смотря на гору, мы словно бы снова и снова задаём себе вопрос: а есть ли во мне задор подняться на вершину — или я всего лишь хочу так и остаться распластанным у её подножия?..
Псалом 124. (Русский Синодальный перевод)
Псалом 124. (Церковно-славянский перевод)
Псалом 124. На струнах Псалтири
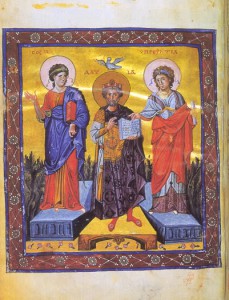 1 Надеющиеся на Господа подобны горе Сиону; не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме!
1 Надеющиеся на Господа подобны горе Сиону; не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме!
2 Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки.
3 Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию.
4 Даруй, Господи, блага тем, кто добр и праведен сердцем!
5 А людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь. Мир Израилю!
9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня 9 мая. Об особенностях богослужения в День Победы в Великой Отечественной войне — игумен Лука (Степанов).
Празднование Дня Победы оказалось 9 мая не сразу по завершении Великой Отечественной войны. Уже во времена послесталинские, когда потребность напоминать народу и молодому поколению о великом подвиге нашего народа была особенно ясно ощутимой. А в 1994 году уже решением Архиерейского собора было установлено совершать, начиная с 1995 года, по всем храмам Русской Православной Церкви особое богослужение после Божественной литургии, где за ектенией сугубой и сугубое прошение об упокоении душу свою положивших за свободу нашего Отечества. А вот после литургии совершается благодарственный молебен за от Бога дарованную победу, и после нее заупокойная лития. Подобная традиция упоминать почивших воинов и со времен преподобного Сергия Радонежского в нашем Отечестве, когда и на поле Куликовом сражавшиеся и погибавшие наши воины были тоже мгновение поминаемы святым старцем, видящим препровождение их душ на небо ко Господу. И всегда о своих героях молилось наше Отечество и Русская Церковь.
Все выпуски программы Актуальная тема








