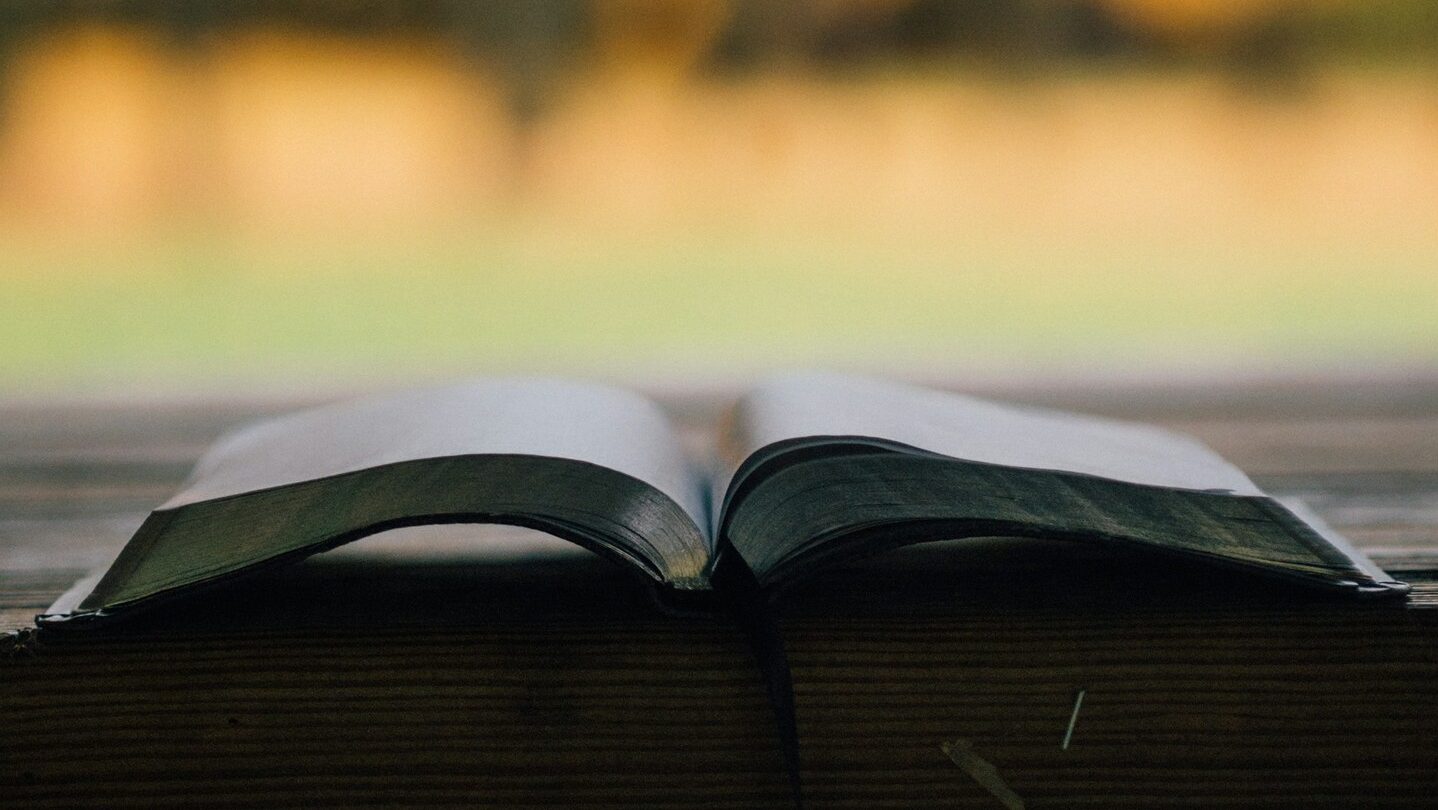
Фото: Aaron Burden/Unsplash
«...Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. Пять лет назад он открыл путь непростительному греху — отчаянию, но теперь возвращался туда, где родилось его отчаяние, со странно легким сердцем, ибо перешел за рубеж самого отчаяния.
Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище: „запойный поп“. Но все падения улетучивались у него из головы. Втайне груз его проступков где-то накапливался. Когда-нибудь думал он, они окончательно заглушат источник благодати. Пока же он продолжал нести его с приступами страха и усталости, с беспечным легкомыслием.
Разбрызгивая грязь, мул перешел поляну, и они снова углубились в лес. То, что священник больше не отчаивался, конечно, не означало, что проклятие с него снято. Просто тайна постепенно становилась слишком непостижимой».
Это была архивная запись: голос священника, отца Александра Меня, запечатлевшего в авторском чтении свой перевод знаменитого романа «Сила и слава», — пера английского писателя Грэма Грина, — писателя, пережившего своего русского переводчика и благодарного читателя всего на один год.
Грэм Грин выпустил свою книгу в годы второй мировой войны, в 1940-м, а в нашей стране если не считать «самиздата», — её выпустили по-русски в середине 1990-х.
Роман рассказывает о жестоких событиях в далекой Мексике, когда в начале прошлого века к власти в стране пришли непримиримые враги христианства, когда открытая духовная жизнь контролировалась столь жестоко, что за нее нередко приходилось платить жизнью физической. Губернатор того южного штата, в границах которого развивается сюжет романа, решил пойти дальше других, искоренить христианство полностью и как можно быстрее. Конечно, он знал, что многие крестьяне и горожане тайно исповедываются и причащаются, на священников была объявлена настоящая охота — с хорошим вознаграждением для доносчиков. Те же из духовных лиц, кто был временно «узаконен» (в кавычках) властью — были унижены беспредельно, например, насильственным браком.
У героя, о котором вы слышали, в романе нет даже имени, — да оно и не нужно. Он бежит внутрь страны, все дальше и дальше, бежит к людям, но не в силах бежать от своего греха — памяти о мимолетной связи с женщиной в минуту отчаяния, от пристрастия к запрещенному алкоголю, от бесконечных, наползающих друг на друга минут и часов уныния. Конечно, он мог бы вступить в брак, потерять свое священство, но обрести спокойную жизнь. Но он еще верит в Бога, еще верит в своё служение, в свой долг, и он бежит к людям.
Оказываясь на краю гибели, он с изумлением видит, как крепка вера у его соотечественников, — ведь крестьяне не выдают своего «запойного попа» даже под страхом смерти. Он не видит себя проповедником, но он видит свою слабость, осознает свой грех и, когда Господь подводит его к тому, чтобы омыть его грехи кровью, окончательно прозревает в торжестве Христовой Истины.
Пусть и в тюремной камере, пусть и в утро своей казни.
«Когда он проснулся, светало. Он очнулся, полный безграничного чувства надежды, которое мгновенно и полностью покинуло его, едва только он увидел тюремный двор. Это утро его смерти. Он скорчился на полу с пустой фляжкой из-под бренди в руке, пытаясь вспомнить покаянную молитву...
Слёзы текли по его лицу в этот момент он не страшился даже вечного осуждения. Даже страх боли отступил на задний план. Он чувствовал только безмерное разочарование из-за того, что предстанет перед Богом с пустыми руками, что он ничего не сделал. В этот миг ему казалось, что стать святым было так просто — нужно лишь немного самообуздания, немного мужества. Он чувствовал себя как человек, упустивший свое счастье лишь потому, что опоздал на несколько секунд прийти к назначенному месту.
Теперь, в конце, он знал, что важней всего — только одно: быть святым».
Нередко, признаюсь вам, когда отчаяние овладевает мною, я вспоминаю этого бесконечно запутавшегося и бесконечно счастливого героя. И лучшей частью своей души понемногу открываю понимание того, почему третья, самая важная часть Божественной Литургии называется Литургией верных.
И о том, конечно, как это трудно, но и как очистительно — сознавать свой грех
19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».
О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.
Все выпуски программы Актуальная тема
19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева


Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.
О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.
Все выпуски программы Актуальная тема
19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.
О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.
Все выпуски программы Актуальная тема















