
У нас в гостях был заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян.
Мы говорили с нашим гостем о том, как сочетается христианская позиция с работой в светских СМИ и что для него значит быть христианином в современном обществе.
И. Цуканов
— Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Вечер воскресенья». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева —
К. Лаврентьева
— Добрый вечер.
И. Цуканов
— Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Кирилл Харатьян —
К. Харатьян
— Добрый вечер.
И. Цуканов
— Заместитель главного редактора газеты «Ведомости». Как всегда, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин и общество». То есть это целый...
К. Харатьян
— Как трудно жить христианину (Смеется.) в нынешнем обществе.
И. Цуканов
— И как трудно обществу жить с христианами иногда. (Смеются.) Наверное, первое, с чего я хотел бы начать — мы находимся на территории Андреевского монастыря... (Я сразу скажу, что, поскольку мы с Кириллом знакомы довольно давно, то мы будем на «ты» общаться, не на «вы».) На территории Андреевского монастыря мы находимся, а у тебя ведь с этим монастырем связан, если не ошибаюсь, какой-то значительный этап твоей церковной жизни. Не мог бы ты об этом рассказать?
К. Харатьян
— Да. Не знаю, слово «удовольствие» не подойдет никак — я долгое время был прихожанином отца Иоанна Вавилова, в Крапивенском переулке он служил. Он был совершено замечательный. То есть он и есть, просто он в какой-то момент перестал служить, по здоровью. И мы стали искать, семья моя, стали мы искать какого-то места, куда бы нам ходить за окормлением, так сказать.
И. Цуканов
— После того, как он перестал служить?
К. Харатьян
— Да, он перестал служить, там пришел новый настоятель. Не то, что он был плохой или что-то, но просто отец Иоанн совершенно особенный пастырь, это надо отметить. Масса с ним связанных историй. Самая лучшая — такая (на мой взгляд, хорошо его характеризующая). Я в какой-то момент уж очень скверно провел Великий пост. И стоял к исповеди. Надо понять чувства — Великий четверг, и весь внутри просто как резина. Набрал воздуха: сейчас буду батюшке рассказывать, что там получилось в продолжение поста. Он на меня посмотрел внимательно, говорит: «Падал?» Я говорю: «Падал, батюшка». Опять набираю воздуха, чтобы продолжить, а он говорит: «Ну, вставай». (Смеется.) Под епитрахиль. Он вот как-то так относился к своему делу. С одной стороны, нельзя сказать, что он был такой нестрогий батюшка — он очень, надо сказать, в каких-то вещах въедливый, подробный и неотвратимый такой совершенно. С ясным пониманием того, что он делает, почему он делает. И с полной готовностью брать на себя ответственность в таких ситуациях, в каких не всякий священник на себя ответственность возьмет. В общем, трезвый, ласковый и замечательный совершенно человек. Большая была утрата для меня, когда он перестал служить. И вот после такого священника трудно найти себе пристанище новое. И вот Андреевский монастырь появился. Он тогда еще не был монастырь, это был приход. Тут был отец Борис, отец Христофор, замечательный совершенно английский человек. И отец Александр Троицкий. Я не знаю, служит ли кто-нибудь из них по сию пору здесь. Но, в общем, это тоже была замечательная компания священников. С отцом Христофором я впервые встретился с интересным способом принятия исповеди — когда батюшка ничего не говорит, вообще ничего. То есть ты ему рассказываешь, а он кивает головой, слушает. И с первого раза меня взяла некоторая оторопь, потому что я привык к тому, что все-таки священник что-то такое, а то и бурно, как отец Иоанн, начнет тебе что-то втолковывать — какой-то смысл объяснять или там что-то. А тут — нет, полное молчание. А потом меня, что называется, ну, озарило: что, может быть, это такой важный способ для именно того человека, который исповедуется — ты ничего не слышишь в ответ, потому что ты, в общем-то, исповедуешься не отцу Христофору, а совершенно в другое место ты исповедуешься. А отец Христофор всего-навсего передатчик.
И. Цуканов
— Свидетель.
К. Харатьян
— Да, свидетель, передатчик, который... Ну, наверное, если бы ему надо было бы уж вовсю сказать, наверное, он бы сказал. Но так, в целом, он старался помалкивать.
К. Лаврентьева
— Кирилл, а как вы впервые познакомились с Православием?
К. Харатьян
— Впервые... Значит, когда мне было лет 11 или 10. Я из нерелигиозной семьи — вообще, ни в какой степени. То есть мать моя крестилась лет 60-ти, наверное, с чем-нибудь.
И. Цуканов
— Под твоим влиянием?
К. Харатьян
— Вряд ли под моим. Просто она очень дружила с отцом Валерием Степановым...
К. Лаврентьева
— Под его влиянием.
К. Харатьян
— Под его влиянием... Ну, дружила и дружит, продолжает. Это был Коктебель, советские времена, я человек уже немолодой. И там была такая, как бы сказать, диссидентская тусовка. Отчим мой едва не загремел в тюрьму в какой-то момент. Он был человек активных антисоветских взглядов, и окружение у него было такое же точно. И среди его друзей был ныне покойный Валентин Никитин, он довольно известный в дальнейшем стал православный деятель, он в каких-то издательских вещах участвовал и так дальше. И мы с ним... Да, и там, в кругу родителей моих, была такая забава, что ли, я не знаю, как это назвать — они собирались и ходили в походы по крымским горам, это было очень интересно. Вожаком был некий Дмитрий Дмитриевич Марков, который, мне кажется, до сих пор жив. Вот он-то как раз посидел за всякие свои антисоветчины разнообразные. И в этой компании был Валентин, с которым мы как-то сдружились, хотя была солидная разница в возрасте. И ходили, разговаривали. И он немножко мне стал рассказывать вообще абсолютно далекие от меня вещи, которые... Ну, теперь можно сказать, что это была какая-то катехизация отчасти немножко.
К. Лаврентьева
— О, эти диссидентские общества — сколько православных оттуда вышло.
К. Харатьян
— Да-да. Ну так, а что?
К. Лаврентьева
— Так и есть.
К. Харатьян
— Это было интересно прежде всего, это было совершенно что-то новое. Потом с Валентином мы расстались, то есть он куда-то уехал. И как-то это позабылось немножко. И сейчас мы вернемся, как ни странно, к Андреевскому монастырю. Дальше. Близкий друг моего отчима, Глеб Александрович Анищенко, он в дальнейшем был известен, как один из деятелей русского христианского движения, даже политическая партия такая была. А тогда он работал репетитором по литературе. И он стал меня готовить в университет. И поскольку он тоже был из диссидентов, он работал, сторожил гараж как раз вот здесь, в Андреевском монастыре. Здесь была какая-то автобаза.
И. Цуканов
— Как водится, в монастыре, а что еще здесь может быть?
К. Харатьян
— Это была автобаза. А я жил на Ленинском проспекте, дом 34. Тут 15 минут, может быть 10, ходьбы. И вот я сюда ходил заниматься литературой. Глеб Александрович мне очень много дал, потому что, благодаря его урокам я довольно скоро сам стал зарабатывать преподаванием литературы. И в какой-то момент у меня на личном фронте — ну, представьте себе, 16 лет человеку, какие-то могут быть личные фронты? — там просто грозы, шквалистый ветер, град размером с голубиное яйцо и так дальше. У меня была одноклассница, то есть она и есть. Какие-то бури у нас с ней были в отношениях. Я спал у нее на коврике возле входной двери в какой-то момент, в общем, всяко. Потом мы, что называется, сейчас есть такое слово «расстались». Это была совершеннейшая трагедия, я потерялся как-то. И в этой ситуации, сложной для меня, я потерял почву под ногами. Мать моя думала даже, что я немножко рехнулся в какой-то момент. Может быть, она...
К. Лаврентьева
— Была и права.
К. Харатьян
— Может, была и права. (Смеются.) Но важно то, что я вспомнил разговоры наши с Валентином. Тогда 4-5 лет от этих разговоров прошло до того эпизода, о котором я сейчас рассказываю. И что-то в тех его рассказах меня потащило вот в сторону рассуждений о том, как, собственно, устроена действительность — что в ней такого есть дополнительного, что не описывается материальной культурой или что-то... Сейчас хорошего слова не подберу, по-другому скажу: я очень с детства эрудированный мальчик, я много всякого читал. И старался всему найти объяснение. Вот в этой истории с любовными переживаниями я обнаружил, что некоторым вещам совершенно никакого объяснения нет. Ну, тогда я очень сильно на эту тему раздумывал: что же такое, как же так? И вообще, куда эта энергия вся, этой довольно сильной любви, потому что по-другому... Сейчас я бы, может быть, описал ее, как страсть, но тогда по-другому я никак не мог ее назвать — это любовь и всё тут. Ну, вообразите себе этот коврик... И, поскольку Глеб и Валентин между собой были приятели, я Глебу говорю: «Глеб Александрович...» А в свое время Валентин, когда мы с ним прощались, он уезжал, он мне сказал: «Решишь креститься, ты мне скажи, я тебя крещу». А Глеб мне говорит: «А зачем тебе Валентин? Я тебя и без всякого Валентина...» То есть «Вас», конечно, на «Вы». — «Я Вас без всякого Валентина прекрасно крещу». И мы договорились. И вот, значит...
К. Лаврентьева
— Крещу, это значит, отведу к священнику, который крестит?
К. Харатьян
— Да. Его духовником был на тот момент очень, ну, как это сказать, противоречиво знаменитый человек — отец Димитрий Дудко. Он же пострадал — сильно пострадал, как диссидентствующий пастырь. Потом было его «покаяние» (в кавычках это слово). В общем, он вернулся к служению в полном размере. Но от него какая-то часть паствы отвернулась из-за этого. В общем, какие-то у него были большие сложности. Всё это было до того, как я с ним познакомился. И я, конечно, проспал, разумеется. Но поскольку отец Димитрий крестил на дому — он дома освятил церковь небольшую и там крестил. И вот я у него там в его домашних обстоятельствах был крещен. Глеб меня, наверное, полтора часа ждал в метро. Тогда, как вы понимаете, никаких мобильных телефонов не было, и он не мог из метро позвонить. Сейчас это дикость. А тогда он просто тихо сидел, полтора часа меня ждал. А когда я наконец появился в рваном свитере, потому что я был хиппи такой, всякое-такое, и стал горячо просить прощения, он разулыбался и говорит: «Ты понимаешь, это всегда так».
И. Цуканов
— Хорошо, что вообще приехал.
К. Харатьян
— И дальше рассказал мне историю. Он же должен был купить мне крестик. И опять-таки это 1982-й год. Вообразить себе, что ты просто пришел в храм и купил крестик — нельзя, так не бывало. Там были большие сложности с приобретением вообще всего чего угодно. И он говорит: «Я тоже опоздал в то место, где я бы мог купить крестик. И метался там со скорбным видом, — говорит Глеб. — А потом одна старушка меня спрашивает: „А ты чего мечешься-то?“ — „Да вот, такое дело, крестить собрался“. Так она сняла с себя алюминиевый простенький крестик, отдала Глебу, говорит: „Ну, у меня еще есть дома, а ты ступай“».
К. Лаврентьева
— «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». Кирилл, а как изменилась ваша жизнь после крещения? И изменилась ли?
К. Харатьян
— Сразу после крещения она изменилась сильно, потому что я понял, что сейчас же я должен сделаться, ну, если не святым, то что-то похожее на это. То есть, уж во всяком случае, я не должен смотреть в сторону своей этой одноклассницы, ну и вообще, поведение мое должно быть совершенно особенное. Хватило меня примерно на неделю, надо сказать.
И. Цуканов
— Это довольно много.
К. Харатьян
— Да! (Смеется.) Тут надо отметить, что как-то так получилось, — то ли Глеб и отец Димитрий считали, что это само собой разумеющееся, то ли они позабыли, — я не имел понятия, вот в тот момент, о том, что христиане православные более-менее регулярно ходят в церковь, исповедуются и причащаются. Я об этом не имел никакого понятия. Почему-то так получилось, что Глеб мне об этом рассказал как-то сильно потом. То есть Пасха прошла, другая Пасха, кажется, прошла, и только после этого он меня в какой-то момент спросил: «Слушай, вот такое дело...» И дальше я узнал, что вообще-то говоря, как сказать, года два, а то и побольше времени... Конечно, побольше времени прошло, как бы сказать, вхолостую. И я, по прошествии той самой недели, обратно сделался совершенно никаким не христианином, а просто молодым человеком. И, к сожалению, примерно через год вот тот самый крестик алюминиевый я потерял при самых дьявольских обстоятельствах. И не буду я про это рассказывать, при каких. Ничего хорошего. И когда по завершении этого мероприятия я обнаружил, что на мне креста нету, то я понял, что на мне креста нету. И это меня тоже к каким-то, к сожалению, не к действиям, но, по крайней мере, к тяжелым размышлениям меня подвигло. Я должен сказать, что один из ключевых моментов, как мне кажется (мне, человеку, уже сколько-то пожившему), один из ключевых моментов для всякой личности, которая думает (даже не обязательно, может быть, эта личность воцерковлена или просто религиозна), для всякого человека очень важным моментом становится знакомство с тем фактом, что в мире существуют бесы — что они не просто существуют, а что они действуют. И многие или большинство людей, а, может быть, не большинство, не отдают себе отчета: откуда те или иные вещи, которые с ними происходят, возникают? Откуда этот гнев, эти страсти? Откуда это вообще берется? Человек, остынувший после такого нападения, в оторопь приходит, потому что: ну как, он ничего этого, может быть, вообще не имел в виду, это как будто бы не он был. И вот тот эпизод с крестом, конечно, не к такого рода рассуждениям (мне, молодому человеку, они тогда были недоступны), но какой-то все-таки, какой-то холодный душ, конечно, получил я на голову себе.
И. Цуканов
— Тут еще надо сказать, что в то время никаких книг и не было. И прочитать обо всем этом было негде — вот что рассказали, то и рассказали.
К. Харатьян
— Не было интернета.
К. Лаврентьева
— Не знаю, хорошо это или плохо.
К. Харатьян
— Это, конечно, плохо. Потому что...
К. Лаврентьева
— Не было никакой возможности получить информацию.
К. Харатьян
— Да. Но постепенно как-то дело настроилось. Отец Димитрий служил сначала в Долгопрудном. Там в деревне Виноградово красивый очень храм XVIII века. Потом его оттуда тоже погнали. И он стал служить аж под Коломной, в деревне Пески. Потом с ним произошла такая, на мой взгляд, нелогичная перемена — он сделался почитателем Сталина. Тут мы с ним немножечко... Ну, не в том смысле, что мы с ним разошлись, не тот я человек, чтобы говорить о том, что какое-то я среди него имел какое-то значение — ну, один из прихожан просто. Но тем не менее, через какое-то время мы с ним просто потерялись, поскольку мне было сложно с этим смириться...
И. Цуканов
— Принять это.
К. Харатьян
— Да. Я считаю, что Сталин не имеет отношения к какому-то нормальному существованию. Но потом было какое-то время, так сказать, время безвременья. Я в основном ходил в Новодевичий монастырь — просто по принципу близости, ни почему другому. У меня не было там священника, даже я не вспомню, к кому я ходил к исповеди...
И. Цуканов
— Ко Христу.
К. Харатьян
— Да, совершенно верно. А потом... Мне хотелось бы это рассказать. В какой-то момент я работал в больнице — родительский знакомый взял меня на работу. Как раз меня выгнали из университета за неуспеваемость.
К. Лаврентьева
— Поясним для радиослушателей — Кирилл учился и получил медицинское образование.
К. Харатьян
— Да, я «медсестра». Так в дипломе пишется. Сейчас называется «медицинский брат», а тогда называлось «медсестра широкого профиля». Можете посмотреть: я в профиль довольно широкий. (Смеются.) Ну вот, я уже перестал работать в больнице, но человек, который меня взял на работу, Александр Анатольевич, доктор, чудесный человек, и тоже совершенно христианских взглядов и вероисповедания полностью православного. Он работал заведующим реанимацией, а я к нему за каким-то делом приехал — то ли полечиться, то ли спросить чего-то, то ли просто в гости. И я приехал, а там сидел отец Иван, с которым я тогда не был совершенно знаком. И меня удивило совершенно, как у этого человека глаза светятся. Ну, я думаю: ни фига себе, вот бывает же такое. Как-то поговорили, познакомились. Не прошло и месяца, как я пошел к бабке своей, на Арбате она жила, пошел ее навестить. Захожу в подъезд — навстречу мне идет отец Иван. Я говорю: «Здравствуйте, батюшка». За благословением. Он говорит: «Кирюша!» Господи, помилуй, — мы с ним один раз 10 минут повидались полтора месяца назад. И он меня, как родного. И, конечно... Ну, я потом обнаружил, что дело не во мне, а просто он ко всем совершенно людям так. И всё, я понял, что вот меня Господь привел.
И. Цуканов
— Сразу вспоминаешь эти слова: что никто не может уверовать, если не увидит в глазах хотя бы одного человека свет вечной жизни.
К. Харатьян
— Вот-вот.
И. Цуканов
— Владыка Антоний Сурожский часто это повторял.
К. Лаврентьева
— Кирилл, а вы помните свое первое Причастие? Вот после всех этих перипетий?
К. Харатьян
— Да, конечно помню. Я довольно долго исповедовался.
К. Лаврентьева
— Просто исповедовались?
К. Харатьян
— Да. А потом, как сказать... Потом подошел к Причастию, всё сделал. И такой, я бы сказал, силы у меня было волнение, что, наверное, я и не понял, что произошло. Я не знаю, как у кого, а вот с первого раза того впечатления, которое возникло, не всегда возникает. Но возникает иногда. Уж очень я трясся, трепетал и чувствовал себя, ну, правильно, чувствовал себя недостойным всего этого, всей этой благодати.
И. Цуканов
— Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Я напоминаю: у нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Меня зовут Игорь Цуканов. Мы вернемся в студию буквально через одну минуту. Не отключайтесь.
К. Лаврентьева
— Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». В студии мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор о пути христианина в светском обществе.
К. Харатьян
— Добрый вечер.
И. Цуканов
— Кирилл, прежде чем стать журналистом, ты, как уже мы обсудили, ты работал в медицине.
К. Харатьян
— Да.
И. Цуканов
— Довольно долго, как я понимаю. Вот поэтому мне бы хотелось вот какой вопрос задать. Медицина — это столкновение с человеческим страданием. Часто. Как тебе кажется... Ну, ты, наверное, стал церковным человеком в процессе, так сказать, работы.
К. Харатьян
— В процессе, да.
И. Цуканов
— В процессе, не сразу. Но вот это страдание, насколько... не то что бы часто, но можно ли сказать, что страдание человека действительно приводит к Богу — даже не того, который сам страдает и болеет, это отдельная история. А вот того человека, который наблюдает ежедневно, как болеют и страдают другие люди и который вынужден как-то объяснять для себя, почему это происходит. То есть, невозможно же, так сказать, этого ответа не требовать? Вот, часто ли, скажем, врачи, ну и вообще медицинский персонал, часто ли они об этом задумываются, о причинах, часто ли они становятся верующими людьми?
К. Харатьян
— Ну, мне кажется так, что... Трудно. Я сначала на вторую тебе отвечу. Трудно сказать мне по поводу того, что вот именно становятся. Я, пожалуй, не наблюдал сам. Может быть, в силу того, что я часто менял места работы, когда работал в больницах, я сам не наблюдал такого движения. Но знаю, что значительная доля врачей и медсестер — в продолжение своей работы — либо становятся христианами в полном смысле этого слова, не просто крещены. Либо двигаются в эту сторону или в сторону мистических каких-то размышлений, по крайней мере. Потому что, конечно, близкое касательство до смерти, оно человека очень настораживает, я бы такое слово употребил. Что касается лично меня. Я должен сказать, что я начал работать в кардиологической реанимации санитаром, то есть человеком без образования. И первые, наверное, 4 или 5 месяцев работы мне было вообще не до чего, потому что я очень жадно учился медицинским манипуляциям. Глядя из сегодняшних лет своих, я, наверное, даже скажу, что я не был особенно сострадательным — не в том смысле, что я не помогал, как полагается помогать. Но, пожалуй, та часть страдания, которая выпадала на долю этих людей, она по касательной только меня задевала — я не очень думал о том, как больно этим людям, как им неудобно. Вообразите себе — любая женщина это поймет: человек 19 лет с паклей на роже, а она лежит голая под простыней. И он подсовывает ей судно. Мне вообще в голову тогда не приходило, что у нее, у этой женщины, могут быть какие-то эмоции по поводу того, что я ее так обслуживаю, помогаю ей в чем-то. Потому что, я говорю: я был сосредоточен на совершенно других вещах. С одной стороны. С другой стороны, я начал работать, тогда это называлась Большевистская улица, а теперь, кажется, Большой Предтеченский переулок. Эта улица упиралась в Предтеченский храм на Пресне. И по дороге из больницы к метро я проходил всегда мимо этого храма. И поскольку чувствовал себя, что я христианин же, я туда иной раз и зайду. И это потом.
А вот про первый случай надо рассказать. Значит, я первый день работал. Ну, что такое кардиологическая реанимация? То никого нет, а то 8 человек приехало. А всего 6 мест. И кто-то лежит на каталке, кто-то что-то... Суета, что-нибудь обязательно разбили, беготня. Кто-то умирает, кого-то надо выписывать. В общем, совершенно полнейшая такая занятость. И вот среди всей этой занятости — лежит старушка на кровати: в платочке, прибранная, бледная. Ну, лежит себе и лежит. Я хорошо запомнил, как ее звали — Клавдия Ниловна. Ну, что-то там ей попить дал, опять-таки судно — какие-то обычные дела. И всё, смена моя закончилась, я вышел из больницы и, идучи мимо храма, думаю: дай-ка зайду, свечку поставлю. Уж очень она мне как-то пришлась — ее образ этот в платочке, спокойствие ее перед лицом всех этих предстоящих страданий или уже пережитых. Зашел, взял свечку. И вместо того, чтобы поставить ее куда-то о здравии, поставил ее прямо на упокойное место.
И. Цуканов
— На канун.
К. Харатьян
— Да, на канун поставил. Поставил и: ой, Господи? Что же я творю такое? Кошмар! Ну как, не переставишь же — ну, не знал, что делать. Ну, поехал домой. Утром приехал на работу, первым делом спрашиваю: «Как Клавдия Ниловна?» А мне как раз мой друг, доктор Александр Анатольевич, говорит: «Клавдия Ниловна померла, конечно. А ты иди в шоковую палату, там набуянил больной». А там, действительно, какой-то пьяница был, бедный. Пьяницы плохо реагируют на некоторые препараты, которые нужны при заботе об инфарктных больных. И он там натворил всякого — поразбивал, что-то такое. В общем, кровь, какие-то медицинские жидкости. Я часа полтора там возился с этим самым. Еще кроме того, я в процессе уборки разбил сосуд с фурацилином. В общем, добавил сам себе. И пока я это делаю, всё у меня крутится эта Клавдия Ниловна. И я потом вернулся в ординаторскую и говорю: «Александр Анатольевич, а что же такое, что она умерла? Вроде вчера была так спокойна». — «Так удивительно, что она вчера еще была жива, у нее такой большой инфаркт, что ей бы и жить не полагалось, шансов никаких не было». И это, может быть, очень длинный ответ на твой вопрос, но я хочу сказать, что вот этот переход — тут дело не в страдании. Тут переход от существования живого человека к существованию мертвого человека. Вот тогда он очень ярко у меня — ну, еще сопутствующие обстоятельства в виде моей ошибки со свечкой, — он тогда очень ярко у меня в голове как-то зазвучал. Я как-то стал гораздо лучше понимать — ну, для себя, я имею в виду. Я не готов на эту тему какие-то объяснения выдавать. Но как-то я гораздо лучше стал понимать, что существуют все-таки две разных реальности — одна «до того», а другая «после того». Как-то мне это стало вдруг...
И Цуканов
— Очевидно.
К. Харатьян
— Да, очевидно на тот момент. И еще хочу из того же примерно, ну, это попозже, наверное, я уже «медсестрой» был. Лежали два человека, обоим было по 72 года (я уже в другой кардиологической реанимации работал). Обоим было по 72 года, оба толстенькие, лысоватые, примерно одинаковые — вот как в сказке про три поросенка, они были похожие очень люди. То есть до такой степени они были похожи, что мы перепутали их кардиограммы.
К. Лаврентьева
— «Двое из ларца, одинаковых с лица».
К. Харатьян
— Да-да. Перепутали их кардиограммы. Даже варикозные вены у них на ногах были рисунком похожи... И один из них умер, а другой — нет. Ну, это бывает. И понятно, что, какая-то случайность... Но меня в очередной раз эта история заставила задуматься о том, что какие-то моменты Божьего Промысла, они... Просто надо посмотреть внимательно, глаза открыть — всё увидишь. Если тебе чего хочется увидеть, как говорится, тогда, пожалуйста — увидишь. Вот как-то вот так.
И. Цуканов
— Сейчас, когда ты уже много лет работаешь в журналистике.
К. Харатьян
— Скоро уже 30.
И. Цуканов
— Очень много, да. И это, как бы совсем, с одной стороны, другая работа — работа журналиста. Она немножко поверхностная в чем-то.
К. Харатьян
— Да.
И. Цуканов
— Хотя, кажется, что и наоборот, очень много узнаешь всего.
К. Лаврентьева
— В чем-то очень рефлексивная.
К. Харатьян
— Ну, я вот процитирую то, что говорил один мой друг. Он говорит, что журналист — это человек, который знает всё, но знает всё неправильно.
И. Цуканов
— Или, по крайней мере, очень поверхностно. Но вот, с другой стороны, это возможность иногда, как кажется, что-то такое важное, что ты понял сам, не то что научить, а вот поделиться с людьми. Хотя, может быть, журналистика для этого как раз и не очень подходящая профессия. Вот мне интересно, как ты на нее смотришь — как христианин, глазами христианина? Вот что ты думаешь о профессии журналиста? Чем она для тебя подходящая, скажем. Важна.
К. Харатьян
— Во-первых, надо сказать, что это работа со словом. И не сразу я в это въехал, конечно же. Но я и журналистом-то сделался случайно совершенно. Так получилось.
И. Цуканов
— Да мне кажется, что все хорошие журналисты сделались именно случайно.
К. Харатьян
— Но относительно быстро я понял, что это работа со словом, а слово все-таки для меня вещь важная. Все-таки, как-никак, я худой, но преподаватель литературы. Поэтому я более или менее понимаю значение слова и особенно, я бы сказал, русского слова. Поскольку сейчас это выветрилось, но в целом, русская журналистская культура, конечно, сильно отличалась от зарубежной. Здесь не будет никакой критики ни в ту сторону, ни в эту. Просто другой способ изложения... На русском языке просто другой способ изложения информации, чем на каких-нибудь, особенно на английском. Это и особенность синтаксиса русского в сравнении с английским или французским. И, как бы сказать, вообще особенность нарратива русского, который несколько более длинный, несколько более, я бы сказал, возвышенный. Уж, я не знаю, по каким причинам. И гораздо более образный, чем английский. Но я говорю, сейчас это повыветрилось, сейчас никто так не пишет. И, к сожалению, очень часто мы плодим уродцев таких англоподобных. Но это не хорошо и не плохо, это просто развитие русского языка — движение к какому-то более удобному его изводу. И с того момента, когда ты понимаешь, что ты работаешь со словом — если ты понимаешь, что за всякое слово тебе придется ответить, то здесь появляется, ну, появляется впечатление, что не надо действовать опрометчиво, скажем так. Можно же по-всякому повернуть сюжет, можно по всякому употребить эти самые слова. И очень соблазнительно, вообще говоря, что-то такое спрямить, где-то что-то чуть-чуть подоврать, так сказать, чтобы сюжетец вышел поярче, чтобы персонажи были более выпуклые. Потому мы же имеем дело в конце концов с теми же самыми сюжетами, с которыми имеет дело литература. Как кажется. В действительности, журналистика не должна иметь сюжет, не обязана иметь сюжета — она не обязана иметь драматургии по большому счету. То, что она обязана — она обязана сообщить те сведения, которые человеку, работающему журналистом, удалось собрать. И всё. И в этом полная и конечная сущность нашей специальности. Хотя, конечно, хочется — и хорошо понятно, как это можно сделать — хочется свою точку зрения туда как-то имплантировать. И при хорошем обращении со словом ты всегда это сделаешь. Дальше у тебя собственный к себе самому: а хорошо ли так? Или не очень хорошо? То есть, конечно, есть жанры типа колонок, где весь смысл этого жанра состоит в том, чтобы высказать именно свое собственное мнение.
И. Цуканов
— А колонки ты пишешь довольно часто и во многих местах.
К. Харатьян
— Я их больше тысячи написал. Началось это с того, что надо было зарабатывать деньги. Ну, как-то вот продолжается.
И. Цуканов
— Даже, наверное, несколько тысяч, мне кажется.
К. Харатьян
— Нет-нет. Наверное, тысячи полторы, что-то в этом духе. Но это неважно. В общем, смысл вот такой в журналистской работе.
К. Лаврентьева
— Кирилл, вы сейчас на самом деле очень важные вещи говорите о журналистской этике, потому что все чаще и чаще мы и наши коллеги об этом, к сожалению, частенько забываем. Но я хотела вот о чем спросить. Вы же не просто корреспондент, журналист, обозреватель, еще кто-нибудь — вы заместитель главного редактора очень авторитетного издания в стране. Это не какая-то малоизвестная газета или местечковое какое-то издание. Это авторитетное издание, это действительно деловая пресса.
К. Харатьян
— Да.
К. Лаврентьева
— И вы постоянно крутитесь, общаетесь в сфере деловых и политических взаимоотношений, с деловыми людьми, обсуждаете соответствующие темы. И как в этом во всем свете преломляется ваше православие? И как оно вписывается во всю эту деловую светскую, стопроцентно светскую картину?
К. Харатьян
— Слушайте, тут ведь совершенно простой ответ: православие гораздо больше, чем всё это вместе взятое.
К. Лаврентьева
— Естественно, конечно. Но как вам, как христианину, в этом во всем гармонично обитать и вписываться?
К. Харатьян
— Ну, во-первых, я скверный христианин, для начала. А, во-вторых, христианину везде удобно — какая разница-то, в каких ты обстоятельствах?
К. Лаврентьева
— Как раз не везде.
К. Харатьян
— Абсолютно везде удобно христианину. Потому что, как сказать, во-первых, у меня есть точное понимание — ну, мне хочется так думать, что у меня есть точное понимание того, что стоит делать, а чего делать не стоит.
К. Лаврентьева
— О совести, в общем.
К. Харатьян
— Ну, скажите «совесть». Я по-другому, другими словами это называю. Но неважно. Речь идет о том, что ты либо — ты, сам по себе — ты либо христианин, либо не христианин. Тут всё очень просто. Во всяком диалоге — с ребенком ты разговариваешь, в магазине ты общаешься, посетила тебя вспышка гнева в какой-то пробке. Где бы ты ни находился — ты везде христианин. Какая разница: разговариваешь ты с крупным предпринимателем, у которого миллиарды или ты разговариваешь с человеком, который просит у тебя на хлеб — разницы нет. Ты и в той ситуации должен был бы быть христианином — я, в смысле, не ты — я и в этой ситуации должен был бы быть христианином, и в той. От меня же зависит — христианин я или нет? Никак ни от какого — ни политического, ни делового человека — ничего во мне, по большому счету, не зависит, да? Если я пошел на компромисс, так это я пошел на компромисс, а не он. Вот и всё. Так что здесь ни малейшей нет разницы — работаешь ты в «Ведомостях», работаешь ты в саратовском каком-нибудь «Вестнике» или где еще.
К. Лаврентьева
— Это очень хорошо, что для вас разницы нет. Но если заострять вопрос, то...
К. Харатьян
— Заострите.
К. Лаврентьева
— Как складываются ваши отношения, например, с коллегами, которые вообще к церкви никакого отношения не имеют.
К. Харатьян
— Недавно мой коллега попросил меня не беспокоить его эсэмэсками с поздравлениями с церковными праздниками. Ну, попросил, я перестал. А так, я стараюсь поздравить с важными для меня событиями всех дорогих мне людей. Ну, как складываются? Нормально складываются, а чего?
К. Лаврентьева
— Это очень здорово, я тогда не буду дальше копать...
К. Харатьян
— А что здесь может быть? Бывают ли конфликты? Конечно, бывают. Я человек невоздержанный, гневливый и несправедливый. И могу наехать совершенно без повода. Вот я вчера поругался с девочкой за то, что она не понимала, как мне казалось, простейшей мысли. Зачем я на нее наехал, я вообще не понимаю — можно было всё это сказать спокойно, в трезвом виде. А вместо этого было совершенно что-то другое.
К. Лаврентьева
— И вот в такие моменты, когда христианин оказывается в светском обществе, при проявлении его естественных человеческих слабостей, это светское общество вполне может выдать: «А-а, а ты говорил, что ты верующий, что ты православный. Вот оно — твое истинное лицо».
К. Харатьян
— Истинное? А так и есть — это и есть мое истинное лицо. Или, точнее говоря, рожа. Чего уж тут...
К. Лаврентьева
— Что ж ты ходишь в храм, если...
К. Харатьян
— Да потому и хожу в храм, что там хоть иной раз постоишь, придешь в себя более-менее.
К. Лаврентьева
— Православие дает вам радость?
К. Харатьян
— Да конечно, конечно. Знаете, тут есть множество всяких моментов. Во-первых, бывают ситуации, когда просто совершенно накрывает теплая какая-то волна. И это короткие моменты, но они стоят того, чтобы про них помнить. Бывают моменты такого, я бы сказал, интеллектуального торжества. Вот внутреннего. Я не имею в виду ничего... Я вот с радостью хочу сказать, что есть книжки отца Гавриила (Бунге), может быть, вы их знаете, про самые насущные для человека вещи: про гнев, про обжорство, про уныние. Он даже не сам автор, он перетолковывает святого Евагрия, человека IV-го века, который сидел себе в пещере и смотрел на себя. И мне-то кажется, что нет больших людоведов, людей, которые понимали бы о людях, чем эти сирийские или египетские пустынники, которые проводили время в изучении себя самих и потом как-то умудрялись об этом рассказывать.
И. Цуканов
— У нас в студии Кирилл Харатьян. Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Кирилл — заместитель главного редактора газеты «Ведомости». И мы говорим о христианстве, о журналистике в том числе. Я все-таки позволю себе вернуться к теме журналистики, если можно. Все-таки очень часто журналиста, может быть, не очень хорошего журналиста, действительно подмывает что-то такое объяснить, связать какие-то факты — каким-то образом истолковать некие события, о которых он пишет. И я бы сказал, что даже при общей установке, что ты не должен от себя ничего вносить, ты должен излагать факты, как это в «Ведомостях», например, принято, все равно между строк очень часто читается, что на самом деле автор или редакция думает о том или ином человеке. Но это между строк.
К. Харатьян
— Да.
И. Цуканов
— Это те слова, которые ты выбираешь, это композиция статьи, как она выстроена. Тем более это заметно в интервью. Тем более это заметно в колонках. Колонки, как ты сказал, это такой жанр. Как с этим бороться и нужно ли с этим бороться? Как ты считаешь? Как редактор.
К. Харатьян
— Как редактор, я считаю, что с этим очень даже нужно бороться. И как с этим бороться, тоже, наверное, я знаю. Хотя я не могу сказать, что я владею какой-то технологией. А бороться вот как. Бороться сбором фактуры, собственно говоря. То есть везде, где тебе хочется спрямить, — ну, сейчас давайте договоримся, что мы говорим о ситуации идеальной, как всякий идеал, его не существует. Я описываю нечто, к чему хотелось бы стремиться, но к чему мы никогда не придем. Так вот, во всех ситуациях, когда тебе хочется что-то спрямить, задайся вопросом: почему тебе хочется это спрямить? Не упустил ли что-нибудь такое, чтобы это спрямление... То есть, спрямляешь ты когда? — когда тебе надо соединить два куска какого-то сюжета, которые не очень соединяются. Ну, там можно методами такой беллетристики, как часто это делается. Как только начинаются красивые слова в колонке — у меня лично — это значит, просто я где-то недодумал и недобрал фактурки. Поскольку я опытный человек, конечно, я постараюсь сделать так, чтобы было гладенько и не очень заметно. Но, во-первых, люди все равно замечают. Это видно по популярности. Легко посмотреть, хорошо ты сделал или плохо — это видно по популярности текста. Хорошо сделал: всё сложил грамотно, постарался, фактуру набрал, мысли совпали с чем-то — большой резонанс. Сделал плохо — маленький резонанс. Так вот, я и говорю, что задача — насытить, насытить сообщение. Оно может быть разной длины, от короткой строки до огромного текста — насытить сообщение фактами. Фактами. Как мы здесь с вами давайте договоримся, что правды в нашем мире сегодняшнем и в этом материальном не существует. Правда в одном только месте — где-то там, куда мы, надеюсь, отправимся. И там будет бесконечное познание и вот там-то будет правда. А здесь мы можем всего лишь предложить то, что мы сегодня знаем. То, что мы сегодня выяснили, то, что мы сегодня можем показать. Вот есть классическая логика, а есть разные логики другого рода — модальные, то есть вероятностные, интенсиональные, то есть с намерениями. И есть логики време́нные. То есть в логике сегодняшнего дня можно сказать, что я заместитель главного редактора газеты «Ведомости». В логике 35-летней давности можно сказать, что я санитар Городской клинической больницы номер 19. И оба этих высказывания будут верными. Понимаете, про что я говорю?
И. Цуканов
— Да.
К. Харатьян
— То есть сегодня мы имеем такую картину, какую мы собрали. Нашими слабыми силами, ленью, немощью и подвиранием мы собрали какую-то такую картину. И она получилась. Завтра мы обнаруживаем, что половина фактов, которые мы в эту картину нарисовали, они переменились, они не соответствуют действительности. Значит, давайте выдадим сегодняшнюю картину, новую. Давайте выдадим следующую картину. Наличие интернета позволяет менять эту картину довольно часто. И если следить за каким-нибудь событием, пристально следить, внимательно — не в смысле по верхам, не в смысле... Хорошее есть слово нынешнее — «хайп». Не в смысле вот этой истерики, которая сопровождает какое-то крупное новостное событие, упаси Бог, теракт или какое-то еще безобразие. Если начать следить за тем, как меняется картина — пристально, внимательно, — то ты обнаружишь, что то, что было в начале и то, что было в конце, это, вообще говоря, два разных события. Несложно это проверить опытным путем. И внимательному читателю интернета очень полезен, потому что перед ним открывается полнейшая неопределенность нашей, так сказать, жизни. Полнейшее непонимание людьми того, что происходит, невнимание к тому, что происходит. Не сосредоточение на важных проблемах, а потребление чего-то сиюминутного...
К. Лаврентьева
— Фастфуда.
К. Харатьян
— И малосущественного. Вот так.
К. Лаврентьева
— Так и есть.
К. Харатьян
— Простите меня за некоторую нравоучительную интонацию.
И. Цуканов
— Вот я думаю сейчас, слушая тебя, насколько это можно назвать это таким подлинно христианским отношением. И думаю, что ведь Евангелия — не знаю, может, это мысль такая спорная, — но ведь Евангелия, они же, в общем, так и написаны. То есть это констатация фактов без всякого такого вот домысливания от себя. Ну, может быть, это вообще жанр литературы того времени, было не очень принято, так сказать, автора выставлять на первый план.
К. Харатьян
— Но они даже прятались, авторы тогдашние, они не хотели, чтобы они были авторы. Не выпячивалась никогда авторская сущность ровно потому, что не автор, а регистратор, как бы сказать, регистратор.
К. Лаврентьева
— А я думаю, насколько правильно все-таки в данном случае, в случае журналистики, совсем не окрашивать своим отношением какую-то колонку или какое-то важное событие.
К. Харатьян
— Нет, Кира. Колонка — это обязательно окрашенная вещь.
К. Лаврентьева
— Я понимаю.
К. Харатьян
— Колонка — это обязательно окрашенная вещь. А дальше мы... Журналисты работают все-таки на потребителя какого-то. Потребитель может быть самый разный. И давайте все-таки мы ему дадим возможность самому решить, как это дело окрасить. Игорь совершенно прав — в том прав, что неизбежно, неизбежно создается некоторая философия в каждом издании, и у каждого конкретного автора создается некоторая философия передачи информации. С ней никак и ничего не поделаешь, такова человеческая сущность — он все старается себе присвоить, человек. Как-то присоединить к себе. В том числе и информационную работу так построить, как ему это кажется. Попробую привести, чтобы была понятна эта мысль, я попробую вам привести соображение из лингвистической сферы. Как, наверное, вы знаете, в мире существует порядка 7 тысяч языков. Часть из них умирает. Ну, то есть прекращается носительство этих языков — нет людей, для которых эти языки родные. И на них перестают люди говорить.
И. Цуканов
— И думать.
К. Харатьян
— И думать тоже. Значит, вопрос: а чего плохого-то? В конце концов, умер язык и умер. И вот чего плохого. Человек, который знает хотя бы один иностранный язык, хорошо понимает, что так, как ты скажешь по-русски, ты не скажешь, допустим, по-немецки. И наоборот. Ту мысль, которую ты легко можешь выразить по-немецки, ты очень с большим трудом передашь по-русски. И не просто с большим трудом, а с искажениями обязательно. Вот недавно мне попалось слово у приятеля одного на «Фейсбуке (деятельность организации запрещена в Российской Федерации)» — звучит так по-немецки: «торшлюсспанник». Это слово, которое означает состояние человека, перед которым закрывается дверь. Ну, это физическое описание. А на самом деле, это состояние уходящего поезда. Всякий человек это состояние хорошо по себе знает. Так вот, попробуйте перевести «торшлюсспанник» на русский язык одним словом? Ничего не выйдет, я вас уверяю. И тремя словами не переведешь. А у немецкого языка есть такая возможность. И то же самое какой-нибудь селькупский язык, у которого два носителя осталось или десять. Он тоже что-то передает такое, чего не передашь ни по-русски, ни по-немецки. К чему я эту параллель строю? К тому, что, конечно, каждый человек в передаче своей информации, которую он собрал, которую он хочет сообщить, он уникален. И только он, и только так может это сказать. Когда есть некоторый коллектив людей, который собирается под одной крышей и передает какую-то информацию, в конце концов, эта крыша начинает ему диктовать некоторый способ передачи информации. Это, называется корпоративными правилами, стандартами, чем угодно — духом редакционным каким-то. Но они везде разные. Я поработал в нескольких средствах массовой информации за свою жизнь, и я могу сказать, что везде это разное, разная история. Поэтому, конечно, никакого идеала — вернемся на два шага назад — конечно, никакого идеала быть не может. Конечно, всё это заточено под те или иные правила, порядки отдельного человека и отдельной редакции. Но. Задача состоит в том, чтобы всё это очистить как можно сильнее.
К. Лаврентьева
— Огромное спасибо за этот честный, открытый, доверительный разговор. У нас сегодня был Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости». С вами у микрофона были: мой коллега Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы говорили о пути христианина в светском обществе.
К. Харатьян
— Спасибо вам за эту возможность.
К. Лаврентьева
— Огромное спасибо Кириллу. Спасибо, Игорь. Всего хорошего. До свидания
К. Харатьян
— До свидания.
Псалом 33. Богослужебные чтения

Каждый из нас знаком с ситуацией, когда, пытаясь решить проблему, мы действуем спонтанно и необдуманно. В результате ситуация только ухудшается. Можно ли избежать этой ловушки и что делать, если в ней оказался? Размышляя на 33-м псалмом, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах, можно получить ответ на этот вопрос. Давайте послушаем.
Псалом 33.
1 Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился.
2 Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих.
3 Господом будет хвалиться душа моя; услышат кроткие и возвеселятся.
4 Величайте Господа со мною, и превознесём имя Его вместе.
5 Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня.
6 Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
7 Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его.
8 Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
9 Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
10 Бойтесь Господа, все святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его.
11 Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе.
12 Придите, дети, послушайте меня: страху Господню научу вас.
13 Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо?
14 Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
15 Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и следуй за ним.
16 Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их.
17 Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них.
18 Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их.
19 Близок Господь к сокрушённым сердцем и смиренных духом спасёт.
20 Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.
21 Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится.
22 Убьёт грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут.
23 Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет.
В жизни псалмопевца Давида был такой случай. Однажды, спасаясь от преследований со стороны царя Саула, который хотел его убить, Давид делает первое, что приходит на ум, — бежит в земли филистимлян. Филистимляне в то время были врагами иудеев. Однако Давид полагает, что они-то точно не выдадут его Саулу. Его надежды не оправдались. Когда он приходит к царю филистимлян Анхусу (или в другой текстологической версии Авимелеху), то понимает, что и здесь его подстерегает смертельная опасность. Слуги Анхуса хорошо запомнили Давида. Они помнят, что именно он убил Голиафа, а потом много раз наносил поражение их армии. У многих из них на него зуб. И они настраивают против него своего правителя.
Давид в страхе. Он осознаёт, что поступил не очень умно, когда пришёл сюда. Тем не менее, в этой непростой ситуации он находит очень неординарное решение. Давид притворяется умалишённым. Вот как об этом пишет Библия: «И измени́л лицо́ своё пред ни́ми, и притвори́лся безу́мным в их глаза́х, и черти́л на дверя́х, и пуска́л слюну́ по бороде́ свое́й». Видимо псалмопевец был так убедителен в своей игре, что Анхус принимает эту сцену за чистую монету. А потому он с возмущением обращается к своим слугам со словами: «ви́дите, он челове́к сумасше́дший; для чего́ вы привели́ его́ ко мне? ра́зве ма́ло у меня́ сумасше́дших?» Вместо того, чтобы схватить Давида и предать смерти, его просто выгоняют из дворца как дурачка-попрошайку.
Так и возник тот псалом, который только что прозвучал. Это благодарственный гимн человека, который оказался в таких обстоятельствах, из которых живым обычно никто не возвращается. Давид благодарит Бога с такой силой, с какой он тогда испугался. Причём оказался он в этих обстоятельствах по собственной же неосторожности и непредусмотрительности. Давид сильно просчитался, когда пошёл к Анхусу-Авимлеху. По сути, совершил смертельную ошибку. И тем не менее, чудесным образом Бог избавил его от гибели. Пусть и таким анекдотичным способом.
Ситуация очень узнаваемая. Нередко, оказавшись в затруднительном положении, мы, подобно Давиду, делаем первое, что приходит на ум. Ведь мы хотим побыстрее решить проблему. Однако в результате ещё глубже вязнем в этом болоте. А потому, чтобы трясина окончательно нас не поглотила, необходимо учиться брать паузу. На практике это означает уметь останавливаться и прямо физически переставать пытаться что-то делать. На какое-то время словно замереть. Переключить своё внимание на молитву. Пусть пройдёт время. Оно покажет. Однако, если мы всё же, подобно Давиду, дошли до предела, оказались в безвыходной ситуации, что называется, увязли по уши, спасёт только сумасбродство. Нам необходимо начать совершать странные поступки, которые в глазах этого мира выглядят как «безумие». По словам апостола Павла, именно так порой окружающие воспринимают жизнь по Евангелию. Ведь оно призывает нас поступать с ближними так, как мы обычны с ними не поступаем. Оно призывает нас к ежедневному и самозабвенному служению окружающим. Этот способ на сто процентов решает самые серьёзные проблемы. Как говорит сегодня псалмопевец, «много скорбей у праведного, и от всех их изба́вит его Господь. Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится».
Послание к Евреям святого апостола Павла
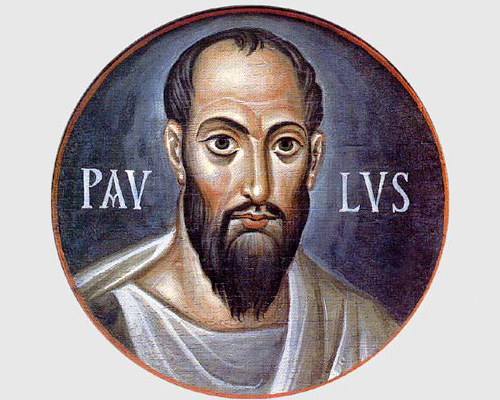
Евр., 335 зач., XIII, 17-21.

Комментирует священник Стефан Домусчи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Открывая самые разные христианские книги, верующий человек сталкивается с двумя идеями. Во-первых, он греховен, и, во-вторых, не способен ни к чему доброму. Многим эти мысли могут показаться настолько естественными и привычными, что кажется, будто бы по-другому и думать невозможно. Однако, так ли это на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из послания апостола Павла к Евреям, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
Глава 13.
17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.
18 Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
19 Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.
20 Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа,
21 да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.
Многим современным людям известна история Виктора Франкла, человека, который не только выжил в фашистском концлагере Освенцим, но и глубоко прочувствовал и осмыслил этот опыт. Он был свидетелем того, что в экстремальных ситуациях люди могли вести себя совершенно по-разному, хотя одинаково были к этим ситуациям не готовы. Однако при всей видимой разнице их реакций, всех их, по его мнению, можно было разделить всего на две группы: первые порядочные, а вторые непорядочные. И всё. Понятно, что опустить руки или, напротив, наивно надеяться на скорое избавление, могли и те, и другие, но в том, чтобы нравственно не сдаться, в том, чтобы сохранить собственное человеческое достоинство вопреки ужасам, которые царили вокруг, они разительно друг от друга отличались. И те, кто сохраняли в душе, пусть искалеченной и израненной окружающей жестокостью, верность правде, сохраняли вопреки всем очевидным обстоятельствам, по свидетельству Франкла, чаще выживали. Это кажется, поразительным, ведь достойное человеческое поведение порой требует жертв, но это факт, у которого есть свидетель.
В сегодняшнем чтении, мы слышим, как апостол, после призыва повиноваться наставникам, обращает к ученикам удивительную просьбу. «Молитесь о нас», — говорит он, — «Мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всём желаем вести себя благочестиво». Можно было бы, конечно, решить, что эта фраза относится только к апостолу, который действительно был очень святой и праведной жизни. Но, во-первых, общеизвестны его сокрушения по поводу того, что в начале своего пути он гнал и истреблял верующих во Христа. Во-вторых же, он говорит во множественном числе, явно подразумевая не только себя, но и своих спутников. Иными словами, ощущение того, что он первый и самый жалкий из грешников, сочеталось в его сознании не просто с желанием иметь чистую совесть, но с уверенностью, что она чиста, и с ощущением того, что и дальше он будет стараться вести честную и праведную жизнь.
Как же понять это вопиющее противоречие? Думаю, начать надо с того, что любой человек способен посмотреть на своё нравственное состояние со стороны и решить, насколько он согласен быть тем, кого видит. Один говорит себе: «Я безнадёжный грешник» и дальше этого признания не идёт. Хуже того, иногда он делает страшный выбор — буду грешить дальше. Другой, наоборот, говорит себе: «Я согрешил, но это не весь я. Я грешник, но не только грешник. Согрешив, я отрекаюсь от греха и стремлюсь к чистоте совести». Действительно, мир вокруг очень заманчив, и, если споткнулся, он ждёт, что ты покатишься в тартарары, успокаивая себя мыслью: «так делают все». Но это неправда... Всегда есть люди непорядочные, заранее позволившие себе грех, и те, кто даже будучи несовершенными, желают порядочной и даже праведной жизни. Понятно, что подобного выбора без Божьей поддержки не осуществить, почему Павел и просит молитв о себе и своих спутниках. Однако Бог не совершает этого выбора за нас. Он очень ценит нашу свободу и ждёт от нас свободного решения, чтобы после него поддерживать нас на правильном пути.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Новое пространство для профориентации людей с инвалидностью
Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» помогает молодым людям с особенностями здоровья. Весной организация открывает новое пространство в Петербурге. Туда можно обратиться за психологической помощью и пройти профориентацию.

Никита — один из тех, кому удалось найти в Центре новые увлечения и раскрыть свой талант. Про таких как он говорят: энергия бьёт ключом. Молодой человек увлекается мыловарением, ставит спектакли и музыкальные вечера, сам настраивает звук на концертах и выступает как вокалист. В Центре «Мастер ОК» Никита нашёл много новых друзей.

Любовь к творчеству разделяет и Елена Рафаилова. Девушка тоже выступает на мероприятиях Центра, занимается бисероплетением и мечтает написать книгу о космических приключениях. А ещё в Центре «Мастер ОК» Лена помогает с уборкой.
Новое пространство позволит таким активным ребятам, как Лена и Никита, изменить свою жизнь и организовать профориентацию для не менее чем 300 кандидатов. Более 100 подопечных смогут стать участниками проекта по сопровождаемому трудоустройству и построить карьеру. А у кого-то появится возможность устроиться на работу и в сам Центр — здесь откроют рабочие места для сотрудников с инвалидностью.
Сейчас в арендуемом помещении идёт ремонт: нужно заменить окна и двери, обновить электропроводку, систему пожарной безопасности и другие коммуникации. Поддержать добрую инициативу можно на сайте Центра «Мастер ОК».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов














