У нас в гостях были музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова и режиссер ансамбля Ольга Юкечева.
Беседовали о жизни и творчестве ансамбля, о развитии фольклорной и народной традиции в истории России. Гости программы рассказали о вертепных (народных) драмах, о своих экспедициях, богатом репертуаре коллектива, а также о своем участии в фестивале «Традиция».
В.Емельянов:
— Здравствуйте, это программа «Светлый вечер». В студии Владимир Емельянов...
А.Пичугин:
— ... и Алексей Пичугин. Здравствуйте!
— ПЕСНЯ-
... Вот такая песня у нас прозвучала в начале — неожиданно, да? У нас редко «Светлый вечер» начинается с музыки, но — это тот случай. И сегодня у нас в гостях Мария Нефёдова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского. Здравствуйте!
М.Нефёдова:
— Здравствуйте!
А.Пичугин:
— ... Ольга Юкечева, режиссёр ансамбля Дмитрия Покровского. Здравствуйте!
О.Юкечева:
— Здравствуйте!
В.Емельянов:
— Здравствуйте! Я сейчас подумал, что мы неожиданно начали песней — возможно, мы в конце закончим пляской...
М.Нефёдова:
— Не исключено!
А.Пичугин:
— А танцевать кто будет?
В.Емельянов:
— Ну, не знаю... Все вместе как-то попробуем, да. Итак, ансамбль имени Дмитрия Покровского. Просто — ансамбль Дмитрия Покровского. Дмитрий Покровский — его создатель, идейный вдохновитель. Он был создан в 1973 году музыкантом, педагогом и учёным-исследователем Дмитрием Покровским как экспериментальный. А в чём, собственно, был тогда эксперимент — в далёкие 70-е годы? Ваш ансамбль младше меня на 2 года, кстати.
М.Нефёдова:
— Ну, понимаете... Тогда Вы должны приблизительно хотя бы по рассказам помнить, что такое 70-е годы.
В.Емельянов:
— Я очень хорошо помню, приблизительно начиная с 1975 года, что такое 70-е годы — сам лично.
М.Нефёдова:
— Ну вот. Звучал ли вообще фольклор где-нибудь — по радио...
В.Емельянов:
— Всегда — по радио, по телевидению...
М.Нефёдова:
— Фольклор? В чистом виде?
В.Емельянов:
— Мне кажется, народные песни.
О.Юкечева:
— Народные песни.
М.Нефёдова:
— Народных песен не было. Звучащих. Были либо обработки, либо песни, созданные по типу народных композиторами...
В.Емельянов:
— Ну, короче, не Алла Пугачёва и не Иосиф Кобзон, что-то другое такое, типа русское-народное...
О.Юкечева:
— Народные хоры пели... певицы — Зыкина, Воронец Ольга...
М.Нефёдова:
— Так вот давайте просто сразу договоримся, что это к фольклору как таковому не имеет никакого отношения.
В.Емельянов:
— Ну, хорошо.
М.Нефёдова:
— Это — массовая песня, в народном духе. А фольклор у нас чрезвычайно разнообразный. И он до сих пор, кстати, слава Богу, сохраняется в деревнях вразличных, и каждая область имеет, если не одну, то несколько традиций пения, пляски, наигрышей инструментальных. И вот с этим, практически со всем этим богатством, которое было у нас, ну, вот ещё там, до начала ХХ века, до 20-х годов, да даже подальше уже можно... до 30-х годов, со всем этим наш человек 70-х, 80-х годов был практически не знаком. А вот он был знаком уже с искусством советской массовой песни, которая вот опять же была очень далека от традиции. А народная песня — в том виде, в котором она существовала, её никто не знал. И вот эксперимент-то был в том, чтобы городские люди, современные, молодые, которым было по 20-25 лет, с музыкальным образованием, поехали в деревню и посмотрели: а как там... другие люди, что ли, живут? Почему они по-другому поют? Почему они по-другому как-то вот — дышат, разговаривают? Почему у них как-то... вот... — и эти песни им не знакомы. Почему этому не учат в школе? Почему это не звучит, действительно, по радио, по телевидению? И вот в этом был эксперимент: могут ли эти современные молодые городские люди освоить вот ту деревенскую традицию, которой не одна тысяча лет и которая до сих пор живёт, или это невозможно.
О.Юкечева:
— Ну, собственно, толчком было у Дмитрия Покровского... толчком явилась тоже его поездка в экспедицию с матерью, которая собирала народные всякие традиционные промыслы, изделия и изучала эту стезю. И когда он на Севере, в Архангельской губернии, услышал пение старушек, и от той энергетики, которая шла от этих людей и от того лада странного — а он уже был музыкантом, он уже учился в училище как балалаечник — его это потрясло, и вот он как раз, собственно, для себя сначала, решил понять: «А я-то так смогу? Я же тоже человек — нормальный.» И вот он сам начал сначала изучать это и пытаться учиться, ездить в экспедиции, потом своих студентов потихоньку привлёк к этому...
В.Емельянов:
— А вот вы мне скажите, почему, по началу, был таким нелёгким путь этого ансамбля, и я читал, что и «зажимали» его, и какая-то такая прямо сокрушительная критика была, что вот эти, мол, певцы и певицы, они уж сами — фольклор, больше, чем народ, и всё такое прочее... И были очень нелестные отзывы и характеристики — поначалу. Трудный был путь.
О.Юкечева:
— Они и сейчас есть.
В.Емельянов:
— Нет, ну, коли мы о 70-х, о самом начале...
М.Нефёдова:
— Вообще, действительно, было такое замечание, что «Покровский переучил всех казаков». Ну, сами понимаете, какая это нелепость, да? Как можно традицию, которая укоренилась, живёт веками, до наших дней дошла...
А.Пичугин:
— Ну, она с трудом дожила до 70-х —то годов. Там «расказачивание» всякое...
М.Нефёдова:
— ...Она до сих пор живёт! Она до сих пор живёт, понимаете...
А.Пичугин:
— Она живёт, но что с ней произошло за 50 лет, начиная с 20-х до 70-х?
М.Нефёдова:
— Она, безусловно, меняется. Она мимикрирует, она подстраивается, но она всё равно остаётся. Мне просто не хочется вдаваться в такие большие тонкости музыкантские, музыковедческие, но достаточно сказать одно: что вот почему... Вот, если вы откроете сборники народных песен — ХIХ века, ХVIII- очень редко мелодии, в основном своды текстов. Потому что всё это звучало. Всё звучало, и в городе люди знали эти мелодии, эти напевы. И, чаще всего, в народе, в каждой из областей — на один напев существует несколько текстов. И всё это считается разными песнями. И то же самое происходит сейчас. Напев остаётся, а тексты могут быть другие. И тексты уже осовремениваются, подстраиваются под современные... и я, мало того...
А.Пичугин:
— Ну, это вообще в традициях фольклора.
О.Юкечева:
— А? Нет... я, мало того... простите, я вот ещё сюда добавлю... Дело в том, что почему-то в те времена многие композиторы записывали народные песни, да? Они тоже ездили так вот... не в экспедиции, но, во всяком случае, жили у себя в усадьбах и записывали крестьян. Но: не было тех знаков, которые бы показывали вот этот вот лад. Он же не такой темперированный, как фортепьяно. И вот эти вот значки, которые сейчас уже фольклористами разработаны — там, повышенный звук, пониженный какой-то там, вот эти лады странные — уже теперь можно фиксировать. И уже есть записывающий аппараты, которые, даже если не нотами, то так они зафиксируют... А тогда — просто ...
А.Пичугин:
— Было бы, кого записывать...
М.Нефёдова:
— Есть, кого записывать.
В.Емельянов:
— И всё-таки я прошу ответить на мой вопрос: а с чем была вот эта травля-то связана?
М.Нефёдова:
— Понимаете, это трудно сказать «травля». Это было просто ... такая...
В.Емельянов:
— Кто инициатором-то был?
М.Нефёдова:
— Вообще — это был шок. Потому что появилась альтернатива вот такому государственному фольклору...
О.Юкечева:
— Представлению о фольклоре...
М.Нефёдова:
— ... Лакированному. Вот — матрёшка, балалайка, кокошник — всё вот такое гладенькое, всё в 2-3 голоса и, самое главное, основанное на вот этой вот западно-европейской музыкальной традиции, которая в России стала насаждаться со времён Алексея Михайловича и Петра I. То есть, мы перешли от наших исконных ладов и традиций, и всю эту музыку стали закладывать вот в это прокрустово ложе. А тут выяснилось, что, вообще-то, всё это совсем не так, что традиции — живут.
О.Юкечева:
— Советский период у нас чем обусловлен? Тем, что всё должно было быть массовое. Как можно массово спеть песню, допустим, тот же духовный стих, который поётся в особых случаях? Или даже ту же самую свадебную песню невозможно спеть так, как она звучит в деревне. Её нужно на хор на большой разложить — значит, это нужно очень чётко сделать вот такую партитуру, чтобы Вы, Вы, мы... Собственно, тот же самый Пятницкий Митрофан, который и хотел создать... То есть, он уже пытался вынести на сцену фольклор, но когда он собрал крестьян из разных губерний России, причём постарался с Севера, Запада... он всех собрал, а они-то петь друг с другом не могли — у них традиция разная музыкальная, и поэтому пришлось опять же позвать композиторов, сделать а-ля-народные... вот... для «советского, патриотического» — про деревню, про колхоз. Тексты тоже другие были, абсолютно. В те времена.
М.Нефёдова:
— И самое главное — звук. Вот что раздражало безумно всех, кто был против, и что восхищало и, собственно, породило колоссальный интерес — и к ансамблю, и к народному искусству, потому что ансамбль, фактически, положил начало вот этому фольклорному движению молодёжному, и тот результат, который мы видим сейчас, то есть, практически повсеместно, все знают фольклор, все ездят в экспедиции, в народных одеждах ходят и так далее, и так далее... То есть, это уже стало очередной какой-то составляющей нашей жизни городской. А тогда — вот этот вот звукприродный , вот какой-то необузданный, необычайно энергетичный, вот как можно было этот звук — им же нужно управлять, им нужно владеть, а человек, который начинает чувствовать свободу звучания, он начинает чувствовать в себе свободу — другую. И вот это как раз...
В.Емельянов:
— Ну да, вот теперь понятно.
А.Пичугин:
— У нас самое время обратиться к музыке, к фольклору, о котором мы уже 10 минут говорим. «За рекою, за быстрою» — так называется композиция, которую мы сейчас будем слушать.
М.Нефёдова:
— Это... это уже Свиридов.
А.Пичугин:
— Это Свиридов, да. Я не успел договорить, что это Свиридов. Но Георгий Свиридов здесь, насколько я понимаю, обработал какие-то народные ещё мотивы, нет?
М.Нефёдова:
— Он не просто обработал, он, как уроженец Курской губернии, с большим трепетом...
А.Пичугин:
— Впитал когда-то...
М.Нефёдова:
— ... вообще относился к народной культуре, и он взял фольклорные записи Анны Рудневой из сборника Курских песен, и, вот 10 из них обработал в своём сочинении «Курские народные песни» и «Песни Курской области». И он практически не менял ничего.
В.Емельянов:
— Ну, давайте послушаем.
— ПЕСНЯ-
СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО «ВЕРА»
А.Пичугин:
— В гостях у нас музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефёдова и режиссёр этого ансамбля Ольга Юкечева.
В.Емельянов:
— Или предположим, что в каком-то сборном концерте — я уж не помню сейчас, за давностью лет, да, как называлось это всё — но после ансамбля «Берёзка» вот выходит ансамбль имени Покровского и вот тут...
А.Пичугин:
— Была ж группа «Баба-яга», помнишь?
О.Юкечева:
— Ну, она была уже гораздо позже...
В.Емельянов:
— Лет на 20 попозже, 30...
А.Пичугин:
— Нет, на 10...
М.Нефёдова:
— «Баба-яга» была повторением эксперимента ансамбля Покровского и Пола Уинтера Консорт «Earthbeat».
А.Пичугин:
— А, ну, это когда он приехал на Байкал давать концерт...
М.Нефёдова:
— Да, да, и в 1986 году у нас...
А.Пичугин:
— И дал концерт с ансамблем Покровского.
М.Нефёдова:
— ... давал концерт у нас в Университете, потом записали диск. И потом, несколько лет назад, мы его опять приглашали, и вместе с ним...
О.Юкечева:
— На 30-летие ансамбля...
М.Нефёдова:
— ...устраивали концерт памяти вот этого... записи вот этого диска.
А.Пичугин:
— А сколько лет Вы в ансамбле?
М.Нефёдова:
— Ну, достаточно долго.
В.Емельянов:
— Давайте, мы будем двигаться дальше по временной шкале. Вот, в начале 80-х, ансамбль стал проводить смелые эксперименты, пытаясь возродить такой жанр, как «традиционная вертепная драма». Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, что это такое?
О.Юкечева:
— Это замечательная была история, конечно, в ансамбле... Вообще, Дмитрий Покровский, он был таким авангардным... то, о чём мы говорили: он хотел стать дирижёром, причём, ему очень нравился Штокгаузен, которого, кстати, мы, уже спустя годы... сколько — лет пять тому назад? — мы всё-таки спели. Единственный ансамбль в России, который исполнил Штокгаузена.
М.Нефёдова:
— «Штиммунг».
О.Юкечева:
— «Штиммунг», да. Но он, в те времена, очень был близок к театру. В кино он снимался, в «Крейцеровой сонате», его пригласили. Потом, очень много в театрах везде был...
В.Емельянов:
— Скрипача он там играл, да?
О.Юкечева:
— Да, да. В театре много... И, конечно же, его интересовала традиция не только музыкальная и танцевальная народная, но и, естественно, народный театр. И вокруг него собрались люди, или он к ним каким-то образом попал, которые как раз занимались историей театра: ну, такой Виктор Исаич Новацкий, Ирина Павловна Уварова — театровед известная...
В.Емельянов:
— Издала нашего диссидента Юлия Марковича Даниэля...
О.Юкечева:
— Да, да, да...
В.Емельянов:
— Она — великая кукольница вообще, знаток кукольного театра.
О.Юкечева:
— Да, да, да. Вот, по её рекомендациям... там, в частности... потом и я ездила, записывала на Западной Украине и «маланку», и вообще всякие вертепные штуки. Ну, и Дмитрий Покровский тоже, с ними сообща — сделали реконструкцию, по всяким разным записям, театроведческим, то есть, они в библиотеках всё это собрали и сделали. И пригласили замечательного, в тот момент тоже входящего в круг друзей Новацкого и Уваровой, кукольного мастера, художника Виктора Назарити, который, собственно говоря, и сделал первых кукол для ансамбля Покровского. Вот таким образом и появилась эта первая «драма» народная. Потом появились частично «Царь Максимилиан», потом он расширялся, потом появилась «Лодка» и потом, уже самый последний такой вот... ну, как бы сказать, обрядовое... ну, «Кострома» — понятно, это был такой хит, который расхватали по частям и все показывали... И вот последней такой, театральной, что ли, работой...ну, не работой, но, вот — обрядом, который... Покровский буквально перед смертью оказался в экспедиции... это вот «Похороны Костромы» Нижегородской губернии...
В.Емельянов:
— Но это уже 90-е годы.
М.Нефёдова:
— Но, опять же, если мы говорим, что традиция была уничтожена, вот когда создавался... воссоздавался вертеп, совершенно неожиданно, абсолютно, т.е. мы ехали в экспедицию вообще за другими вещами, и в Тульской области случайно наткнулись просто на вертепный текст. Вертепный текст и вертепную всю канву нам бабушки спели — пожалуйста, оно до сих пор живёт. Просто это какими-то частями, какими-то фрагментами, люди уже сами даже не помнят, откуда они это знают, но, тем не менее, это всё сохраняется. Поэтому, говорить так, что вот уж совсем всё... Или ну вот то, о чём Ольга сейчас говорит, обряд «Похороны Костромы». Ну, казалось бы, перекрёсток дорог, Нижегородская область, где там и переселенцы... — живёт и прекрасно себя чувствует.
О.Юкечева:
— Но они туда вносят, конечно, свои изменения.
М.Нефёдова:
— Но, между прочим...
А.Пичугин:
— И ближе к Москве это всё сохраняется. В Рязанской области этого достаточно. Причём, не просто на уровне культуры, а даже на уровне каких-то религиозно-мистических представлений у людей, которые там живут.
М.Нефёдова:
— Да, конечно. Самое интересное, что вот... если уж заговорили о «Похоронах Костромы», те изменения, которые они вносят — современные жители села — они не знакомы ни с литературой этнографической, или театроведческой — они дополняют, например, персонажами представление, которые абсолютно фольклорны. И они просто исходят из логики самого обряда. Это фантастика! То есть, мышление фольклорное, традиционное — сохраняется.
В.Емельянов:
— Ну, вот после «вертепной драмы» тоже были какие-то нападки на ансамбль?
М.Нефёдова:
— Ну, я не помню...
О.Юкечева:
— Нет, ну как — нападки... Понимаете, всё-таки ансамбль...
В.Емельянов:
— Но это должно было насторожить очень сильно.
М.Нефёдова:
— Вы знаете, это вызвало большой интерес, но как-то...
О.Юкечева:
— Нет, уже когда «вертеп» появился, это уже как-то более или менее...
М.Нефёдова:
— Это был уже 83-й, 84-й год. Это уже как-то...
О.Юкечева:
— Да, это уже было более-менее спокойно.
В.Емельянов:
— Это уже ближе к концу вообще — и режима, и страны. И, тем не менее, ансамбль начинает гастролировать довольно успешно и внутри страны, и за рубежом. И гастроли проходят весьма успешно. Не это ли его, вообще, спасло? По сути.
М.Нефёдова:
— Вы знаете, гастролировать ансамбль начал практически сразу же, как только попал в Объединение художественных коллективов ( ОХК Росконцерта ), и гастролей былоочень много по стране, очень.
О.Юкечева:
— Но тогда был порядок такой — все ездили, был график такой, очень чёткий, Государственный график обмена...
М.Нефёдова:
— Месяцев 8 в году ансамбль проводил на гастролях. И тогда о заграничных гастролях речи не было. Один раз ансамбль съездил на Фестиваль в Венгрию, в начале в самом 80-х, и в конце 70-х — в Японию, тоже каким-то чудом, в общем, тоже какой-то Фестиваль. Всё. Дальше впервые за границу ансамбль попал в Америку в 1988 году, вместе с Большим театром, с Майей Плисецкой... Это была инициатива и такое усилие воли Родиона Щедрина, который с Покровским дружил, очень уважительно относился к нему, и он сказал, что это обязательно нужно показывать...
О.Юкечева:
— Ну, тогда просто ансамбль спел его эти озорные частушки, и вот он отстаивал всегда, да, ансамбль.
М.Нефёдова:
— И спел, да, озорные частушки. И это был Фестиваль «Делаем музыку вместе» («Making music together») в Бостоне. Месячный такой фестиваль, где показывали, по-моему, даже 6 программ наших. Вот... и после этого как-то уже началась такая действительно гастрольная деятельность в основном с американцами...
О.Юкечева:
— Потом с Полом Уинтером был большой тур.
М.Нефёдова:
— Да. И в этот же год, в этот же год — был тур вместе с Полом Уинтером. Совершенно другая ...
А.Пичугин:
— Мы возвращаемся к музыке. Сейчас прозвучит одна очень интересная запись, она называется «Овсень» — это день в народном календаре. Особенно его отмечали в Поволжье, в Центральной части России. Сейчас уже забыли. Поэтому, может быть, в двух словах расскажете, что это такое?
М.Нефёдова:
— Ну, вообще-то, сейчас мы будем слушать 2-ю из 4-х подблюдных песен. Это цикл на народные тексты, собранные Афанасьевым, Игоря Стравинского, который, вообще,очень интересовался народным...
О.Юкечева:
— Ну, вот мы потом поговорим как раз по поводу всего Стравинского — это очень интересно будет.
А.Пичугин:
— Да, давайте послушаем, потом поговорим, и у нас, параллельно, маленький перерыв после песни. Напомним, что в гостях у радио «Вера» сегодня Мария Нефёдова, музыкальный руководитель ансамбля имени Покровского и режиссёр ансамбля Дмитрия Покровского Ольга Юкечева.
СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО «ВЕРА»
В.Емельянов:
— Мы продолжаем «Светлый вечер» с нашими гостями — это музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефёдова и Ольга Юкечева, режиссёр ансамбля Дмитрия Покровского. Мы сегодня говорим об этом ансамбле, о его истории, о его истоках и о том, чем они занимаются сегодня. Расскажите, пожалуйста, о нынешних делах коллектива. Я так понимаю, что вот уже какой-то там новый состав, да, почти? Вот эти молодые ребята, которые пришли, они Покровского и не застали?
М.Нефёдова:
— Они больше 10-ти лет уже. Эти молодые ребята уже больше 10-ти лет в ансамбле.
А.Пичугин:
— Ну, Покровского уже больше 20-ти нет...
О.Юкечева:
— Вы знаете, прежде, чем поговорить о том, чем мы занимаемся сейчас, нужно сказать, что, собственно, послужило толчком, может быть, и к новым ребятам. Эти новые ребята пришли ещё при Дмитрии Покровском, когда именно Покровский, полюбив музыку Стравинского, и очень полюбив его «Свадебку», набрал чуть больше народу, чем было в ансамбле, чтобы...
А.Пичугин:
— А сколько было?
О.Юкечева:
— Нас было всегда человек 10-12 максимум. С Покровским.
М.Нефёдова:
— Больше 12-ти никогда не было.
О.Юкечева:
— Никогда не было. А тут он набрал...
А.Пичугин:
— А сейчас?
О.Юкечева:
— Нет, сейчас тоже 12. Но для этого эксперимента, опять — очередного... Ведь Покровский — он был очень глубокий человек, и, не просто так — там, решил спеть «Свадебку» — ему музыка эта очень нравилась. Он в Стравинского был влюблён и понимал, что вот — рок, хард, панк, я не знаю — всё в одном флаконе...
В.Емельянов:
— Авангард.
О.Юкечева:
— Да. И он... Вот это была его мечта — спеть «Свадебку» Стравинского. Причём он для того, чтобы это сделать, эту работу, он сначала глубочайше изучил все архивы по Стравинскому, мы съездили во все места, где Стравинский бывал и записали в этих местах всю музыку, которая как-то соответствовала «Свадебке». И Покровский доказал, что Стравинский не просто, как Свиридов, например, брал, или, там, Глинка — брал мелодию и нежно её сохранял, обрабатывал. А что Стравинский мыслил как человек фольклорный, что он настолько как бы пропитался... Собственно, нас Покровский заставлял в ансамбле как музыкантов — очень чётко понимать, чем отличается традиция южно-русская, почему там так импровизируют, а на севере — вот так импровизируют, почему тут лад такой, а там нельзя таким ладом пользоваться. Так же и он доказал, что Стравинский, собственно говоря, так же и мыслил, и «Свадебка» им была написана в таком ключе — не будем опять углубляться сильно в музыкантские вещи. И вот он набрал даже специально курс в ЛГИТМиКе — это Ленинградский театральный ВУЗ...
В.Емельянов:
— Это Ленинградский ГИТИС.
О.Юкечева:
— Да. И эти ребята, его курс, приехали сюда, и, в общем, с нами и с частью этих ребят мы делали «Свадебку» Стравинского. Причём, тоже было очень интересно... Он изучил, что это... Он долго не мог понять — почему «Свадебка» чётко делится-то там не 2 части, тут вот идёт перерыв в музыкальном ряде, то есть, только звучит вокал... Оказывается, это всё было написано для механических пианино, валик менялся и так далее. И Покровский сделал версию гениальнейшую, мы представляли её, опять же, в Америке, собственно, она делалась для... премьера была в Бруклинской Академии музыки — фестиваль Стравинистов был, где Покровский читал большой доклад, мы пели «Свадебку», ну вот... Ещё Маша пусть расскажет по этому поводу — теперь уже о том, как мы вот от этого, от Покровского, от его этой идеи оттолкнулись и чем мы сейчас занимаемся.
А.Пичугин:
— Мария — ?
М.Нефёдова:
— Я немножко о другом хотела сказать...
О.Юкечева:
— Скажи!
М.Нефёдова:
— ... по поводу, собственно, работы над Стравинским и над Свиридовым. Ведь что всегда интересовало Покровского? И что, в общем-то, продолжает интересовать нас? Потому что, безусловно, тот ансамбль, который существует уже практически 20 лет без него, он целиком и полностью, конечно же, основан на его идеях, которые мы развиваем и вкладываем туда своё отношение, своё понимание. Но, его, конечно, хватило... он мыслил очень далеко. Он как раз наметил те 3 пути, по которым ансамбль шёл и продолжает идти, и они продолжают интересовать нас. Это — народная музыка традиционная, это — фольклорный театр и это — музыка авторская. Причём, авторская музыка в ансамбле появилась, фактически, с момента его зарождения. Потому что сразу же было понятно, что ни одна хорошая музыка современная не может родиться на пустом месте. Она обязательно корнями своими уходит в традицию. И самое главное для нас — это найти ту традицию, ту отправную точку, поняв которую, оттолкнувшись от которой мы можем это произведение исполнить и, собственно, продемонстрировать вот эту вот глубинную связь. И музыка от этого становится только лучше и интересней. Это было и в «Свадебке», это было в самых первых сочинениях, таких, ещё экспериментальных. Там... была такой композитор Нателла Сванидзе, был Слонимский, были попытки, сольные, с Мусоргским... вот... и Стравинский появился тоже... в самых разных! То есть, это всё были такие — пробы, нужно было найти язык. А язык — это определённые разнообразные манеры пения и исполнительские манеры традиционные. И вот если мы научились использовать традиционные приёмы исполнительства в современной авторской музыке, то уже абсолютно не важно, русский это композитор или нерусский — как Штокгаузен, да? Стравинский, Свиридов, Штокгаузен, Мусоргский, любой современный композитор — Николаев, Юсупова, Раскатов Александр — всё, что попадает в резонанс с народной музыкой, проявляет вот эту вот глубинную традиционную связь. И даже уже не важно, взят текст народный или нет.
А.Пичугин:
— Давайте мы вернёмся к музыке. Сейчас послушаем кант, старинный «Буря море раздымает» — правильно, да? называется?
М.Нефёдова:
— Да.
О.Юкечева:
— Да.
А.Пичугин:
— Что-то про него расскажете?
М.Нефёдова:
— Да, с удовольствием.
А.Пичугин:
— В двух словах — пока он не начал играть.
М.Нефёдова:
— Это вот как раз один из интересов нашего ансамбля — музыка, такая, исторических эпох. Ведь в каждой эпохе было... во всяком случае, вот уже — обозримой, несколько веков... была музыка народная традиционная и была музыка, которая уже относилась к городу, да? Или к таким... к светским каким-то уже мероприятиям. И вот, в частности, у нас есть диск, посвящённый Петровской эпохе, где, как раз, разные канты. И вот это вот — кант навигатский. Кант — это было такое своеобразное... переходный момент от народной музыки к светской, городской, да, к авторской.
А.Пичугин:
— Слушаем. «Буря море раздымает».
— ПЕСНЯ-
СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО «ВЕРА»
В.Емельянов:
— Ну вот, прямо чувствуется — барокко, влияние Западной Европы прямо вот...
М.Нефёдово:
— Да, это как раз то время, когда встретилась русская традиция с западно-европейской. Эта встреча была, надо сказать, насильственной, но, тем не менее как-то...
О.Юкечева:
— Свои плоды принесла.
М.Нефёдова:
— ... в результате — да, свои плоды принесла.
А.Пичугин:
— Русская традиция — это одноголосие больше, да? нет?
М.Нефёдова:
— Ни в коем случае. Русская традиция очень разнообразна.
В.Емельянов:
— Мелодика другая, мне кажется, совсем...
М.Нефёдова:
— Мелодика, лад, ритмы...
О.Юкечева:
— Мне ещё кажется, что вот эта энергия...
В.Емельянов:
— Здесь очень чётко всё так прямо, очень «прилизано»...
М.Нефёдова:
— Да, абсолютно точно. И, помимо энергии... А вот одноголосие и многоголосие — это опять же вот то, к чему мы привыкли, вернее — нас приучили. Что это будет либо хор, либо один человек. А русская традиция она — многожанровая. И сольный жанр — это либо былины, либо скоморошины, либо колыбельные песни. А всё остальное, в общем-то, пелось вместе. Потому, что это разговор, песня — это разговор. Это — общение. И никогда в жизни люди не споют одну песню одинаково. И они не могут петь по нотам. Они каждый раз по-другому её чувствуют, проживают — одну и ту же песню. И это всё зависит от того, в какой компании поётся, с какими людьми, с каким настроением.
О.Юкечева:
— Вот, знаете, у них даже терминология другая. Когда, например... особенно для казаков это характерно... когда они поют свои протяжные песни, они и говорят «тянуть песню», «вытянуть». «Я тут не вытяну» — допустим, если голоса сегодня нет. А южно-русские, там, тоже ребята говорят, если они какую-то хороводную или игровую — они говорят: «Давайте играть песню». Они не говорят «петь», «давайте споём», они не говорят, такого слова у них практически нет — «споём». Они говорят либо «давай затянем», «тяни», либо говорят «сыграем»...
М.Нефёдова:
— Либо, если речь идёт об обрядовых песнях, только об обрядовых — весенних, зимних — они говорят «скричать». Вот это «скричать».
А.Пичугин:
— А почему такая дифференциация?
О.Юкечева:
— Ну, заклички-то не случайно называются закличками...
М.Нефёдова:
— Разные... разная энергия, разный посыл, разное обращение.
О.Юкечева:
— И, потом тоже, для казачьей традиции это вообще характерно, когда ты друг п... Ну, вообще, не только для казачьей — везде... Вот, если мы говорим об одноголосии и многоголосии, то можно петь, собственно говоря, фактически, гетерофонию одним голосом, но всё равно нужно себя показать. И каждый человек, входящий в ансамбль сиюминутно поющих людей, он старается как-то себя проявить. Зная эту традицию «от» и «до», он в ней себя вольно чувствует. Там же тоже есть «мастера» у них, есть «подмастерья», есть люди, которые учатся. Вот, мы тоже пришли к выводу...
В.Емельянов:
— У вас то же самое? Структурно происходит?
М.Нефёдова:
— Конечно.
О.Юкечева:
— Конечно, а как же? Структура такая.
В.Емельянов:
— А не получается, что, тогда вот — очень сложно ансамблевости добиться, если каждый, там, получается, «тянет одеяло на себя» в этом смысле?
О.Юкечева:
— Нет, не «одеяло тянуть»! Тут же ты работаешь на красоту песни, то есть... Если ты «тянешь одеяло на себя», то...
В.Емельянов:
— Но, если ты должен выделиться из общей...
М.Нефёдова:
— Так, а зачем ...
О.Юкечева:
— У тебя есть момент маленький — выделиться для того, чтобы красивый какой-то ход — спеть, а дальше — дать другому: «А ты теперь покажи себя»! Это вот это вот — перепляс, это и в пляске есть...
М.Нефёдова:
— «Не себя в искусстве, а искусство в себе» — вот, это то же самое.
В.Емельянов:
— Это — да, это — очень, такие, тонкости...
О.Юкечева:
— Да.
М.Нефёдова:
— Это нужно просто очень хорошо знать традицию. И наш ансамбль как раз отличается тем, что мы, в общем-то, знаем, изучаем, продолжаем до конца изучать, вот — каждую из традиций, которые существуют в ансамбле.
В.Емельянов:
— Вы проводите для ваших... а, ну да, если они 10 лет уже поют... Как вы их погружаете-то в этот мир? Или они приходят подготовленными уже более или менее?
О.Юкечева:
— Нет, нет... Мы, практически, единственный профессиональный коллектив, то есть, коллектив как профессия на сцене работает... — ездим в экспедиции до сих пор.
А.Пичугин:
— Вот, я как раз хотел спросить — насколько сложно сейчас ездить в экспедиции? Потому что, всё-таки, я могу только за Центральную Россию говорить — сёла вымирают, людей, которые могли бы что-то передать, становится всё меньше и меньше по естественным причинам...
В.Емельянов:
— А кому передать — все перебираются в города и уже, естественно, здесь уже не пользуются всем этим ...
М.Нефёдова:
— Это — да, с одной стороны — да. И, действительно, людей всё меньше и меньше, но, тем не менее, люди остаются. И ведь, надо сказать, что это всегда было. Всегда люди вымирали. И, там, 250 лет назад фольклористы хватались за головы, писали о том, что — вот, сейчас последняя бабушка умерла, последний дедушка скончался — всё, кто песню поёт? А ещё потом прошло достаточно много времени. И, в общем, традиция всё-таки принимает немножко другие формы, она приспосабливается. И всегда вот этих вот мастеров пения, людей, которые держат традицию и не просто её держат, сохраняют как в музейной коробочке, а они развивают её, то есть, делают некий шаг в развитии этой традиции — их всегда было мало. Их всегда было мало. И сейчас их мало. Но они есть. Можно найти.
О.Юкечева:
— Знаете, вот как пример сейчас приведу... два таких примера очень коротких. Значит, недавно мы в Удмуртии были. Попали в семью, которая, ну, вообще непонятно как живёт уже 100 лет — это семья, семейный как бы ансамбль. Мама уже довольно пожилая, а сын у неё — там ему что-то лет 30 с небольшим было. Значит, он — поёт. Соседи тоже, которым очень нравится — они тоже подключились. Но они пели в какой-то казачьей неимоверно красивой традиции — в Удмуртии там так почти никто и не поёт. Но вот, видимо, кто-то воевал...
А.Пичугин:
— Да там и казаков нет.
М.Нефёдова:
— Да. Но очень похоже.
О.Юкечева:
— ... кто-то, видимо, служил и вот это вот всё в семью принёс, и семья такая оказалась песенная. Значит, всё-таки, мать как-то сыну передаёт, и он продолжает с ней, с мамой, петь, и всё вот это... да? Это одна история. Потом, ещё, например, история, там, в Усть-Цильме. Мы тоже оказались там. Там вообще старообрядцы, у них с этим дело даже получше было. Потому что они хоронились. И Усть-Цильма — это, всё-таки, село такое, 100 километров до Полярного круга, и они — закрытое более сообщество. Они сохраняли своё... Вот, сейчас будет праздник Усть-Цилёмской горки у них там, традиционно, каждый год — да, конечно, там, немножко осовременивается, но тем не менее. Там девочка одна молодая, в семье, сказала, что был момент, маме... ну, это было уже около 10 лет назад...маме было лет 40, она сказала, что вот мама с папой — они как бы традицию эту чуть-чуть потеряли, а бабушка поёт, бабушка с дедушкой...
М.Нефёдова:
— Ну, да... Потерянное поколение.
О.Юкечева:
— ... говорит: «Но я у бабушки с дедушкой — вот, с ними пою, стараюсь, и, там, и хожу ( ? )... И вот, сейчас мне надо ехать учиться в Сыктывкар, но я думаю, как... Мне же нужно, чтобы я ещё каким-то там младшим братьям, сёстрам и соседям передала вот то же умение, знания свои. Вот, с ними хожу, пою тоже». Это вот ещё такой пример.
М.Нефёдова:
— И, потом, всегда вот, если приходишь куда-то в деревню незнакомую... сейчас, правда, практически всегда экспедиции уже по нахоженным местам, либо мы едем туда же для проверки своих собственных впечатлений, посмотреть, как традиция на том же месте сохраняется, либо — уже зная, к кому. Но иногда случается, или специально мы едем туда, куда ещё никто не ездил из нас, и вот — совершенно незнакомое место. Всегда нужно спросить: «Кто у вас поёт?» Практически всегда люди покажут. Либо бывает, конечно, очень редко, что: «Нет, наша деревня непоющая, а вот там — есть.» То есть, всегда можно найти, всегда.
В.Емельянов:
— Всё равно подскажут...
А.Пичугин:
— Интересно, с чем это связано? Но: у нас программа подходит к концу. Мы хотим нашим слушателям рассказать, что услышать замечательное творчество ансамбля Дмитрия Покровского можно будет совсем скоро. Буквально на днях, 8 июля, в День святых Петра и Февронии, в подмосковной усадьбе Захарово пройдёт фестиваль «Традиция». Он начнётся в 11 часов дня и продолжится до глубокой ночи, ну, в общем, до полуночи. Там обширная программа ...
В.Емельянов:
— Для тех, кто не знает, усадьба Захарово — это та усадьба, где в своё время...
А.Пичугин:
— ...бывал юный Александр Сергеевич.
В.Емельянов:
— ... своё детство провёл Александр Сергеевич Пушкин. Там, конечно, из пушкинского — только ландшафт, в общем, по большому счёту. Потому что ни тот дом, который там стоит, серого цвета, ни всё остальное — ничего этого не было при Пушкине, всё было совсем по-другому, дом этот заново отстроен, но, тем не менее, место чудесное и замечательное.
А.Пичугин:
— Зато там можно будет услышать замечательный ансамбль Дмитрия Покровского. А вместе с нами сегодня в этой студии были: руководитель этого ансамбля Мария Нефёдова — музыкальный руководитель и Ольга Юкечева — режиссёр ансамбля Дмитрия Покровского. Мы сейчас будем прощаться и послушаем напоследок песню «Как прекрасен этот путь». Это даже не песня, а духовный стих. Им мы нашу программу и завершим. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
В.Емельянов:
— Я только напомню нашим слушателям, что — вы, если заинтересовались фестивалем «Традиция», то надо в Интернете поискать — и там, кстати, свой собственный сайт есть у этого фестиваля. Зайдите — и там всё, что касается билетов, как проехать и всё такое прочее. Да. Ну, что? Действительно, время прощаться. В студии были Владимир Емельянов...
А.Пичугин:
— ...Алексей Пичугин.
В.Емельянов:
— До новых встреч. До свидания!
А.Пичугин:
— Счастливо!
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла

1 Кор., 146 зач., X, 23-28.

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.
Какое главное правило необходимо помнить, когда принимаешь решение о том, какие ограничения наложить на себя во время Великого поста? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10-й главы 1-го послания апостола Павла к Коринфянам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
Глава 10.
23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
24 Никто не ищи своего, но каждый пользы другого.
25 Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести;
26 ибо Господня земля, и что наполняет ее.
27 Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все, предлагаемое вам, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести.
28 Но если кто скажет вам: это идоложертвенное,- то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее.
Только что прозвучавший отрывок начинается с обращения апостола Павла к коринфянам «всё мне позволительно». То есть я могу делать всё, что захочу. Я свободный человек. Однако при этом апостол призывает учитывать важное «но». Некоторые вещи могут нанести вред другим людям. Так апостол предлагает важный критерий, который показывает, до какой степени может распространяться наша свобода. В своих действиях я должен задумываться о том, не наношу ли я ущерб окружающим, а также о том, какую пользу своими действиями я могу принести людям. Поэтому и добавляет апостол: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого».
После этого апостол демонстрирует, как можно применить это правило к частному случаю. Он рассматривает вопрос о том, можно ли принимать в пищу еду, посвящённую языческим богам, то есть идоложертвенное. Ответ Павла однозначный: можно, ешь всё, что покупаешь на рынке у язычников без всякого исследования. Потому что, как он говорит, «Господня земля, и что наполняет её». Иными словами, нет ничего скверного в этом мире. Всё Бог дал людям на пользу. Однако далее апостол делает одну важную оговорку. Если вам сказали, что это идоложертвенное — тогда не стоит есть. Но не из страха оскверниться. Но ради того человека, которого это может смутить. Ведь у всех совесть работает по-разному. Итак, вопрос воздерживаться от еды или нет напрямую зависит не только от заботы о личном преуспеянии в благочестии, сколько от заботы о другом человеке. Главная цель — это единство. Ведь Господь спасает нас вместе, а не по одиночке, как единое Тело.
Современный человек живёт в мире, где можно выбирать постоянно. Нам всё позволительно. Но часто такая свобода вместо радости рождает тревогу и одиночество. А всё потому, что мы настойчиво ищем своей выгоды, своего внешнего и внутреннего комфорта. Мы выбираем то, что, как мы думаем, поможет нам самореализоваться, раскрыться. Но при этом мы остаёмся изолированными от окружающих и страдаем. Подобным образом мы ведём себя и в своей религиозной жизни. Особенно остро это проявляется в преддверии Великого поста. Мы скрупулёзно планируем, от чего нам отказаться, чтобы стать ещё лучше, ещё духовнее, ещё ближе к Богу. Парадокс, но подобная постановка вопроса указывает на то, что мы всё ещё одержимы самими собой. Нередко пост для нас превращается в дополнительный инструмент, чтобы не упустить своё. И порой точно так, как некоторые неверующие остервенело, не обращая внимания на окружающих, творят беззакония, мы, будучи церковными людьми, остервенело ведём свою личную религиозную жизнь. Карабкаемся на небо, расталкивая локтями окружающих. Не обращая внимания на тех, кто должен быть нашими братьями и сёстрами.
Поэтому прислушаемся к тому, что говорит сегодня апостол Павел. Вдумаемся в логику его слов. Из них отнюдь не следует, что мы должны игнорировать такой важный инструмент духовной жизни, как воздержание. Из них следует, что мы должны задумываться не только о том, от чего мы отказываемся, от какой еды и развлечений. Но в первую очередь спрашивать себя: какое влияние окажут мои строгие правила на тех, кто от меня зависит, на тех, кто рядом со мной. Ведь мы прекрасно знаем, что та пустота, которая возникает на месте сладкого, на месте мясной и молочной пищи, на месте соцсетей и сериалов, а также других развлечений, нередко вываливается на окружающих раздражением, неприязнью и гневом. А потому принципиально важно спросить: ради чего и ради кого я воздерживаюсь. Полезно ли это для кого-то ещё, кроме меня? Созидает ли это мир вокруг меня? Лучше всегда посоветоваться с опытными людьми. Не брать на себя подвиги сверх меры. Чтобы наш пост был не только дисциплиной самоограничения, но и школой жертвенной любви, в которой наша свобода умаляется ради пользы и ради единства с нашими близкими.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Псалом 118. Богослужебные чтения

Литературные произведения бывают краткими, а бывают пространными. Всё зависит от замысла автора, его планов по раскрытию той или иной мысли. Библейские псалмы в этом смысле исключением не являются и представляют собой разные по объёму произведения. Есть псалмы, которые состоят всего из двух-трёх строк. А есть очень пространные. И вы сейчас услышите (в сокращении) самый длинный псалом Библии — 118-й. Он звучит сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.
Псалом 118.
1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его.
3 Они не делают беззакония, ходят путями Его.
4 Ты заповедал повеления Твои хранить твёрдо.
5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!
6 Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои:
7 Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей.
8 Буду хранить уставы Твои; не оставляй меня совсем.
9 Как юноше содержать в чистоте путь свой? — Хранением себя по слову Твоему.
10 Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
11 В сердце моём сокрыл я слово Твоё, чтобы не грешить пред Тобою.
73 Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня, и научусь заповедям Твоим.
74 Боящиеся Тебя увидят меня — и возрадуются, что я уповаю на слово Твоё.
75 Знаю, Господи, что суды Твои праведны и по справедливости Ты наказал меня.
76 Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему к рабу Твоему.
77 Да придёт ко мне милосердие Твоё, и я буду жить; ибо закон Твой — утешение моё.
78 Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня; я размышляю о повелениях Твоих.
79 Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои.
80 Да будет сердце моё непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился.
81 Истаевает душа моя о спасении Твоём; уповаю на слово Твоё.
132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твоё.
133 Утверди стопы мои в слове Твоём и не дай овладеть мною никакому беззаконию;
134 Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои;
135 Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим.
136 Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона Твоего.
137 Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои.
138 Откровения Твои, которые Ты заповедал, — правда и совершенная истина.
176 Я заблудился, как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл.
Псалом 118-й используется на богослужении обычно в дни, когда совершается память усопших. Это так называемые родительские субботы. Читается псалом и на отпевании. Хотя, честно говоря, ничего собственно заупокойного в тексте нет. Там преимущественно говорится о славе Божией, торжестве 118-й правды Господней и прощении. Последнее объясняет, почему псалом используется на заупокойных богослужениях.
И это чувствуется с первых строк псалма: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его». Псалом 118-й был написан в непростые для древних евреев времена — вскоре после их возвращения из Вавилонского плена. То есть — ближе к концу шестого века. Далеко не все ветхозаветные иудеи благополучно пережили 70 лет депортации. Кто-то умер, кто-то отрёкся. Кто-то отрёкся уже по возвращении в историческую Палестину, не перенеся тяжести трудностей по восстановлению родных мест.
И автор псалма стремится вдохновить своих первоначальных слушателей — укрепить их надежду на Бога. Псалмопевец от лица народа сетует, что не достоин даров Божиих, Его милости. Читаем в псалме: «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». Но автор псалма не теряет надежды. Он со смирением признаёт своё несовершенство. Просит Бога о помощи: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего». И далее: «Странник я на земле; не скрывай от меня заповедей Твоих».
Автор псалма уверен, что настоящее счастье можно найти только в мире с Богом и собственной совестью. Только тогда, например, урожай зерна будет не только обильным, но и начнёт человека по-настоящему радовать. А если совесть нечиста, то, сколько бы добра в амбаре ни хранилось, счастья это добро не принесёт. И псалмопевец призывает людей не падать духом перед лицом тяжёлых обстоятельств, но искать правды Божией. В ней находить утешение.
Псалмопевец напоминает современникам, что те блага, которые предлагает языческий мир, при всей своей привлекательности не смогут заменить даров Божиих. Ведь эти блага временны, а дела Господа относятся к вечности. Или как говорится в псалме: «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна». Псалмопевец со смирением признаёт, что сам он не справится, что ему нужна помощь от Бога. Он молится ко Господу: «Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить; не посрами меня в надежде моей; поддержи меня, и спасусь; и в уставы Твои буду вникать непрестанно».
История показала всю правоту этих слов. Древние евреи смогли восстановить храм истинного Бога, в отстроенном заново Иерусалиме вновь зазвучала молитва. Внешние враги отступили, внутренние недруги — грехи и пороки — ослабли. Всё перечисленное произошло при помощи Божией, приходящей только к тому, кто готов со смирением её принять, освободить место для благодати в сердце.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Добро и зло». Священник Анатолий Главацкий
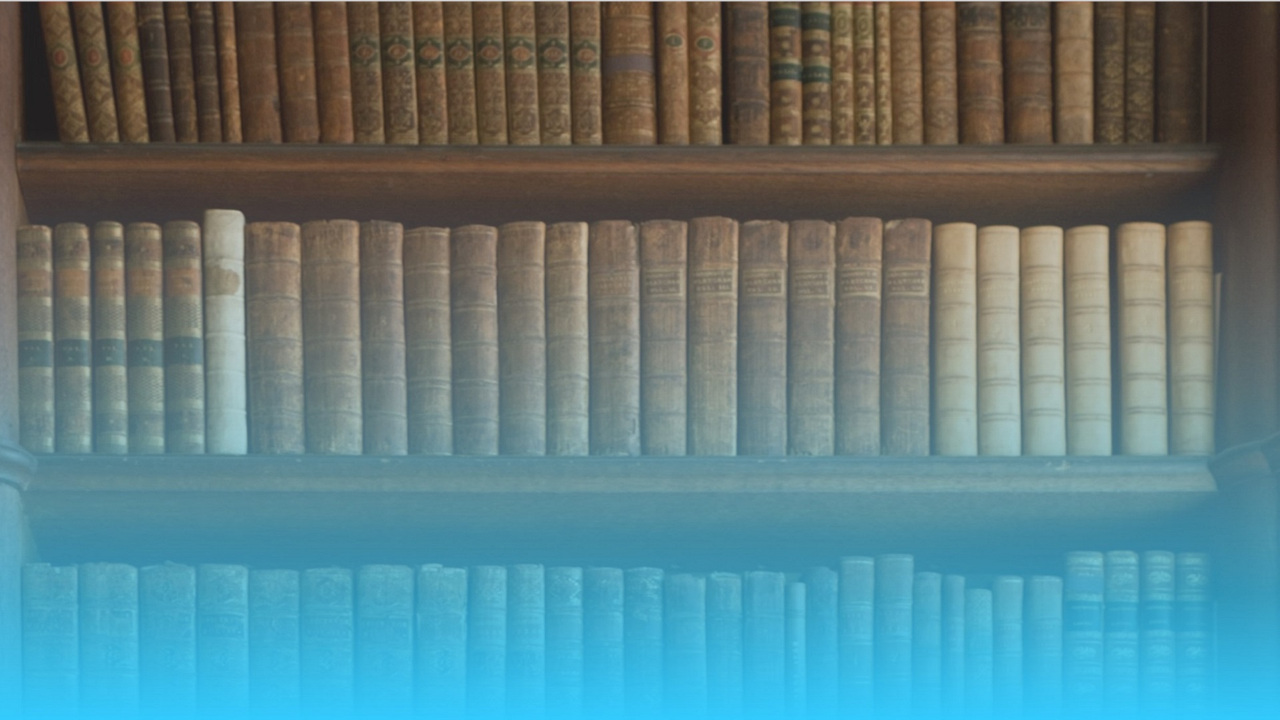
В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из книги блаженного Августина «Исповедь» о том, что такое зло и каковы его корни, почему могут страдать ни в чем не повинные люди, можно ли по-настоящему любить врагов и как это делать искренне, а также почему у каждого нашего выбора есть последствия, почему нельзя привязываться ни к чему земному, и каким образом Господь может преображать наши чувства любви и радости.
Ведущий: Игорь Цуканов
Все выпуски программы Почитаем святых отцов
















