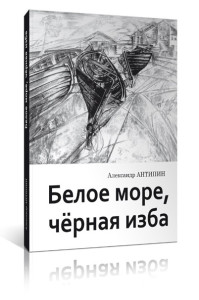 На поморской земле, в городе Мезени, живет писатель Александр Антипин. Летом 2008-го года, в журнале «Новый мир» вышли два его рассказа «Лесные взгорья» да «Белое море, чёрная изба», и, вот, спустя несколько лет, доехала до меня и книжечка, одноименная второму рассказу. Море в ней, действительно, Белое, избы, старые, поморские, обжитые и давно оставленные, и впрямь – черны, но не этими двумя красками и словами обрисована в названных и других рассказах, да в повести «Агафьино серебро», тоже вошедшей в книжку, выпущенную в Архангельске, трудная и счастливая северная русская жизнь.
На поморской земле, в городе Мезени, живет писатель Александр Антипин. Летом 2008-го года, в журнале «Новый мир» вышли два его рассказа «Лесные взгорья» да «Белое море, чёрная изба», и, вот, спустя несколько лет, доехала до меня и книжечка, одноименная второму рассказу. Море в ней, действительно, Белое, избы, старые, поморские, обжитые и давно оставленные, и впрямь – черны, но не этими двумя красками и словами обрисована в названных и других рассказах, да в повести «Агафьино серебро», тоже вошедшей в книжку, выпущенную в Архангельске, трудная и счастливая северная русская жизнь.
«Присев рядом с Герасимовичем, я тоже уставился на море. Мы не разговаривали, каждый думая о своем. Я думал о старике, а он, как мне казалось, – о своих молодых годах. О том, наверное, как добывал тюленя, тянул его юрком, налегая на обледенелые лямки, как ночевал на льду возле тлеющего костерка; о том, как шел пешком из германского плена и загибался в санбате; как ловил навагу и семгу; как хороводился с девками и гулял на гостьбах. Он был тяжело ранен на фронте, обморозил пальцы в относе, вся его жизнь прошла в этой забытой Богом деревне, в великих трудах и заботах, но, странное дело, — он улыбался морю и был счастлив. “Так почему же я, не избывший и сотой доли его судьбы, должен унывать и досадовать по пустякам?”…»
Рассказчик присутствует здесь – одним из героев своей прозы – в шести из семи сочинений сборника. И в этом, одноименном названию книги – тоже (из рассказа «Белое море, черная изба» читал друг писателя и тоже литератор Дмитрий Шеваров).
Через него, рассказчика, горячо влюблённого в эту землю и этих людей, своих дорогих земляков, восходим и мы с вами на взгорья и луга русского севера, с ним вместе собираем золотую морошку и тянем сёмгу, с ним бредём по тундре, с ним выспрашиваем загадочного колхозного неудачника Саврила Дмитрича Тараканова о его житье-бытье, с ним слушаем рассказы вазицкого старика, помянутого Ивана Герасимовича (Вазица – это деревня тоже Мезенского района).
И разве не с ним, один лишь раз прочно укрывшимся за текстом рассказчиком, – мы представляем вослед рыбаку Мишке Житову, которому поручили встречать заезжего профессора-шведа – несостоявшуюся нынче рыбалку? Эх, поехать бы заместо этой встречи проверять рюжи, долбить пешнёй звонкий, рассыпчатый лёд, пить из-под вешнего снега слудовицу и вытягивать из реки тяжеленный кут…
Ах, каков язык-то!
И с ним, этим же рассказчиком, мы соскакиваем на ходу с поезда, дабы нарвать сирени для милой попутчицы Тани, с трудом заскочив в этот поезд обратно… И не с ним ли мы чуть не утопли, отправившись в предштормье вместе с нелепым, но обаятельным напарником Николаем что из под Вологодчины – за морошкой к мысу Перичному?..
Но ведь выжили, уцелели, упас Господь.
«…Нынешние литературные воды мелеют еще и потому, – пишет в редчайшем для себя жанре, в предисловии к публикации двух рассказов Антипина прозаик Борис Екимов (вступление есть и в книге), – что питают их, в основном, родники столичные… Представьте, что случилось бы с Волгой, если бы остался у нее лишь один приток – река Москва. …Как хорошо, как радостно читается, строка за строкой. Как светло думается, когда недолгое чтение закончилось».
«А ведь у нас на Мезени народ разговористый, – подхвачу я снова за нашим рассказчиком, – уже в новелле «Полынь серебристая». – В другой раз самого низового мужичка послушаешь – словно Библию прочитал».
Да… Так и воскликнешь тихо вослед чеховскому герою из «Дома с мезонином», перефразируя знаменитое –
– Мезень, где ты?
15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».
О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.
Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.
О его подвиге — священник Стахий Колотвин.
Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.
Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.
И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.
И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.
Все выпуски программы Актуальная тема
15 декабря. О тех, кто отдал жизнь за право знать

Сегодня 15 декабря. День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
О журналистах, пожертвовавших жизнью за право народа на знание правды, — протоиерей Михаил Самохин.
Есть профессии, в которых заложен повышенный риск: военные, спасатели, лётчики, врачи. Лучшие из них жертвуют здоровьем и жизнью ради жизни, здоровья и благополучия других людей, которые о них чаще всего ничего не знают.
Настоящие журналисты, как правило, чуть более известны и рискуют жизнью не ради нашего здоровья и хорошего самочувствия, а ради права знать правду, ради нашего права на истину. Ведь именно истина, как сказал Господь, сделает нас свободными.
Не все журналисты, к сожалению, познают, что подлинная истина — это Господь Иисус Христос. Но лучшие из них рискуют и погибают в борьбе за истину против лжи. А ведь мы знаем, кто отец лжи. Поэтому все наши погибшие коллеги заслуживают доброго слова, а те из них, кто были чадами Церкви, — и слова христианской молитвы. Пусть Господь примет их горячее стремление победить неправду и сделать нас немного свободнее.
Все выпуски программы Актуальная тема













