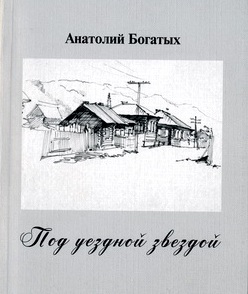 Совсем недавно, в Санкт-Петербурге с предисловием известного московского поэта и эссеиста Игоря Меламеда (недавно мы читали и его стихи в нашей программе), – вышла большая поэтическая книга Анатолия Богатых «Под уездной звездой».
Совсем недавно, в Санкт-Петербурге с предисловием известного московского поэта и эссеиста Игоря Меламеда (недавно мы читали и его стихи в нашей программе), – вышла большая поэтическая книга Анатолия Богатых «Под уездной звездой».
Вспоминая о своем когда-то сокурснике по Литинституту, Меламед пишет, что в 1986 году стихотворения, представленные Богатых на кафедру творчества, там сразу же сочли «белогвардейскими». Потом перестройка развернулась вовсю и поэт отлично защитил свой диплом. И все это рассказывалось для того, чтобы сообщить читателю, что «перед нами – поэт в определенном отношении уникальный, один из редчайших и чистейших гражданских лириков последних десятилетий», и как водится, поэт недооцененный. Россия для Анатолия Богатых, пишет Меламед, не просто отчизна с любимыми «родными пепелищами» и «отеческими гробами». Родина для него – еще и высшая метафизическая ценность.
В одном из ранних стихотворений Богатых, горсть русской земли в качестве оправдания прожитой жизни, приносится Богу на Страшном Суде.
…В день Воскресенья, взрывая гробы,
встанем на страшную песню трубы,
с плеч отрясая могильную тьму,
и в оправданье протянем Ему –
хоть под ногтями! – немного земли,
той, о которой мы лгать не могли,
той, на которой полвека стоим –
нищей, голодной, –
возлюбленной Им…
Анатолий Богатых, из книги «Под уездной звездой»
Эпиграфом к своей книге Анатолий взял печальные строки Пушкина: «…От ямщика до первого поэта, / Мы все поём уныло. / Грустный вой / Песнь русская…» И вот, в уже далеком вроде бы 1987-м Богатых пишет балладу, – из которой и строка для названия сборника, – стихотворение, так органично притягивающее пушкинские слова из «Домика в Коломне», – тот самый эпиграф.
Положа руку на сердце, – разве что-то так уж и переменилось в печальной и одновременно величественной картине:
Не буди этот вечный и страшный покой
где немые могильные камни застыли
где сожжённых усадеб забытые были, —
над великой рекой, под уездной звездой.
И дыханию ночи с порога дивясь,
слушай шорох и шёпот дождя торопливый,
слушай кроткого ветра сквозные мотивы, —
как чужого наречья неясную вязь.
Та земля, что когда-то здесь жизнью звалась,
та земля, за которую кровь пролилась,
обернулась большой и мертвящей пустыней,
никому не нужна, — и деревни пустые
в ней с земли исчезают, землёй становясь,
в ней поля не рожают и вечная грязь
непроезжих дорог...
Это сердце России.
Анатолий Богатых, из книги «Под уездной звездой», 1987 год
Богатых – поэт боли и покаяния, что же до языка, то он наследует не актуальным – в кавычках – насилиям над речью, – но благодарно оглядывается на золотой, выдержанный запас; «его речь, – сказано в предисловии, – функционирует в диапазоне, условно говоря, от Державина до Ахматовой».
И то, продолжу я от себя, что другие, возможно, назвали бы стилизацией, – здесь, конечно же, отсвет души народной: еще ликующей, еще живой:
Нынче день бездонно светел,
над другими днями – главный.
Что тоскуешь, что невесел, –
али ты не православный?
И глядеть не наглядеться –
купола поют!
И сладко
пахнет мёдом, пахнет детством
пряник с тульскою печаткой.
Лишь смотри, молчи да слушай, –
как ликует вестью дальной,
сердце лечит, правит душу
колокольный звон Пасхальный!
Анатолий Богатых, из книги «Под уездной звездой»
5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.
Все выпуски программы Актуальная тема
5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.
Все выпуски программы Актуальная тема
5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа

5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа — руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии иеромонах Александр Митрофанов.
Все выпуски программы Актуальная тема













