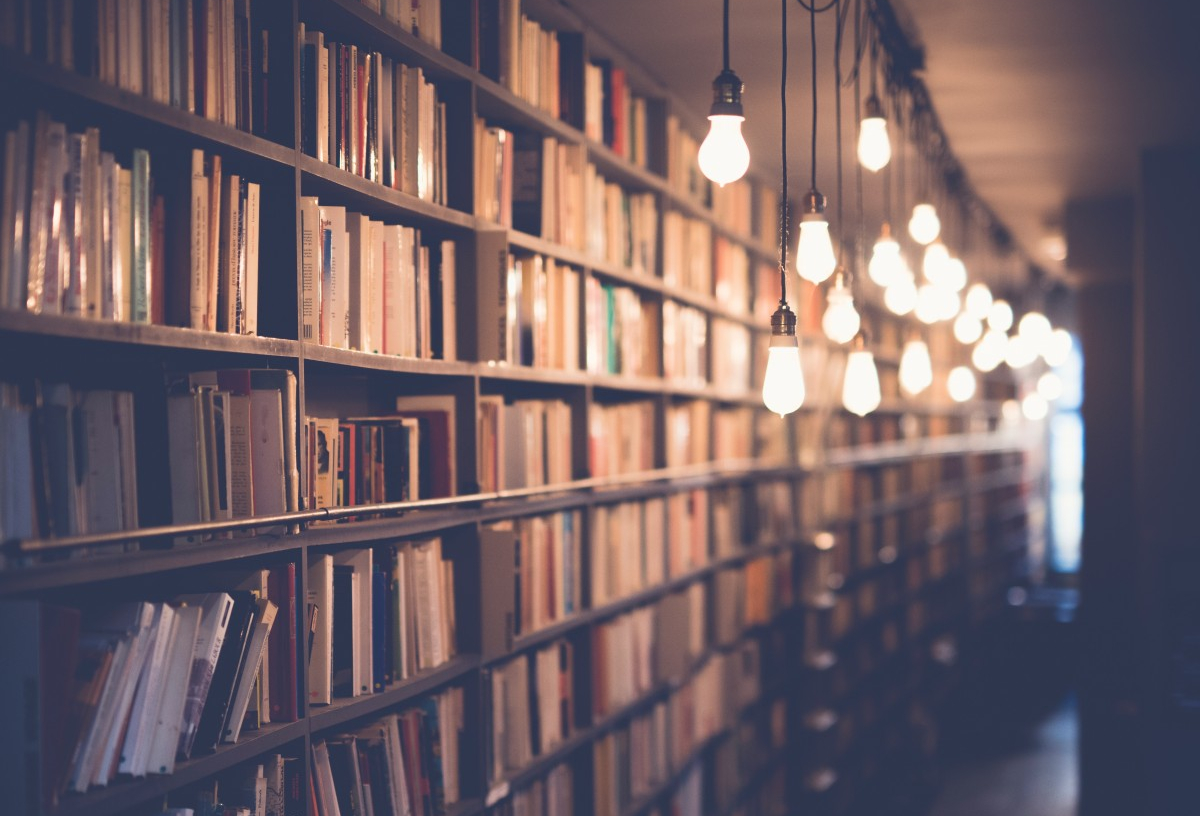
Гость программы — Елена Юрьевна Кнорре, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник института мировой литературы РАН, старший преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета.
Ведущий: Алексей Козырев
А.Козырев:
— Добрый вечер, дорогие друзья!
В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами — её ведущий Алексей Козырев.
Сегодня мы поговорим о Михаиле Михайловиче Пришвине и его «Невидимом граде».
У нас в гостях кандидат филологический наук, старший научный сотрудник отдела русской литературы конца XIX — начала ХХ века Института мировой литературы Российской академии наук Елена Юрьевна Кнорре.
Здравствуйте, Елена!
Е.Кнорре:
— Здравствуйте, Алексей Павлович!
Очень приятно участвовать в программе — я очень наслышана, и мне очень важно, поскольку я преподаю ещё и в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, на богословском факультете, в магистратуре «Религиозные аспекты русской культуры XIX — начала ХХ века» — очень важно, что именно на радио «Вера» я смогу поговорить о Пришвине.
А.Козырев:
— Ну, как раз, в следующем году, ведь, юбилей — 150 лет, да?
Е.Кнорре:
— Да, да, юбилей. Он родился в 1873 году, и, соответственно, в 2023 году будет 150-летие.
А.Козырев:
— И мы отмечали в прошлом году 150 лет отцу Сергию Булгакову — они даже немножко географически пересекались, насколько я помню. Поскольку, Булгаков учился в Ельце... а Пришвин — тоже ведь учился в елецкой гимназии...
Е.Кнорре:
— Да, как и Бунин...
А.Козырев:
— ... и у Василия Васильевича Розанова, с которым у него был конфликт в юности, и ему пришлось оставить гимназию. Если я не путаю... да?
Е.Кнорре:
— Да, всё правильно, да.
Действительно, Елец — это такой... как бы... оазис. Вместе с тем, и география здесь важна, сближающая Пришвина и русскую религиозную философию начала ХХ века — это Германия. Он, как и Пастернак, учился в Германии, в Лейпциге, на философском факультете, и получил специальность агронома. При этом, соединение философии и, в то же время, этого конкретного специального изучения земли, соединяется в его образном видении, и в его восприятии природы. Он её видит и очень конкретно, и, одновременно, строит свою метафизику.
А.Козырев:
— Вот, как раз, в детстве, мы не слышали, конечно имён — Бердяев, Булгаков — они отсутствовали в советской культуре. А, вот, именно Пришвина мы знали с детства.
Я, как сейчас, помню детскую книжку «Кладовая солнца»...
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— И это воспринималось вполне естественно, хотя, вообще-то говоря, это — удивительная метафора. «Кладовая солнца».
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— И его романы о природе — «Кащеева цепь»... — все они из какого-то Берендеева царства! То есть, какие-то загадочные названия, где и сама природа оживает, и является не просто органическим, но каким-то живым целым. Да?
Е.Кнорре:
— Несомненно. В Пришвине интересно вот это сочетание детского, сказочного и... вот... философского, и даже — религиозного. При этом... Ну, вот, я, в своей работе, пыталась выделить «китежский текст» в его творчестве, и отдельно проследить, как появляется, и сквозной нитью проходит сквозь все годы, сюжет пути в «Невидимый град».
И, собственно, вот, этот «Невидимый град» — он является в разных образах. «Край невидимых птиц»... вот, опять же... вот, эта «Кладовая солнца», которую надо добыть, клад на дне болота — водоросль кладофора, которую пытается добыть инженер Алпатов в «Журавлиной родине», и, сама по себе, «Журавлиная родина» — это очень конкретное Подмосковье, а, с другой стороны, это... вот... как и «Край невидимых птиц» — это мир, где поют птицы Алконост и Гамаюн — у него есть образ невидимого этажа леса. То есть, это...
А.Козырев:
— Я подумал почему-то сейчас, что когда мы... вот... ходим за грибами... или... там... говорим вот в такой восторженной манере, что... чего-то... «земляники в лесу было видимо-невидимо»...
Е.Кнорре:
— Да, интересно...
А.Козырев:
— ... то есть, вот, это словосочетание «видимо-невидимо», когда мы хотим сказать «очень много» — оно тоже поразительно в пришвинском... таком... стиле. То есть, «настолько много, что даже невидимо, нельзя обозреть». Или, может быть, «невидимо» — в том плане, что... за этим что-то есть. Да?
Е.Кнорре:
— За этим что-то есть. Да, вот, этот мотив грани между видимым миром и невидимым, у Пришвина становится каким-то... ну, вот... и образом, и, одновременно, это есть некая такая... архетип его... вот... религиозных исканий собственных.
Можно сказать, что богоискательство Пришвина проявляется уже в ранние годы его творчества. Хотя, есть мнение, что... ну... и, действительно, встреча с Валерией Дмитриевной уже в 40-е годы — она оформила его... какое-то вхождение в Церковь... но само богоискательство, ощущение мира, как целого, попытка выйти из уединённого «я» в общее со всеми «мы», которое он ощущал, как в религиозно-философских собраниях об этом говорили, как общество по схеме Церкви, общество, внутри которого схема Церкви — то есть, вот это многоединое целое. Оно появляется даже уже, когда он в 1906-1908 годах пытается... вот... путешествует на Русский север за «волшебным колобком».
А.Козырев:
— Но, ведь... неслучайно мы вспомнили Булгакова. Путь Пришвина тоже проходил через марксизм, через богооставленность... то есть, попытка найти социальный идеал не в Церкви, а в том, что ей противолежит, скажем так. И почему... вот... Булгаков не путешествовал на север, а вот Дурылин — путешествовал на север... почему — север представлялся таким краем, где можно попытаться поискать Бога? Почему — не юг? Почему — не Крым? Вот, у Булгакова, наверное, это, всё-таки — Крым. Поскольку, его жена и тесть жили там. А, вот, Пришвин и Дурылин отправляются на Русский север.
Е.Кнорре:
— Ну... здесь можно поразмышлять, и сказать... мне на ум приходит, прежде всего, образ леса, лесного пространства — вот, это лесное пространство Русского севера... и, в то же время — старообрядцы, староверы, к которым пытался... жизнь которых наблюдал Пришвин. Для него почему-то было важно, как он говорил потом, что... вот... эти люди — это как... такие... ручейки, которые постепенно войдут в океан общей веры. То есть, это — отдельные ручейки, которые должны потом найти этот путь к общему... вот... такому... целому...
А.Козырев:
— А где он, вот, конкретно... путешествовал?
Е.Кнорре:
— Ну... он путешествовал, в принципе, так же, где... я могу перечислить, в принципе, у меня есть даже конкретные места...
А.Козырев:
— Да, нет... ну... Вологда...
Е.Кнорре:
— Нет, севернее... сейчас я скажу. До Дурылина, несколько у него было таких...
А.Козырев:
— Олонецкий край...
Е.Кнорре:
— Да, да... Лапландия... туда даже... то есть, совсем даже север, где сейчас Финляндия, фактически, находится.
Ну, это, действительно, для него...
А.Козырев:
— Карелия...
Е.Кнорре:
— Да, да... вот, эти места, да... можно сейчас конкретно уже не называть... север...
А.Козырев:
— А публиковаться он начинает именно как писатель? Как писатель природы, бытописатель... или, всё-таки, как публицист?
Е.Кнорре:
— Понимаете, у него, действительно, сначала... вообще, для него характерен особый жанр — жанр очерка. И жанр очерка, и жанр дневника — становятся таким... как бы... архетипом его творчества. Художественный жанр — уже вторичен. И, даже, художественный жанр — он, как бы, трансформируется, вот, в эту дневниковую форму. То есть, лирическая проза.
Поэтому, у него, первоначально, появляются вот эти очерки — «За волшебным колобком», «Край невидимых птиц»... это — серия очерков, в которых проявляется... так скажем... эго-документальная проза, в которых проявляется вот это... внутреннее соотносится путешествие и внешнее путешествие. То есть, образ странствующего писателя-художника — там тоже уже просматривается.
А.Козырев:
— То есть, не просто описывает, что вокруг тебя, но — что происходит с тобой, в твоём внутреннем мире? «Эго» — это «я», по-латински...
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— ... кто Декарта читал, тот знает... да? «Эгология» — учение о «я». И, вот — наблюдать, вместе с изменениями природы, изменения твоего собственного внутреннего мира — что ты переживаешь, как ты ощущаешь себя во всём этом... так?
Е.Кнорре:
— С изменением природы... но природа там... да... и, вместе с тем, он, всё время, наблюдает за поведением людей. И, вместе с этим поведением, наблюдает за... как бы... своим собственным... вот... временем в истории.
Вот, этот жанр — заметок путешественника — он становится для него, постепенно, основным. То есть, дневники он, разрозненно, ведёт, где-то, с 1905 года, а уже в 1914 году... 1914-1917 — это 1 том уже... таких... оформленных дневников — действительно, это последовательное его дело, и он говорит: «Я не хочу, чтобы мой дневник был, как шкафы с немытым бельём. Там моё „я“ смотрится в зеркало Вечности».
А.Козырев:
— Ну... и, действительно, смотрится — дневники изданы... сколько там... больше 15 томов? Невероятное количество!
Е.Кнорре:
— Да... я не считала... но их много. Потому, что каждые два года, примерно... а это — все годы с 1914 по 1954...
А.Козырев:
— ... по 1954... год смерти — 40 лет непрерывного ведения дневника. А дневник — это ещё и... такой... самоанализ, самоотчёт, исповедь, если угодно... хотя, и исповедь... в такой... достаточно художественной форме. Это — не совсем церковная исповедь, где человек — один перед Богом. Здесь он — с читателем... хотя бы, потенциальным.
Е.Кнорре:
— Да. Для него важен читатель-друг, к которому он обращает свои дневники, но, вместе с тем, этот читатель-друг — он предпосылает любому человеку во внешнем мире. Даже зная, что дневники могут быть не опубликованы, в силу многих обстоятельств, особенно в советское время — и, всё равно, вот этот выход родственного внимания к людям — он пронизывает все дневники. Несмотря на то, что часть дневников — если мы будем читать 1918-1919 годы — это, действительно, и критика советской власти, того, что происходит: коммуна-собор и коммуна-легион — он противопоставляет две вещи. «Большевики оборваны от настоящего, ждут будущего...» — это личности оборванные, у которых нет, вот, этого ощущения целого с землёй и природой.
А.Козырев:
— По-моему, «Соборность и легион» — это был статья Вячеслава Иванова...
Е.Кнорре:
— Да, и он это проживает в дневниках...
А.Козырев:
— «Легион» — это не только римский легион, но это и легион бесов...
Е.Кнорре:
— Легион бесов — и эта тема развивается у Пришвина. Он и говорит, что... вот... собственно... «Ворвались в град небесный ( в Зимний дворец ), а позолота — на руках осталась». Можно войти в Невидимый град только по-одному — с помощью покаяния. Только путём покаяния, и... вот... внутренней аскезы.
ЦИТАТА:
М.Пришвин. Дневники. 21 декабря 1911 года. Всенощная в Казанском соборе.
«Дикий лес кругом. Леший из омута. Север. Церковь внутри леса. Свете тихий!... Звёздочка-лампадка в алтаре. Звёздочки внутри иконы. Ектения: работа и молитва помогают. Красные звёзды над Царскими вратами... Красота природы только в храме: это постоянное: вселенная и другая, космическая, понятна в возгласе „и на земли — мир...“ — там за стеной...»
«ФИЛОСОФСКИЕ НОЧИ» НА РАДИО «ВЕРА»
А.Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы, преподаватель Свято-Тихоновского университета Елена Кнорре.
Мы говорим сегодня о Пришвине, и о его пути в «Невидимый град».
Литератор, краевед, любитель природы — приходит к осознанию, по сути, соборного устроения человечества. То есть, то, что большевики называют «коммунизмом», «коммуной» — его не устраивает, как соборность... так?
Е.Кнорре:
— Интересный вопрос. Да, его, конечно, не устраивает. И, периодически, он пишет о том, что нужно преодолеть злость, на сегодняшний день. Работает с собственным... вот, этим... как бы... отношением. Потому, что считает, что вот эта враждебность — она... ну, как бы... не продуктивна.
В силу того, что уже в ранних дневниках появляется образ «Невидимого града», который виден в лучах света веры, потом появляется вот этот мотив «родственного внимания», в свете которого мир виден, как... вот, это вот... братское целое. То есть, мотив братства у него присутствует.
ЦИТАТА:
Михаил Пришвин. Дневники. 26 декабря 1920 года.
«Я растерянно спрашиваю, когда нужно молиться: „Да кто же мой враг? Кому мне простить? Не виноват ли я сам во враге своём?“
Меня спасает способность души моей к расширению: вдруг расширится — и я всё люблю. И не помню врагов своих».
Е.Кнорре:
— Ну, вот... его «братство» и «братство», которое понимается в идеологии...
А.Козырев:
— ... революционеров...
Е.Кнорре:
— ... революционеров, да — это немножко разные братства. Потому, что идеология революционеров исключает из этого братства тех, кто не...
А.Козырев:
— Ну, там, как раз, такое братство, что брат встаёт на брата...
Е.Кнорре:
— Да. А Пришвин пишет: «У меня ни белое, ни красное — я за человека стою, у меня Христово знамя».
А.Козырев:
— Каин и Авель...
Е.Кнорре:
— А у Пришвина образ: «Когда один другому говорит не „товарищ“, а „брат“ — это маленькая Церковь поднялась чуть-чуть от земли, и, кажется, только что проросла...» — этот момент перемирия... вот, в 1917 году он пишет об этом. То есть, для него важен вот этот мотив ростка Церкви, которая есть — иное пространство отношений людей.
Собственно, здесь он...
А.Козырев:
— Перемирие — когда? На Рождество?
Е.Кнорре:
— Я не могу сейчас точно сказать, но... вот... он наблюдает вот это вот... как бы... конкретные реплики... да... не «товарищ», а «брат»... «братание». Возможно, это... боюсь ошибиться сейчас... возможно, это, как раз... вот... когда переход идёт от Первой Мировой войны... попытка перемирия. Возможно, здесь. Но это — именно...
А.Козырев:
— Даже в самой войне были вот эти «Рождественские братания», когда прекращали боевые действия, и, на фронте, противнике обнимались братски, поскольку, вот, праздновалось Рождество Христово, а воевали — христианские страны.
Е.Кнорре:
— Вот, это интересно...
А.Козырев:
— Это было в конце 1914 года, совершенно точно... по-моему, и в конце 1915... вот. В Революцию — тут уже, по-моему, братства мало осталось. Начиная с мартовского восстания, и... убитых в Москве...
Е.Кнорре:
— Да, конечно... это, именно, вот, ещё — грань 1916-1917 годов. Это в дневниках, поэтому, 1914-1917 годов — вот, эта реплика... как раз, в начале 1917 года, получается... дату я должна посмотреть...
А.Козырев:
— А, вот, Фёдоровская идея братства здесь как-то отразилась? Ведь, Николай Фёдоров тоже, ведь, говорил о небратском состоянии человечества, и о необходимости быть братьями друг другу.
Е.Кнорре:
— Да, конечно. Вот... сама идея братства у Пришвина — конечно, она основана на традиции XIX века... вот... так называлось... «Светское богословие мирян», где Церковь понимается, как идеальная общность. Достоевский, Толстой, Соловьёв, Фёдоров... вот, эта традиция — и у Пришвина. И, размышляя о Первой Мировой войне, он, как раз, обращается к Толстому, и к образу его представлений о мире и войне. Вот, война — как повседневное состояние розни внутри человека, и преодоление войны — это преодоление враждебности, по отношению к другому.
Он говорит... он был корреспондентом во время Первой Мировой войны, два раза ездил на фронт, и, среди его заметок, есть... сквозной мотив в его записях о войне — это мотив открытия нового в очевидном. То есть, очевидное — это война, а новое — это то, что проявляется в людях какое-то совсем иное мировидение вдруг на войне. Когда, допустим, профессор начинает жалеть солдат, и совершает даже преступление: он не сообщает о том, что... вот... самострел... как бы... раненый человек сам отстрелил себе палец — это значит, его тогда расстреляют. Он, понимая, как страшно на войне, сочувствуя вот этим солдатам, говорит: «Я на себя беру вот эту ответственность, я не буду говорить. Вот, когда мне скажут, что их, действительно, просто отпустят на фронт, а не расстреляют, тогда я расскажу». То есть, вот этот момент — как бы... внутри личности доктора.
Потом, прапорщик, который увидел лошадь, которую он должен был застрелить — она ранена — но она посмотрела на него человечьими глазами. Это, прямо, похоже очень на мотив из «Войны и мира»...
А.Козырев:
— Да... да... да...
Е.Кнорре:
— ... когда... вот... невозможно стрелять в человека — потому, что близко его лицо. И, вот, это лицо лошади, глаза лошади... прапорщик берёт телегу, выламывает у неё бока, так, чтобы можно было положить лошадь, и везёт её до ближайшей станции. Там — три дня выхаживает в сарае, лошадь умирает. А Пришвин пишет... микроновелла такая... что: «Главное воспоминание от войны — это вот эта лошадь. У прапорщика, который в жизни в обычной был бухгалтером». То есть, тема числа, и тема имени — вот, для Пришвина эти две позиции важны — число и имя.
Число, где не различаются лица. Война — это число, это множество, и, во Вторую Мировую войну, он так и скажет, что: «Идея среднего должного стала источником войны», — когда мы вычисляем, как бы, среднее должное. И тогда можно бросить бомбы — потому, что ты не видишь лица тех, на кого эти бомбы падают. И против этого среднего должного должен восстать, как он пишет, великий собор живых. А как победить войну? Различай — в подлунном мире. Называй каждую тварь по имени. Каждое лицо — оно отдельно, и, если ты вот эту логику математическую перевернёшь в логику родственного внимания — вот, это и есть, для Пришвина, воскрешение из числа.
ЦИТАТА:
Михаил Пришвин. Дневники. 29 сентября 1941 года.
«И, скорее всего, моя радость и является как выход из тьмы моей личности, преображающая дикий лес в какое-то прекрасное, гармоническое сообщество живых существ. Не есть ли этот преображённый лес моё личное творчество, моё нравственное переустройство мира в его красоте, каким была в человечестве Церковь: моя личность — лес переделала, а Личность Христа в Церкви — преобразила жизнь человечества».
А.Козырев:
— По-моему, идея различия для него, вообще, очень важна. Вот, он пишет: «Два облачка на небе — разные... два воробушка — разные...» — вот, в одном тексте. То есть, когда ты научаешь себя различать, ты начинаешь видеть мир. Потому, что... в тёмной комнате все кошки серы, как говорил Шеллинг, да? Для видения — необходимо видение различий.
Как есть такая детская игра — найдите десять различий. И ребёнка учат: «Вот, две картинки, и они похожие, но ты должен научиться видеть различия...» — это тренирует внимательность, это тренирует наблюдательность, это тренирует мышление. И мне кажется, что для Пришвина — это очень важный принцип. Принцип различий.
Е.Кнорре:
— Да, различения в подлунном мире. Он даже пишет через дефис в повести «Мирская чаша», которая написана, как раз, в годы Гражданской войны, о способности различать через дефис: раз-личать. А инженер Алпатов учит детей краеведению, во время гражданской войны, где не различаются лица, а делится мир на «белых» и «красных», «своих» и «чужих». А Пришвин учит детей называть имена пригорков, растений, трав — и в этом видит, как раз, вот, образ учителя, и образ священства в мире для него — вот, этот вот...
А.Козырев:
— Вообще, «раз-личать», действительно — «разводить лица». То есть, это «видеть каждое лицо», и у лица — есть имя.
Е.Кнорре:
— Именно так.
А.Козырев:
— Это — что важно. И даже у травинки есть имя, и у дерева есть имя, и... мы, городские жители, часто не различаем — растения, не различаем — деревьев, не знаем, как они называются... не различаем — рыб... для нас любая рыба — «рыба», а не «карп», «щука», там... и так далее.
Вот. И... вот это очень важно, что этот принцип личностного такого знания, если так можно сказать — он распространяется не только на человека, но и на органическую природу.
Е.Кнорре:
— Пришвин пишет о том, что нужно выйти из себя к другому. И, вот, этот принцип различения — это способность человека выйти из своего «я», и начать различать лица других. Он даже говорит: «Если я не заметил в толпе близкого человека — это мой грех... или не заметил в толпе лицо — это мой грех...» — то есть, вот...
Органическая природа — также есть поле для различения для человека. В статье «Мой очерк» 1933 года он пишет о том, что его метод — это метод просвечивания сквозь предмет... вот... увидеть в предмете вот это лицо. И, вот, деятельность очеркиста в этом и состоит: в момент встречи моего «я» и того «ты», которое...
А.Козырев:
— Причём, «ты» — это может быть не только человек, но и...
Е.Кнорре:
— ... пригорок, дерево, муравей... «Подойдёшь к муравейнику, скажешь имя знакомого — выбежит муравей, и поздоровается», — он говорит.
Вот, если мы будем входить в природу с родственным вниманием, вот — с силой любви и различения, тогда она пойдёт к нам навстречу, и мы будем... как бы... общаться, как родные братья. Об этом и «Журавлиная родина». Об инженере Алпатове, который отказался осушать болото — потому, что на дне его живёт реликт водоросли кладофоры. А идея прогресса, идея необходимости действовать и двигаться вперёд — она подминает, как бы, вот эту череду и цепь живых существ... собственно, об этом и Рэя Брэдбери рассказ «И грянул гром». В этом рассказе тоже эта тема затрагивается, но это позже.
А, как раз, Пришвин пишет о том, что Алпатов совершает вот этот вот подвиг отказа — то есть, он отказывается. Его поступок, как раз, говорит о том, что он пытается воссоединить вот эту связь живых существ, и утверждает её в своём нежелании осушать это болото, чтобы сохранить вот эту водоросль, спасти её из «числа».
А.Козырев:
— Да, к водорослям отец Павел Флоренский тоже потом с большим интересом относился, исследовал их, уже находясь в лагере.
Ну, а мы сегодня говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине с замечательным исследователем... Вы диссертацию защитили о Пришвине, да?...
Е.Кнорре:
— Да. «Сюжет „Пути в Невидимый град“ в творчестве М.М.Пришвина...»
А.Козырев:
— ... не так давно... Еленой Юрьевной Кнорре, которая работает в Институте мировой литературы и в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
После небольшой паузы мы вернёмся в студию, и продолжим наш разговор в эфире радио «Вера».
«ФИЛОСОФСКИЕ НОЧИ» НА РАДИО «ВЕРА»
А.Козырев:
— В эфире радио «Вера» программы «Философские ночи».
С вами — её ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН и старший преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Елена Юрьевна Кнорре.
Мы сегодня говорим о Михаиле Михайловиче Пришвине.
Ну, вот... «Невидимый град». Вообще, надо, наверное, сказать о том, что Пришвин достаточно долго жил в Сергиевом Посаде...
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— Или — в Сергиевом, или — в Загорске, как назывался этот город в советское время. И я, когда ездил к бабушке на дачу, на Загорской электричке, всегда думал: «Вот, какое красивое название — Загорск... за горами город находится...» — и невдомёк мне было, что это революционер Загорский переименовал великий русский город, где находится Троице-Сергиева лавра.
Но вот эта близость к Лавре... она закрыта, ведь, в это время... да? То есть, там нет Богослужений, там нету Академии, которая тоже закрыта... но она что-то значила для жизни Пришвина?
Е.Кнорре:
— Я думаю, что значила, несомненно. И, в общем-то, его вот это представление о священстве в мире — с одной стороны, это метафора, а, с другой стороны, это, собственно... вот, этот подтекст, когда он пишет о том, что есть «пионер леса», есть... вот, его... замысел рассказа «Пионер леса», в дневниках он об этом говорит... «комсомолец», «коммунист», «коммуна» — вот, эти все слова, они, с одной стороны, являются как бы частью внешней реальности, внешнего языка, современного Пришвину, а, с другой стороны, для него это — всё те же образы подлинной... вот этой вот... общности, прообразом которой является Церковь.
Я могу вспомнить одну из его цитат... ну, перескажу своими словами. В 1937 году он идёт с сыном по лесу, и потом — делает рассказ детский «Этажи леса» и заметку в дневниках «Этажи леса». И он пишет о том, что есть некий верхний этаж леса, к которому сойдутся когда-либо многие «я», и этот этаж там, где есть неоскорблённое «я», которое... вот... может объединяться с другими, и «я» — настоящий коммунист. Вот, что это за коммунист? И в этом невидимом этаже леса поют птицы Алконост и Гамаюн. То есть, отсылка к Китежскому тексту — к тому самому Невидимому граду, о котором говорят в религиозно-философских собраниях начала века. И этот Невидимый град — он находится за стеной греха, за стеной пространства и времени, которая есть... по Пришвину, это грех нашего «я», как бы, завеса, на которой... вот... в годы гражданской войны он пишет: «Это кровавая завеса мира, на которой начертан лик врага».
А.Козырев:
— То есть, нам грех мешает видеть этот град, да?
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— То, что мы во грехе — мы, поэтому, этот град и не видим.
Е.Кнорре:
— Да, грех эгоизма...
А.Козырев:
— А «Невидимый град» — это какой? Это «Град Божий» Августина?
Е.Кнорре:
— Это «Град Божий» Августина, да. Здесь можно увидеть этот источник... и... «Град Божий» Августина, но... в основе видения этой идеи у Пришвина топика Китежского текста. Поэтому, он часто пишет о лесном пространстве. И, вместе с тем, Китежская легенда у него трансформируется, как и в религиозно-философских собраниях, в частности, у Дурылина, — трансформируется в религиозно-философский миф о Невидимом граде.
То есть, легенда состоит из трёх частей: град под землёй, град под водой, и есть ещё третий вариант — град за невидимой стеной. То есть, это соприсутствие миру, который здесь есть, и он вечный. Один из источников этого образа — это платоновская идея невидимой истинной земли, всей полноты земли, которую Сократ в диалоге «Федон» открывает своим ученикам.
И для Пришвина вот эта идея важна: вечно любить мир, и не умирать в нём. Как не умирать в нём? И, подобно Сократу, он показывает: не умирать — это видеть мир во всей полноте, и тогда ты понимаешь, что есть вот эта бессмертная личность, которая открывается для Пришвина и в Первую Мировую войну, и в Гражданскую войну, и... вот... становится сквозным образом его, собственно, сюжета спасения в Дневниках. Можно так сказать.
А.Козырев:
— Вот, удивительно — это же топик... такого... религиозного сознания. У него предки были священниками, или это просто вот такая мощная традиция православная, которая даже для человека, который от неё отступил на какое-то время, всё равно, работает?
Е.Кнорре:
— Ну... здесь можно сказать, что есть старообрядческие корни у Пришвина, но непосредственно на него традиции семьи... я бы не сказала, что именно они повлияли. Здесь... я, конечно, не биограф... на, на мой взгляд, сильное влияние оказала Германия, его учёба в Германии. Потому, что он потом писал, в Первую Мировую войну: «Германия дала мне всё, а я иду на неё войной». Вот, этот мотив мальчика, который заблудился в лесу — гётевская тема... вот... «Лесной царь», и, вообще, Гёте — у него... вот... тема осушения болот, когда инженер Алпатов пытается мелиорацией заниматься — она связана со второй частью Фауста, конечно, Гёте. И, вместе с тем, «будем давать имена животным и всем тварям, и над всеми именами напишем имя Богородицы» — это в «Мирской чаше»...
А.Козырев:
— Ну... и Флоренский тоже... то есть, Гёте для Флоренского был необычайно важен и значим. То есть, видимо... какое-то внутреннее такое родство немецкого романтизма и русской культуры...
Е.Кнорре:
— Немецкий романтизм, да... я думаю, что вот эта религиозность, возможно, идёт даже вот от этих вот корней, которые связали Пришвина уже в раннем творчестве с немецким романтизмом. И потом эти сюжеты можно проследить и в других его текстах — «Фацелии», например, образ голубого цветка Новалиса... в общем-то, сам путь странника в поисках... вот, этого единства мира — это параллельный такой сюжет, который может быть соотнесён тоже с Новалисом, Генрихом фон Офтердингеном...
И, вот, эта тема странствия, в котором... уже в 1913 году он пишет...
А.Козырев:
— ... с Вагнером...
Е.Кнорре:
— ... Вагнер... вагнерианский текст, да... об этом пишу в диссертации тоже... клад под землёй... и оперу Вагнера «Тангейзер» он слушает... ну, по разным сведениям... 37 или 39 раз, будучи в Германии. Это же, действительно... музыкальная тема — она пронизывает... вот, сюжетика Вагнера — она пронизывает его творчество.
И, когда он пишет в 1909 году о Невидимом граде Китеже, и, потом, в 1913 году пишет рецензию на книгу Дурылина, он... уже в 1909 году, вот, эта тема клада под землёй... потом «Кладовая солнца»... с другой стороны — кладофора, которая внутри болот где-то сокрыта... вот... это клад — как испытание для человека: ты погубишь свою душу и откроешь Невидимый град, либо пойдёшь кривой дорожкой и утонешь в этих топях. То есть... вот... китежский текст русской литературы и вагнерианский текст — он здесь сходится...
А.Козырев:
— Ну, как... не всякому даётся клад — надо ещё заслужить... да?
Е.Кнорре:
— Вот. Да... то есть, чистому сердцем открывается...
А.Козырев:
— Если ты взял то, что тебе не принадлежит, обогатился — тебе это богатство не принесёт пользы... да? Вот, это тоже, по-моему...
Е.Кнорре:
— Вот, это искушение... У Пришвина этот мотив — он по-разному трансформируется.
Вот, инженер, соответственно, должен отказаться от желания осушить болото и сделать гидроэлектростанцию, помочь этому строительству. От этого... как у Эрика Фромма — «иметь и быть», да? Вроде бы, действительно, прогресс... вроде бы, действительно, совершенствование, а... Пришвин пишет, в другом месте... говорит о том, что... вот... у нас есть и бомбардировка протонов, мы открыли и путь в Космос, но... вот... без движения личности... без чувства бессмертной личности, даже открывая Космос, мы найдём там Кащея... вот, эту Кащееву цепь... то есть, вот, эту преграду.
Подлинное открытие Космоса — это, как у Платона, открытие вот этой невидимой подлинной Земли, и внутреннего... прежде всего... ориентации к миру не как к задворкам, а как к алтарям, как пишет Ухтомский, который упоминал тоже Пришвина в своих записях дневниковых.
Отдельная тема — Пришвин и Ухтомский, конечно, который тоже, в советские годы, не эмигрировав, оставшись здесь, оказался в такой... как бы... с одной стороны, сложной ситуации, а, с другой стороны, именно, вышел из неё, как Пришвин потом про себя писал, «сквозь толщу катастрофы, к вестникам желанного мира» — вот, этот путь. Вышел из неё через чувство единения — даже с людьми, с которыми он, может быть, внутренне не согласен. И он на собрании народных депутатов говорит: «Нет ни эллина, ни иудея... и мы все движемся к полноте народного сознания».
А.Козырев:
— Как — во Христе... нет ни эллина, ни иудея...
Е.Кнорре:
— Да, Которого он признаёт под словом «Церковь».
А.Козырев:
— А, вот, таких людей часто называли «внутренними эмигрантами» — вот, как Пришвин, как Ухтомский. Как Вы считаете, это — подходящее название для Пришвина?
Е.Кнорре:
— Слово... «внутренний эмигрант» подразумевает, что человек вовне — со всеми, а внутри — в ином мире.
С одной стороны, можно сказать, действительно... две репутации Пришвина неоднократно отмечались исследователями. Действительно, это репутация детского писателя, публикуемого, очень известного уже, и принятого даже, в том числе, властью. А, с другой стороны, это — его дневники.
Но, за этой внешней раздвоенностью, на мой взгляд, скрывается, всё равно, единство видения — именно, скрытое в его... вот... самой... в его философии родственного внимания. Потому, что если есть этот принцип родственного внимания, то невозможно в этом целом мире — разделять. И, вот, эта идея, всё-таки, целого мира — интуиция целого мира, и интуиция другого — она помогает ему в сложные годы, как раз.
Он пишет: «Многое в нашем мире было разрушено, но я спас и вывел людям весну света». «Людям» — вот, всё время у него есть вот эти «люди» — все люди, — к которым он выводит вот эту «весну света». И детские рассказы — это его «весна света»... собственно... такая... как бы... детская реальность, где есть... в сказке «Кладовая Солнца», ведь, наказание приходит от разрозненности, от разъединения детей. Одна думает о ягодах, другой думает о том, как бы самому пройти неизведанным путём, минуя... вот... то, что говорили ему об опасности... Митраша, да... и дети — разлучаются. И только собака — друг человека. Благодаря ей... вдруг... Настёна — она слышит то, что нужно спасти брата, и появляется вот этот момент воссоединения.
То есть, на самом деле, болото... вот, само по себе... Блудово болото — это тоже метафора. Метафора — тоже, как часть китежского текста, где человек заблуждается и бродит в мороке наваждений — вот, этот мотив морока, завесы — он, действительно, для него... как и у Флоренского, как и у Вячеслава Иванова... то есть... становится таким... как бы... архетипом вот этого... экран... образ экрана, на котором начертан... на котором проецируется двойник у Ухтомского — вот, этот образ экрана, за которым скрывается вот этот подлинный мир, где, действительно, есть вот это единение...
А.Козырев:
— То есть, если говорить о его эмиграции... всегда задают вопрос: «А куда эмигрировал этот человек — во Францию, в США?» — вот... Пришвин, наверное, эмигрирует в Невидимый град, который внутри него. И, вот, если уж и можно это сказать — «внутренняя эмиграция», — то это, скорее, такое внутреннее держание в себе вот этого Невидимого града, или Града Божьего, сквозь призму которого, зная о том, что он есть, он начинает по-другому смотреть на вещи.
Е.Кнорре:
— Да, это интересное... если уж говорить об эмиграции, об этом метафоре, да... то это — такая эмиграция, которая его возвращает к людям, в сложные годы. То есть, будучи в том же самом месте, он находится, одновременно, в другом, вместе со всеми. Потому, что, на поверхности, он, действительно...
В дневниках есть два пласта — его реальные переживания, как человека... и его злость, и грусть, чувство отчаяния... но, вместе с тем, потом... вот... сам микросюжет архетипический в дневниках — это вот этот выход, преодоление вот этого страдающего «я», выход от «я» — к другому, выход от «я» — к «мы».
Этот мотив появляется ещё в дореволюционные годы, когда у него отобрали его дом. Собственно, дом заколочен, в саду — уже чужие люди окапывают яблоньки, и он пишет, что на сердце — тёмная вуаль... вот, эта завеса... тёмная вуаль. Кстати, у Дурылина, в 1918-1919 годах, в «Троицких записках», тоже есть вот этот мотив о... такой, вот... мути, которая на него налегла, и он потом говорит, какой он выход находит: «Не мир смердит, а бес».
А.Козырев:
— «Не мир смердит, а бес».
Е.Кнорре:
— Да.
А.Козырев:
— Это... дом — где? В Ельце?
Е.Кнорре:
— Да... это в Хрущово, это под Ельцом. Его родовое имение Хрущово.
Собственно говоря... вот... и, в тот момент, когда он сидит в этой запертой, замершей... я писала статью о замершем времени... усадьбе, закрыты ставни... он сидит, и... запертое сердце... и потом он думает: «Неужели Солнце небесное светит только надо мной? Он светит — и надо всеми», — и я вышел в сад, и стал, вместе с другими, окапывать яблоньки«. То есть, вот, этот мотив выхода из дома, выхода через эти ставни в общий мир...
И он пишет так: «Мы все были большевики. Неужели и мы с вами не виноваты в этой тьме народной, которая всех объяла?» То есть, вот это чувство «каждый за всякого виноват», как у Достоевского, через покаяние, выводит его к людям.
«ФИЛОСОФСКИЕ НОЧИ» НА РАДИО «ВЕРА»
А.Козырев:
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи».
С вами — её ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Елена Кнорре.
Мы сегодня говорим о Пришвине — вспоминаем этого человека, и... вот... оказывается, что и в советской культуре, которая считалась... такой... атеистической, безбожной, были очень серьёзные ростки духовного мировидения.
Вот, мы сегодня и Дурылина вспомнили попутно — замечательного современника Пришвина — отца Сергия Дурылина, священника, второго священника в храме старца Алексия Мечёва.
Но, вот, если сравнить этих двух писателей — Пришвина и Дурылина — они двойники, или, всё-таки, они разные?
Е.Кнорре:
— Ну, конечно, много сходства... и сходство, прежде всего, вот, в этом пути, начиная с лесных странствий на русский север... практически, схожие маршруты... заканчивая тем, что они оба живут в советские годы — и творят, и, в общем-то, живут вот в этих двух пространствах — пространство внешней действительности, где публикуются тексты, и пространство вот этого внутреннего града, внутреннего делания, которое...
Я думаю, что... здесь, конечно... единственное, у Пришвина, конечно, другая... другое, собственно, наполнение его текстов... вот, образная, такая, реальность — она несколько отличается. Потому, что для Пришвина важны, вот... всё-таки... вот, эти природные образы, и населённость... вот... зверями, деревьями... вот эти ландшафтные образы... для него это... вот... как бы... важная часть... это герои для него... да... в его произведениях. И он меньше развёртывает религиозно-философскую... такую, вот... канву.
Как например, если мы вспомним статью «Рихард Вагнер и Россия» Сергия Дурылина, и статью о «Невидимом граде», там очень подробно развёртывается вся философия, собственно, Невидимого града и народной веры, и обращение к идее Церкви Хомякова — подробно развёртывается.
У Пришвина этого нету. Он имплицитно, может быть, где-то содержит вот эти вот идеи, и их надо...
А.Козырев:
— То есть, это... такая... внутренняя философия...
Е.Кнорре:
— Да, да...
А.Козырев:
— Ну, а в образе жизни? Как бы... у Дурылина — келья в Королёве...
Е.Кнорре:
— Болшево, да...
А.Козырев:
— И у Пришвина тоже свой дом в Дунино. И встреча с женщиной, которая происходит отнюдь не в юношеские годы — Ирина Комиссарова у Дурылина, и Валерия Дмитриевна Лиорко у Пришвина. Которая, кстати сказать, тоже написала книгу воспоминаний, которая называется «Невидимый град»...
Е.Кнорре:
— Да...
А.Козырев:
— То есть, это — главная тема Пришвина.
Вот, что для него была встреча с Валерией Лиорко? То есть, это изменило его мировоззрение, его отношение к вере?
Е.Кнорре:
— Я думаю, что здесь... если первую половину вопроса затронуть... действительно, две линии судьбы — дом за гранью города... я в своей работе обозначила это как «Китеж советского времени» — такой своеобразный Китеж, который образует локус... вот... дача или усадьба Серебряного века... своеобразный такой вот дом, в котором одновременно осуществляется вот это «священство в мире», как его понимал Пришвин, а Дурылин — был священником, непосредственно.
И он говорил, что: «Наш брак, в котором мы каждый день помогаем преображению жизни», — вот, буквально, в дневниках 40-х годов, он пишет о том, что его брак с Валерией Дмитриевной — это «преображение каждодневное жизни». То есть, вот эта деятельность различения, которую он начинал когда-то один — теперь он встретил друга. И, буквально, они написали дневник «Мы с тобой» — это дневник совместный, — и он пытается, в поздних дневниках — я об этом тоже пишу в своей работе — пытается говорить... «писать биографию Ляли», он говорит. И она, после смерти Пришвина, пишет свою автобиографию, и там пишет о нём.
То есть, вот, это взаимное писание... как бы... истории другого, друга... и, вот, это взаимное творчество — оно, конечно, их объединяет, и... я думаю, в этой встрече проявилось, как раз, общее их единение в этом «Серебряном веке»... то есть, в этой идее «Невидимого града», которая и у Пришвина стала сквозной... такой... конвой его жизни, и для Валерии Дмитриевны — это тоже путь богоискательства. И, вот, эти для пути сошлись.
Первая возлюбленная Пришвина Варя Измалкова — была утрачена. Они встретились в Германии, но так и не проросла эта связь в жизнь, и... вот... в реальность, уже в России. Она не приехала. И он много лет, в дневниках, возвращался к этой встрече. Потому, что там было какое-то чувство единения, которое он не мог забыть. И он всё время отсчитывал годы, спустя... вот... тех эпизодов, когда они общались.
И, вот, теперь Валерия — Фацелия, как он её писал — это та самая, которая... вот... воплотилась. И здесь, действительно, вот этот сюжет любви, который у него автобиографический, он становится связью между той, утраченной, возлюбленной, и вот этой, обретённой. Вот, Генрих фон Офтердинген здесь, действительно... этот сюжет обретения голубого цветка... Фацелия... Валерия... и, вот, здесь... сюжет замыкается.
А.Козырев:
— То есть, вот эта философия «ты», которая у него была всё время... в общем-то... она опредметилась в конкретном человеке — любимой, которую он встретил.
Е.Кнорре:
— Да.
ЦИТАТА:
Михаил Пришвин, Валерия Пришвина «Мы с тобой. Дневник любви».
«Мы находимся с Лялей в состоянии брачном не потому, рождаем детей, и работаем в поте лица. Хотя, и от того, и от другого не отказываемся. А потому, что включаем эту нашу общую плотскую земную жизнь в общий путь к Царствию Небесному, и, по пути, сами же мы — муж и жена — участвуем в деле преображения мира, и достигаем радостного дня всеобщего воскресения».
Е.Кнорре:
— И, вот, общий дом, в котором они, собственно, прожили последние годы, и, потом, музей, созданный Валерией Дмитриевной... и даже сейчас мы ездили со студентами... вот, матушка Варвара, которая нам рассказывала о церкви, рядом с усадьбой Дунино... ну, усадьба — это раньше была усадьба, сейчас это дом... и она говорила, что церковь — Архангела Михаила, но, при этом, она говорит, тайно окормляет, конечно, Михаил Пришвин. То есть, это... такая... народная религиозность проявляется уже в сознании... вот... этого места.
А.Козырев:
— Ну... это — святой его, да? Ведь, он носил имя Михаила, и все Михаилы имеют отношение к Небесному покровителю — поэтому, это совершенно правильно, да?
Е.Кнорре:
— И Валерия Дмитриевна, она, действительно, стала таким другом, который, и 30 лет спустя, занимается архивом — все годы, пока ей было отпущено, и, оставив учеников... вот... Яна Зиновьевна Гришина теперь занимается дневниками, и начала их издавать, ещё со своим мужем, в 90-е годы... и, вот...
А.Козырев:
— Сейчас изданы дневники, полностью?
Е.Кнорре:
— Все дневники изданы, да. В 2018 году был издан последний том... и 1954 год... последние дневники. А... ну, вот...
А.Козырев:
— Но это такой объём, что он должен ещё прорасти в русскую культуру! То есть, вот... как дневники Толстого... то есть, это... не сразу читается. То есть, это — не сразу читается, не сразу становится хитом. Я знаю, что был том «Избранного» из дневников, да? Он ещё, по-моему, в советское время выходил. Но вот этот полный массив — это настолько ценно, и настолько важно... просто, даже не для биографии Пришвина, а для понимания эпохи. Потому, что, через Пришвина, можно видеть и то, что происходило со страной — и Революция, и... даже, вот... я обращался, когда... языковая реформа была — он очень едко на это реагировал, когда русский язык пять букв потерял в 1918 году... и НЭП, и война — всё это... да не только... две войны — две Мировых войны...
Е.Кнорре:
— Две Мировых войны, да...
А.Козырев:
— ... отражены в этих книгах.
Е.Кнорре:
— Вот, я пыталась проследить, как раз, именно по дневникам два этих сюжета — реальной жизни Пришвина, и исторической жизни людей, которую он наблюдал. И, в этом дневниковом тексте, интересен ещё вот этот сюжет — как он, в сложное, катастрофическое время... «сквозь толщу катастрофы — к вестникам желанного мира» — вот, этот его мотив... как он мог, собственно, свидетельствовать в этих дневниках путь «родственного внимания», несмотря ни на что. То есть, насколько вот этот вот образ прорастания сквозь эту завесу «числа», и... вот... спасения из «числа», и обретение вот этого радостного, Божьего мира, который — рядом со всеми, только человек, подчас, в унынии, в страхе, в злости, в отчаянии, закрыт от него. А вот это свидетельство, жизнетворческое, жизнеутверждающее — оно говорит, что Кладовая Солнца — вековечная борьба людей за любовь. Вот, собственно, об этом — его дневники.
А.Козырев:
— Ну, что же... я думаю, что дневники могут рассматриваться, как, своего рода, путеводитель в Невидимый град...
Е.Кнорре:
— Ну, можно сказать так, да...
А.Козырев:
— Он — не очень короткий... обычно, мы привыкли к путеводителям, которые можно положить в карман, и, на двух страницах, всё прочитать... тут — нужно читать много, и нужно думать, по поводу прочитанного. Но... вот... Елена, как исследователь Пришвина — внимательный, вдумчивый исследователь — эту работу для себя проделала. И, надеюсь, что её проделают для себя и многие наши радиослушатели, которые, услышав нашу программу, обратятся к Пришвину, к его романам, к его дневникам, к его личности, к его музею в Дунино, и извлекут для себя духовную пользу, я надеюсь.
Е.Кнорре:
— Я думаю, что Пришвин, для нашей современности, и для каждого человека — может стать, вот, таким другом... как он и искал читателя-друга, так и он может быть таким другом, который раскрывает вот эти тайные пути мальчика, который вышел из леса, и обрёл лес, как невидимое единство.
А.Козырев:
— Спасибо!
У нас сегодня в гостях была Елена Кнорре.
До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера»!
Е.Кнорре:
— Да, спасибо большое!
Третье соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов
3 Ин., 76 зач., I, 1-15.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Перу апостола Иоанна Богослова принадлежит одно Евангелие, три соборных послания и одна пророческая книга — Апокалипсис. Среди этого довольно объёмного письменного наследия святого апостола есть то послание, которое известно меньше других, оно совсем краткое, и посвящено одному частному вопросу: обличению некоего Диотрефа. Сегодня Третье соборное послание апостола Иоанна Богослова звучит в православных храмах во время литургии. Давайте его послушаем.
Глава 1.
1 Старец — возлюбленному Гаию, которого я люблю по истине.
2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братия и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине.
4 Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине.
5 Возлюбленный! ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников.
6 Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога,
7 ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников.
8 Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться споспешниками истине.
9 Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас.
10 Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви.
11 Возлюбленный! не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога.
12 О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно.
13 Многое имел я писать; но не хочу писать к тебе чернилами и тростью,
14 а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам.
15 Мир тебе. Приветствуют тебя друзья; приветствуй друзей поименно. Аминь.
В прозвучавших только что апостольских словах есть одна яркая и важная мысль, на которой нам стоит остановить внимание: «Не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога» (3 Ин. 1:11).
Апостол Иоанн прекрасно понимал, что зло подобно вирусной инфекции — оно очень заразительно. Именно по этой причине Священное Писание восхваляет праведников Ветхого Завета, которые сумели сохранить верность Богу в ситуации всеобщего попрания любых нравственных норм. Достаточно вспомнить Лота и его сограждан или же Ноя и его современников. Оба праведника не делали ничего сверхъестественного, они просто сохраняли нормальность, не поддавались разврату, что само по себе было подвигом.
Если мы обратимся к своей душе, то увидим, что первая рефлекторная реакция на зло у нас, как правило, одна: мы хотим его повторить. К примеру, если кто-то нам нагрубил, то первой реакцией будет желание сделать то же самое в ответ. Если мы видим, что кто-то, скажем, перешёл дорогу на красный сигнал пешеходного светофора, то и мы чаще всего ощутим в себе желание сделать то же самое. И так если и не во всём, то во многом. Увы, но добродетель не вызывает желания ей подражать, а потому воочию увидеть примеры подражания, скажем, кротости и незлобию бывает очень непросто.
Слова апостола Иоанна побуждают нас задуматься об этом и вспомнить, что христианская жизнь — это по своей сути непрестанное восхождение к Богу, следовательно, мы всегда волевым усилием должны преодолевать тяготение к греху точно так же, как альпинист преодолевает земное тяготение. Вниз идти, бежать, лететь — просто, но, устремляясь вниз, христианин удаляется от Бога, обессмысливая тем самым свою жизнь и лишая себя надежды.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Псалом 26. Богослужебные чтения

Помазание на царство — древнейший чин наделения человека властью. И светской, и церковной. Корни этой традиции следует искать в Ветхом Завете. И, например, звучащий сегодня в храмах псалом 26-й в некоторых редакциях имеет надписание — «перед помазанием». Давайте послушаем этот библейский текст.
Псалом 26.
Псалом Давида. [Прежде помазания].
1 Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
2 Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут.
3 Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
4 Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его,
5 ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу.
6 Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принёс бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом.
7 Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне.
8 Сердце моё говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи.
9 Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой!
10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня.
11 Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих;
12 не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
13 Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых.
14 Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа.
Псалом 26-й был составлен пророком Давидом между двумя его помазаниями на царство. Подчеркну — двумя. Дело в том, что первое помазание тайно совершил над Давидом пророк Самуил по указанию Божию. Свидетелями церемонии были отец и братья Давида. Второе помазание, которое было просто подтверждением первого, осуществлялось уже в Иерусалиме при большом стечении народа первосвященником древних евреев.
Прозвучавший псалом пророк Давид написал в период между помазаниями — во времена, когда скрывался от первого царя ветхозаветного Израиля Саула. Тот тоже был помазан на царство, но из-за греховной жизни лишился благодати Божией. И, соответственно, власти. Такой участи Саул не принял и начал преследовать Давида, о помазании которого узнал, желая погубить праведника. Безумный правитель никому не желал уступать своих полномочий. Давид же имел, как минимум, две возможности лишить Саула жизни, но не воспользовался ими. Потому что искренне считал даже грешного правителя помазанником Божиим, в отношении которого недопустимо применять насилие.
И в отношении себя Давид просит Господа о защите. Он надеется и верит, что Творец, избрав его для царского служения, проявит милость. Потому пророк и пишет: «Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? ... Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут». Так же ясно Давид понимает, что защита Господня не действует гарантированно, автоматически. Под охраной промысла Божия находится только тот, кто живёт в мире с заповедями Отца Небесного, кто не идёт против совести. И Давид, в отличие от Саула, всем сердцем стремился жить в благочестии и чистоте.
А ещё пророк и законно помазанный царь желал не своих благ искать, но трудиться во славу Божию. Потому Давид и пишет так вдохновенно о скинии — переносном храме-шатре, в котором совершалось богослужение в ветхозаветные времена: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаённом месте селения Своего, вознёс бы меня на скалу».
Желание Давида, в конце концов, исполнилось. Он нашёл покой в Иерусалиме рядом с храмом Божиим. Саул же погиб. Но не от чьих-то рук. Он сам себя лишил жизни, отвергнув покаяние и встав на путь отчаяния. И тот замечательный совет, который даёт в конце псалма 26-го царь и пророк Давид, пусть поддерживает каждого из нас, изгоняя из сердец уныние и открывая место для надежды: «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твоё, и надейся на Господа».
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
«Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова

Гостьей программы «Исторический час» была писатель, кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Анастасия Чернова
Разговор шел о русском народном фольклоре, и о том, что в его основе лежат совсем не языческие, а христианские смыслы и образы. О том, как и почему в изначально христианские народные сказания, былины проникали, якобы, исторические языческие мотивы, как это делалось искусственно в девятнадцатом и двадцатом веках и для чего это было нужно.
Ведущий: Дмитрий Володихин
Все выпуски программы Исторический час
- «Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова
- «Афанасий Афанасиевич Фет». Сергей Арутюнов
- «Адмирал Д.Н. Вердеревский». Константин Залесский
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов













