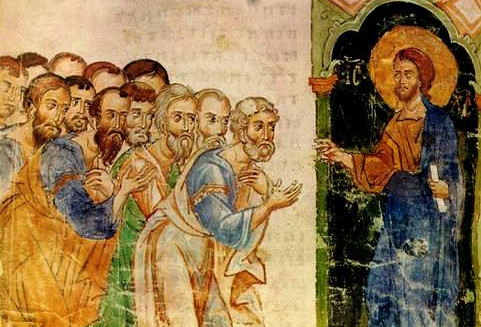
Деян., 40 зач. (от полу́), XVII, 19-28.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.
Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.
В истории христианства есть несколько проповедей, которые можно считать образцовыми, и о которых знают многие. Одна из них была произнесена апостолом Павлом в афинском ареопаге, содержится эта проповедь в 17-й главе книги Деяний святых апостолов, и сегодня она звучит в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем её.
Глава 17.
19 И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?
21 Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.
22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
Проповедь апостола Павла в ареопаге интересна по многим причинам. Во-первых, она, конечно же, интересна своим содержанием и используемыми риторическими приёмами. Во-вторых, место, время и аудитория её произнесения не были выбраны апостолом, эта проповедь была произнесена под принуждением, впрочем, далеко не всегда апостолы проповедовали только тогда, когда они сами этого хотели, и далеко не всегда их проповедь звучала в симпатизирующей христианству аудитории.
Здесь же мы имеем дело с аудиторией, которая и вовсе ничего не слышала о Христе, с аудиторией, которая стремилась не узнать нечто новое для своего назидания, а просто развлечься новой информацией. Эти люди были во многом похожи на тех наших современников, которые бесконечно листают новостные ленты, не имея при этом никакой практической цели, и руководствуясь лишь стремлением к получению своеобразной стимуляции мозга. В годы жизни святых апостолов не было интернета, не было и новостных лент, а потому люди вынуждены были развлекаться иначе — они должны были идти в общественные места и слушать риторов.
Апостол Павел не был ритором, у него не было соответствующего образования, да и необходимыми для этого дела дарованиями он тоже не обладал. Тем не менее он вынужден был взять на себя эту роль.
Был ли этот опыт удачным?
Однозначного ответа на этот вопрос не существует, потому как не существует и однозначных критериев удачной проповеди. На первый взгляд может показаться, что удачная проповедь — это та, которая достигла своей цели, в данном случае — обращения слушателей ко Христу. Однако проповедь может достигнуть своей цели и опосредованно — она может обратить только одного слушателя, который станет проповедником Христа для многих. Поэтому более значимым критерием можно считать внимание аудитории. Да, это внимание может быть всего лишь вниманием любопытства, но если есть внимание, то проповедь звучит, а значит она имеет шанс найти своего благодарного адресата.
Апостол Павел сумел на какое-то время заставить себя слушать, и за это время он успел сказать самое важное — возвестить о бытии Единого Истинного Бога, причём сделал он это, взяв за основу языческое предощущение Бога, апостол Павел попытался протереть помутнённый многовековым забвением сердечный взор афинян, и те, в ком теплилось стремление к истине, не могли не услышать слова апостола и не запомнить их. Проповедь апостола Павла была в высшей степени деликатной, он никакого не уязвил своими словами, никого не оскорбил и не поставил в неудобное положение, его деликатность была сопоставима с деликатностью Самого Бога, Который приходит в душу человека не в громе и молниях, не в шуме и землетрясении, а, как о том сказано в Третьей книге Царств, в «веянии тихого ветра» (см. 3Цар. 19:12).
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Задостойник Благовещения

Фото: Ksenya Loboda / Pexels
Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который Церковь отмечает 7 апреля по новому стилю, — один из моих любимых дней в году. В свежем прохладном весеннем воздухе витает какое-то особое ощущение обновления, пробуждения природы. А ещё — предчувствие радости, которую Архангел Гавриил принёс в этот день Пресвятой Деве Марии, сказав Ей: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между жёнами... Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус».
Каждый год в Праздник Благовещения Церковь в богослужебных текстах, в молитвах и песнопениях напоминает нам о той радости, которая стала началом величайшего в истории человечества события — прихода Бога на землю. Эта радость звучит, например, в песнопении, именуемом Задостойником Благовещения. Давайте узнаем, почему оно так называется, поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.
В богослужебной традиции православной Церкви есть особый момент: после Таинства Евхаристии, когда в алтаре заранее приготовленные хлеб и вино претворяются в Тело и Кровь Христовы, хор исполняет песнопение, посвящённое Богородице, которое называется «Достойно есть». Я рассказываю об этой молитве в одном из выпусков программы «Голоса и гласы». Но на великие праздники, такие, как Благовещение, хор исполняет задостойники — особые гимны, раскрывающие смысл торжества. Само название этого песнопения — задостойник — говорит о том, что поётся оно вместо песни «Достойно есть».
Первая часть задостойника Благовещения в переводе на русский язык звучит так: «Благовествуй, земля, радость великую, / хвалите, небеса, Божию славу». По-церковнославянски фрагмент звучит так: «Благовествуй, земле, радость велию,/ хвалите, Небеса, Божию славу». Послушаем первую часть задостойника Благовещения.
Вторая часть задостойника по-русски звучит так: «Пусть одушевлённого Божия Ковчега / отнюдь не касается рука недостойных» или по-церковнославянски «Я́ко одушевленному Божию кивоту,/ да никакоже коснется рука скверных». Послушаем вторую часть песнопения.
Песнопение завершается строчками, которые так переводятся на русский язык: «Но уста верных не умолкая, / воспевая возглас Ангела, / в радости Богородице да взывают: / «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!» На церковнославянском языке третий фрагмент песнопения звучит так: «Устне же верных, Богородице, немолчно,/ глас Ангела воспевающе,/ с радостию да вопиют:/ «Радуйся, Благодатная,// Господь с Тобою!»
Послушаем третью часть задостойника Благовещения.
Задостойник Благовещения появился в богослужебном уставе в византийскую эпоху, примерно в VI или VII веке. Образы, заложенные в нём, несут основополагающие богословские смыслы. В словах «яко одушевленному Божию кивоту» Богородица сравнивается с Ковчегом Завета, святыней, в которой, согласно Ветхому Завету, пребывала слава Божия. Фраза из песнопения «Да никакоже коснется рука скверных» — подчёркивает святость Пресвятой Богородицы. А главное, текст песнопения напоминает нам о том, что Благовещение — это не просто событие прошлого, а реальное переживание веры для каждого христианина. Ведь Благая весть, которую Пресвятой Деве Марии принёс архангел Гавриил, — это радость встречи с Богом любого человека, который готов откликнуться на эту весть всем сердцем.
Давайте послушаем задостойник Благовещения полностью в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.
Все выпуски программы: Голоса и гласы
Волгоград. Икона Сталинградской Божьей Матери

Волгоград был основан в шестнадцатом веке как острог Царицын, а с 1925-го по 1961-й год назывался Сталинградом. С таким именем город прославился во время Великой Отечественной войны в середине двадцатого века. Сталинградская битва 1942 года стала переломным моментом противостояния фашистам. В разгар этого затяжного сражения в городе произошло невероятное. В небе над разрушенными домами явилась Божия Матерь с Младенцем Христом на руках. Знамение утвердило веру жителей и защитников города в победу над фашистами. В 2020 году Сталинградское чудо запечатлел художник Василий Нестеренко в мозаичном панно. Мозаику можно увидеть на стене Патриаршего Воскресенского собора в парке «Патриот» в подмосковном городе Кубинка. Этот храм был построен и освящён в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. На основании мозаики эксперты утвердили иконографию образа Сталинградской Божией Матери. Одна из первых икон по этому канону написана для собора Александра Невского в Волгограде.
Радио ВЕРА в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM
Сосна

Фото: Иван Кузнецов / Pexels
Раннее июльское утро, на улице уже жарко. Природа и село проснулись, в деревянном храме идёт служба. Скромные подсвечники послушно собирают капли воска, капающие с тонких горящих свечей. В тишине церкви хрустальными нотами тропаря струится с клироса тихое пение матушки. Разноцветные косынки бабушек, как полевые цветы, неспешно кивают в поклонах Спасителю. Мужчины молятся на коленях. Со старинных потемневших икон смотрят на молящихся лики святых. Через настежь открытые окна в полумрак храма проникают голоса птиц и нагретый солнцем воздух. Становится душно, начинает кружится голова. Выхожу на минуту из церкви.
С высоты крыльца открывается вид на цветущий палисадник и высокие сосны, что окружают храм. Взгляд падает на одну из них, засохшую. Она так же высока и величественна, как её соседки, но уже мертва. Будто вырезанный из картона кажется её серебристый силуэт на фоне сестёр с золотистой корой и раскидистой зеленью веток. Она всё ещё красива изгибом ветвей и переливом серых оттенков ствола, но корни больше не питают её, потеряла она свою силу.
Всматриваюсь в неё и ловлю себя на мысли, что боюсь узнать в ней себя. А горит ли лампада внутри моего сердца, или я только стою в церкви, как картонный, и бездумно бегу по жизни? Тревожную мысль, будто порывом ветра, прогоняет возглас священника, и я с радостью перешагиваю порог церкви. Стремлюсь туда, к живительному ручью воскресной службы, что может напитать корни и придать сил. По храму разносится «Верую». Благодарю тебя, Господи, за такую возможность!
Текст Екатерина Миловидова читает Илья Крутояров
Все выпуски программы Утро в прозе














