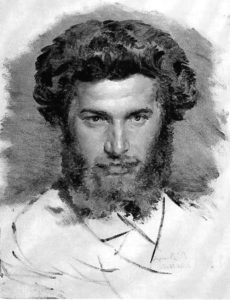Каждый день ровно в полдень, после выстрела пушки Петропавловской крепости, художник Архип Куинджи выходил на крышу своего петербургского дома. Здесь его уже ждали друзья. Так Куинджи называл голубей, воробьёв, ворон и галок, которые прилетали в любую погоду и которых Архип Иванович кормил с рук. Птицы садились на голову и плечи счастливого Куинджи, нисколько не боясь, словно знали, что для него нет большей радости, чем помочь голодному или больному.
К Куинджи постоянно приносили раненых пернатых. Архип Иванович лечил их, делал перевязки. Над сентиментальностью художника даже подтрунивали коллеги. Он, например, боялся раздавить муравья на тропинке или затоптать траву в лесу. Однажды помог бабочке, залетевшей в мастерскую, склеив ей разорванное крылышко и прооперировал двух грачей, спасая их от удушья.
Конечно, Куинджи помогал не только птицам. Защищать слабых он начал лет с пяти. В этом возрасте Архип остался сиротой, скитался по родственникам, работал и был грозой для мальчишек-хулиганов, обижавших животных. «С детства привык, что я сильнее и помогать должен», - говорил о себе Архип Иванович. Многие знали, что своим творчеством художник заработал огромное состояние. Но мало кому было известно, что он пожертвовал его на благие дела. Куинджи передавал деньги старикам и больным, а сам жил более чем скромно. При церкви деревни Карасёвка, в которой когда-то крестили маленького Архипа, открыли приходскую школу. Об этом просил сам Куинджи, передавая храму изрядную сумму.
Одна из благотворительных акций живописца потрясла его знакомых. Архип Иванович подарил Академии художеств, в которую безуспешно поступал два раза, сто тысяч рублей. На эти деньги учредили 24 премии и каждый год вручали их студентам. Кроме того, Куинджи устроил для учащихся кассу взаимопомощи. Императорское Общество поощрения художеств тоже получило в дар от благотворителя двенадцать тысяч рублей. Именно в этом Обществе была устроена выставка всего одной картины – «Лунной ночи на Днепре» кисти Куинджи. Зрители часами не отходили от полотна. Самые дотошные порывались заглянуть за холст, чтобы удостовериться: пейзаж не написан на стекле и не подсвечивается электричеством.
В 1894 году Куинджи пригласили преподавать в Академию художеств. У Архипа Ивановича не было детей, но он стал заботливым отцом своим студентам. Помогал им деньгами, оплачивал зарубежные поездки, отправлял учеников в Крым на отдых. Там у Куинжи было имение. В 1909 году он подарил его вместе со ста пятидесятью тысячами рублей Обществу поощрения художников, которое сам же и основал. Живописцы должны помогать друг другу, считал Куинджи, и перед смертью все свои полотна вместе с миллионом рублей завещал Обществу. Во время Первой мировой войны, уже после смерти Архипа Ивановича, оно передавало средства, собранные от продажи картин художников, которые в него входили, госпиталям и учредило палату для раненных солдат в Лазарете деятелей искусств.
Картины Куинджи продавались по немыслимо высоким ценам. Знаменитый художник Павел Чистяков даже позволил себе язвительное замечание: «Куинджи - это деньги». Возможно, он был бы менее циничен, если бы знал, на что расходуются эти деньги. Но Архип Иванович тщательно хранил от посторонних глаз свою частную жизнь и предпочитал помогать людям так, чтобы они не знали, откуда пришла помощь.
«А.П. Чехов о человеке». Прот. Павел Карташев

У нас в студии был настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского района протоиерей Павел Карташев.
Разговор шел о рассказах и повестях Антона Павловича Чехова, о его размышлениях о человеке, которые воплотились в его творчестве.
Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, приуроченных ко дню рождения Антона Павловича Чехова и посвященных разным сторонам его жизни, личности и творчества.
Первая беседа с Екатериной Каликинской была посвящена А.П. Чехову как врачу и филантропу (эфир 19.01.2026)
Ведущая: Алла Митрофанова
Все выпуски программы Светлый вечер
«Путь к священству». Протоиерей Сергий Точеный

У нас в гостях был настоятель московского храма Воскресения Словущего в Барашах протоиерей Сергий Точеный.
Наш гость рассказал о своем пути к вере и священническому служению. Как изучал восточные единоборства и различные духовные практики, но понял их ошибочность и пришел к Православию. Как в юношеские годы начал помогать в храме, как в определенный момент приходилось делать выбор между высокооплачиваемой работой и служением в Церкви. Также отец Сергий вспоминал, как Господь всегда явно поддерживал и укреплял на этом пути и помогал делать правильный выбор.
Кроме того, разговор шел об истории храма Воскресения Словущего в Барашах, где сейчас служит наш гость и о том, какая помощь сейчас особенно нужна в его восстановлении.
Ведущая: Кира Лаврентьева
Все выпуски программы Светлый вечер
«Волонтерство в военных госпиталях». Священник Владимир Суханов, Светлана Бабина
У нас в гостях были координатор пастырской помощи в госпиталях Москвы и Московской области Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, настоятель Троицкого храма при Детской городской клинической больнице святого Владимира в Москве священник Владимир Суханов и координатор добровольцев в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко, старшая сестра госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества Светлана Бабина.
Разговор шел о больничном служении священников и сестер милосердия в военных госпиталях. Наши гости поделились удивительными историями о том, как военным в моменты наибольшей опасности являлись святые и даже сама Богородица — и как это спасало их жизни и приводило к вере.
Ведущий программы: пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
Все выпуски программы Делатели