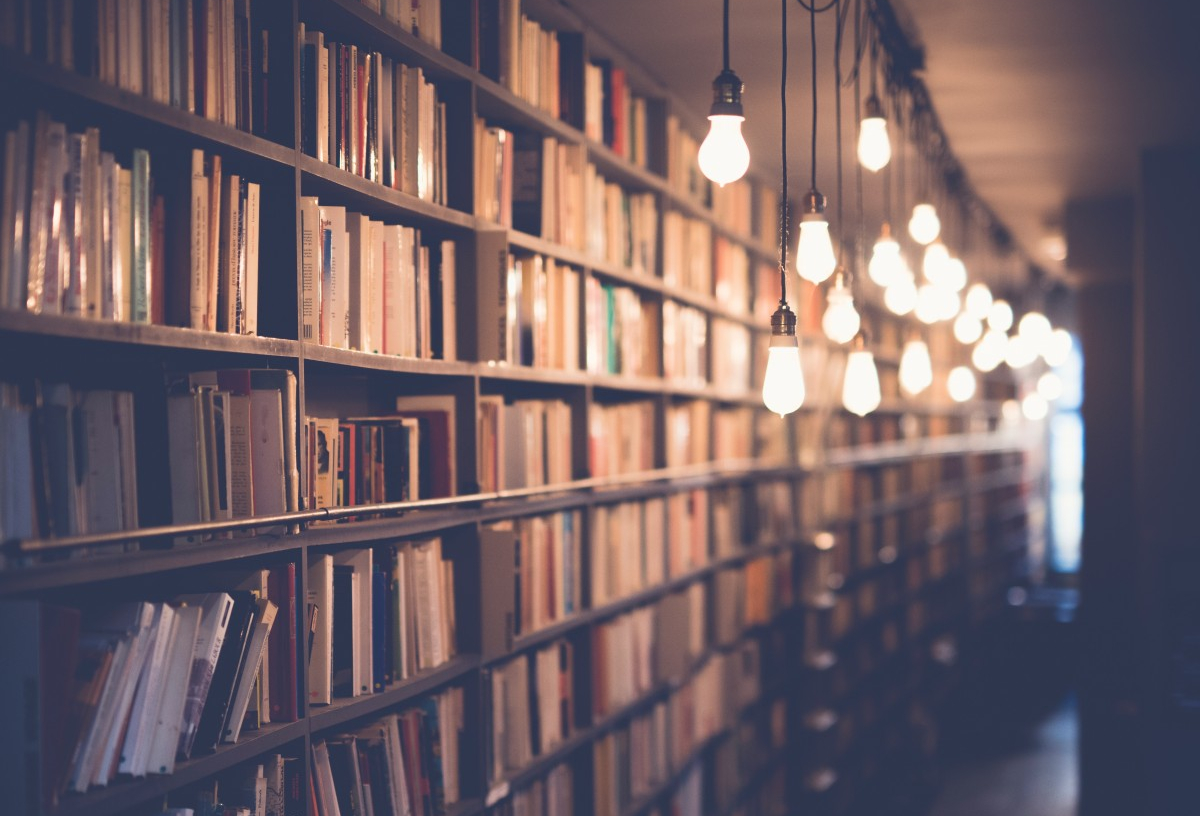
Гость программы — Валентин Балановский, кандидат философских наук, доцент Балтийского федерального университета имени И. Канта.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи» и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Иммануие Канте и религиозной личности. У нас в гостях кандидат философских наук, доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Валентин Балановский.
В. Балановский
— Здравствуйте.
А. Козырев
— Здравствуйте, Валентин. Спасибо большое, что вы приехали к нам в московскую студию с берегов Балтики, где на протяжении всего этого года отмечался 300-летний юбилей Иммануила Канта, и в этом плане Калининград заслуженно стал вот такой столицей этого юбилея, потому что это город, в котором провел свою жизнь Кант, и родился там. Правда, может быть, вы меня поправите потом, поскольку он родился, как я узнал из вашей книжки, не в Кёнигсберге, а в городе, который вошел потом в состав Кёнигсберга, ну и стал мировой знаменитостью, потому что, начав со студента, потом магистра, долго выбирал, чем ему заниматься, вот географией, другими науками, и стал знаменитым философом. Ну вот сейчас мы подходим к концу этого года, но еще не все юбилейные мероприятия, не все события произошли. Я хочу вспомнить, что все-таки этот юбилей отмечается по указу президента Российской Федерации, то есть такое вот особое значение было придано ему нашей государственной властью. Еще впереди международная студенческая олимпиада по философии, где соберутся молодые пытливые умы из разных стран мира и вступят в такое ристалище, но тем не менее, можно, наверное, подвести какие-то итоги. И вот первый мой вопрос: этот год сделал Канта более знаменитым, более известным в России, более популярным в России?
В. Балановский
— Алексей Павлович, благодарю вас за приглашение, для меня честь сегодня находиться в этой студии. Естественно, юбилей Канта праздновался не только в Калининграде но и в других городах России, и за пределами России, и, конечно, он стал популярнее. Оценивать, насколько это хорошо или плохо, может быть, сейчас не стоит, уже посмотрим потом плоды, но в любом случае он стал более узнаваем, больше людей стало интересоваться темой, больше стало ошибок, связанных с жизнью Канта, с идеями Канта, но это естественный процесс, если ты знаменитость, то люди хотят говорить о тебе, хотят что-то знать о тебе, и не всегда получается это реализовать как-то на самом высоком качественном уровне. Вот вы начали с того, что родился в Кёнигсберге или еще нет? Действительно, если формально и юридически подходить к вопросу, то Кант родился чуть раньше, чем были уже на бумаге объединены три города: Альтштадт, Кнайпхоф и Лебенихт, в единое образование, которое получило наименование Кёнигсберг. И Кант родился в предместье этого города примерно на три месяца раньше, чем, собственно, это формальное объединение произошло. Фактически уже связи были настолько плотные между этими частями города, что Кёнигсберг состоялся фактически, но юридически еще оставалось закрепить какие-то моменты.
А. Козырев
— А вот, собственно, детство Канта, ведь мы, когда говорим о Канте, мы всегда вспоминаем Карамзина, который к нему пришел в 1789 году, год взятия Бастилии, и описывает, что вот такой субтильный, нежный, белый старичок. Кант сразу вспоминается как старичок, нам кажется, что он родился уже таким немолодым, но ведь Кант был ребенком, как и всякий из нас, у него была такая весьма благочестивая христианская семья, да?
В. Балановский
— Да, причем семья, которая вместе с лидерами общины проходила через определенные испытания. Вы правы, что в восприятии обывателя зачастую Кант предстает уже с сединами, и состоявшийся философ — почему-то занудный философ, хотя он никогда таковым не был, наверное, смущает характер его книг, написанных для специалистов, но ведь он же и не для специалистов писал абсолютно блестящим понятным языком, искрометным. И, с одной стороны, если брать восточную философию, наверное, это большая честь быть воспринятым сразу как старик, как человек, умудренный сединами и наукой, но вы абсолютно правы — обычный мальчик в необычной семье родился, и у него были увлечения такие же, как у его ребят, те же забавы, те же шалости. Например, так как жила его семья вблизи реки, тогда называлась она Пре́гель, сейчас Прего́ля, то, естественно, из развлечений была как раз эта самая река, бревна, которые сплавляли лесорубы по этой реке, как по транспортной артерии, и это определенной ловкости требовало взобраться на такое бревно и удержать равновесие, и Кант вспоминал о таком эпизоде из своего детства, то есть совершенно обычный человек. А семья необычная была тем, что родители его принадлежали к пиетистской, на тот момент, наверное, еще секте, и отличалось это направление особым благочестием, причем не ритуальным, а внутренним, особой требовательностью к представителям этого направления, и надо сказать, что в принципе пиетизм в Пруссии воспринимается как такое государственное направление в лютеранстве, и это уже воспринимается как некий факт, но когда Кант родился или до того момента, как Кант еще появился на свет, пиетизм не был доминирующим направлением в Пруссии.
А. Козырев
— Пиетизм от слова «pietas» — «благочестие», да?
В. Балановский
— Да, и покровитель семьи Кантов, пастор Шульц, богослов, впоследствии он занимает пост ректора Кёнигсбергского университета (Альбертины), и когда пастор Шульц приехал в Кёнигсберг, то надо сказать, что местные жители неоднозначно его приняли, доходило до того, что ему даже били стекла из-за того, что пиетизм на тот момент воспринимался как нечто чуждое, какое-то поветрие непонятное, а потом — да, действительно, он вырос, по сути, до государственной идеологии, если можно так выразиться, но еще раз повторю, в те времена это было еще не так, надо было еще заслужить это уважение и принятие.
А. Козырев
— Пиетизм был очень популярен в России при Александре I. Я помню, когда я писал статью «Философия в России» для Большой Российской энциклопедии, Сергей Сергеевич Аверинцев мне говорил: «А почему вы не пишете о пиетизме?» То есть пиетизм, «Ночные бдения» Юнга-Штиллинга, вот эти тексты переводились, они были очень популярны среди московского дворянства, и вообще такое вот внимание к внутренней жизни, к религиозной жизни человека, оно отличает, наверное, и на Канта это повлияло, да?
В. Балановский
— Да. И еще один канал, по которому пиетизм, в форме, правда, кальвинизма попадает на территорию Пруссии — это переселение из франкоговорящих регионов Швейцарии людей в Пруссию, потому что в начале XVIII века земля была опустошена голодом и чумой, встал вопрос, кем замещать население, и очень много франкофонов приехало осваивать территории, в том числе те, которые относятся сейчас к востоку Калининградской области, и, собственно, с кальвинистами швейцарскими Кант имел возможность непосредственно общаться, когда начинал свой путь служения домашним учителем, сначала помощником домашнего учителя в деревеньке Юдшен, где у франкофонов была и администрация, и они хотели, чтобы у них службы вели.
А. Козырев
— Это теперешняя Веселовка?
В. Балановский
— Да, Весело́вка или Весёловка Черняховского района Калининградской области.
А. Козырев
— Там сейчас создан очень хороший музей, я был там.
В. Балановский
— Я, кстати, приложил тоже руку к формированию экспозиции в части написания текстов, научного консультирования.
А. Козырев
— Он такой интерактивный, то есть современный, там нет экспонатов, как в привычном музее, где какие-то артефакты, а это вот именно экраны, какая-то стендовая информация, изображение, визуализация. Но поскольку это в таком старинном немецком доме, хоть и восстановленном, то ты чувствуешь какое-то ощущение причастности, если не подлинности, то причастности к эпохе. А вот отец Канта, он был шорником, да?
В. Балановский
— Да, был шорником, членом гильдии шорников.
А. Козырев
— Кто такие шорники?
В. Балановский
— Шорники занимались изготовлением аксессуаров для лошадей, упряжи, шоры, всё, кроме сёдел.
А. Козырев
— Есть такое слово русское «зашоренный».
В. Балановский
— Да. Но то, что он был шорником, на мой взгляд, сильно повлияло на философию Канта, потому что, по сути, он пишет про те шоры, которые существуют у нашей души, которые стоят между нами и нашим восприятием реальности.
А. Козырев
— То есть такие экраны, которые нужно преодолеть?
В. Балановский
— Да, экраны, через которые мы только и можем воспринимать мир, это его априорная форма, априорная форма чувственности. И то, что отец его относился к гильдии шорников, с одной стороны, сыграло неплохую роль, потому что это всё-таки социальный статус, ты попробуй в городе средневековом или уже в Новое время стать мастером, мастером любой гильдии — чужих не пускали, рынок был поделен, на всех не хватало потребителей услуг и товаров, поэтому ты либо должен был родиться в семье мастера, либо жениться на дочке мастера — вот, собственно, с отцом Канта так и произошло, он женился на дочери шорника, члена гильдии шорников Кёнигсберга, и это давало определенные плюсы, но не всё было так гладко.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — философ, доцент БФУ имени Канта Валентин Балановский, мы сегодня говорим о Канте и религиозной личности, всё-таки имея в виду, что, наверное, Кант таковой личностью и являлся. Вот у Голосовкера была книга «Достоевский и Кант», очень популярная, кстати, в 60-е годы, Яков Голосовкер был не самый публикуемый автор, и ему мало что удалось издать, но вот когда эта книжка вышла в издательстве «Наука», люди старшего поколения рассказывали, что они все читали, зачитывались этой книжкой, потому что это был такой глоток свежего воздуха. Вот там Кант изображён, как такой чёрт Ивана Карамазова. Вообще, если говорить, кто такой Кант — вот это чёрт, то есть человек, который всё подвергает сомнению, всё подвергает критике, выворачивает его личность наизнанку, в общем-то, уводит его от Бога. Вот прав Голосовкер был, действительно ли Кант такой смутитель, соблазнитель, разрушитель, как его воспринимал Голосовкер, или всё-таки это какая-то определённая иллюзия человека для такой советской культуры? Голосовкер-то сам, кстати сказать, не был очень верующим человеком в христианском плане.
В. Балановский
— Для этого есть и формальные основания, и содержательные основания. Ну, формальные основания какие? Да, действительно, был такой эпизод в посмертной славе Канта, когда его книгу внесли в папский «Индекс запрещённых книг», но это произошло не прямо вдруг, в 1827 году, насколько я помню, и книга эта была не «Религия в пределах только разума», а «Критика чистого разума», то есть, казалось бы, книга по теоретической философии, по теории познания вдруг попадает в реестр запрещённых книг католической Церкви — надо полагать, из-за того, что там содержалась критика традиционных рационалистических доказательств бытия Бога, это формальная причина. Содержательная причина — ну да, действительно, Кант воспринимался как атеист в своё время, как такой смутьян, бунтарь. В чём это выражалось: несмотря на то что довольно близкие его друзья были богословами, причём богословами успешными, один из биографов канонических Канта посчитал невозможным для себя прийти на его похороны, потому что он полагал, что это может навредить его карьере в богословии и в Церкви. Не знаю, оправдалась бы его ставка? Речь идёт о Людвиге Боровски.
А. Козырев
— А похороны-то были религиозные, в лютеранской церкви?
В. Балановский
— Это были довольно скромные похороны, иногда их сравнивают с похоронами матери Канта, хотя на самом деле прямо вот скромно-скромно не получилось это сделать, потому что величина личности уже на тот момент была настолько огромна, что многие хотели проститься, а в итоге это больше такое светское прощание получилось.
А. Козырев
— Но, тем не менее, служба какая-то была в лютеранской церкви?
В. Балановский
— Да, и он, кстати, был последним, кто удостоен чести быть похороненным у стен кафедрального собора в так называемой профессорской крипте или аллее, и после Канта больше уже там не захоранивали. Боровски решил не приходить на службу, после он стал архиепископом Евангелической церкви Пруссии, он действительно сделал блестящую карьеру, но уже после смерти Канта, это говорит о том, каким образом современники воспринимали Канта. Но если мы начнём рассматривать уже с позиции сегодняшнего дня и с позиции того, что Кант хотел сказать, в том числе своими трудами, которые непосредственно относятся к философии религии, ведь Кант неплохо понимал про то, что мы сейчас называем «связи с общественностью». Он понимал про престиж, в том числе и религии, и Церкви, и каким образом можно продлить в современных условиях жизнь, в том числе старым институтам религиозным. Ведь, как он говорит, насколько я помню, в «Споре факультетов», там старшие факультеты, например, медицинский, уже обратился к науке Нового времени, это с одной стороны. С другой стороны, наука торжественно шагает в будущее. С третьей стороны, Кант реанимирует философию и пытается ее поставить на научные какие-то основания. А дальше он задается вопросом, ведь притязания разума таковы, что только то, что согласуется с ним, то, что так или иначе считается с потребностями разума, то и будет жить в дальнейшем. И отсюда рождается его идея религии в пределах разума, как раз как попытка тоже, так сказать, «онаучить» религию и тем самым вернуть ей популярность, но уже в согласованности с духом времени, с духом эпохи Просвещения.
А. Козырев
— Ну, это эпоха Просвещения, то есть здесь свет разума является, наверное, главным понятием, поэтому это накладывает отпечаток, и в том числе на то религиозное воспитание, которое Кант получил в юности, а воспитание это было жёсткое, семья была суровая, аскетическая, прямо скажем, и большая, девять детей, да?
В. Балановский
— Да, но понятно, что не все дети выжили, по большому счёту даже из младших детей четы Кант только Иммануил и одна его младшая сестра прожили дольше всех.
А. Козырев
— Сестра, которая ухаживала за ним?
В. Балановский
— Да, которая ухаживала за ним.
А. Козырев
— Вот совершенно простая женщина, у которой была установка, что надо ухаживать за стареющим братом, и она абсолютно по-христиански, что называется, отдавала ему все свои силы.
В. Балановский
— В итоге из мальчиков выжил только Кант и его младший брат, который становится пастором. Кстати, впоследствии эта ветка Кантов оседает в Российской империи и есть данные о том, что потомок этой линии участвовал в создании «Уралмаша».
А. Козырев
— Вообще потрясающе.
В. Балановский
— А что касается воспитания, то мы прекрасно понимаем, что блестящее образование, которое получает Кант, это образование пиетистское, с другой стороны, Кант был, мягко говоря, не в восторге от этих порядков.
А. Козырев
— А в университете он тоже на богословском факультете учился? Ведь философский факультет был как бы открывающим, то есть сначала надо было поучиться на философском, а потом идти на медицинский, на юридический, на богословский факультет.
В. Балановский
— Вот здесь в университете следы Канта немножко теряются, то есть мы не можем с абсолютной точностью говорить о том, какой характер имела его образовательная траектория, потому что, конечно, родителям хотелось бы, чтобы он был богословом, пастору Шульцу, который благоволил Канту, хотелось бы, чтобы он был богословом, но, судя по всему, Кант не очень хотел быть богословом, поэтому вроде как из курсов по теологии он прослушал только курс Шульца, и то, надо полагать, из глубокого уважения к этому человеку. Также его не было в списке студентов медицинского факультета, потому что, насколько я помню, только медицинский факультет вёл отдельные списки своих слушателей, потому что их было не так много, ну и плюс ещё это связано с продолжением карьеры в такой очень чувствительной сфере. В итоге создаётся впечатление, что Кант в основном осваивал философские дисциплины, и, кстати, из-за того, что он понимал изменившуюся роль философии, натурфилософии, которая превратилась в науку Нового времени, он становится одним из идеологов реформирования системы высшего образования, и в своём споре факультетов он пытается провести мысль, что философия уже достойна из пропедевтического факультета, младшего факультета, стать полноценным факультетом, потому что тот бум наук естественных и гуманитарных, который не относится ни к богословию, ни к юриспруденции, ни к медицине, он просто уже вынуждал изменить структуру классического университета.
А. Козырев
— В этом году мне мой коллега, декан географического факультета, подарил «Физическую географию» Канта, великолепно изданную, по-моему, Музеем мирового океана в Калининграде, и я полистал, там есть факсимиле оригинального издания, и есть русский перевод, который сделан, по-моему, впервые полностью этой книги. Но это же совершенно не философская книга — муссоны, пассаты, течение мирового океана. Это книга по географии, причём написанная человеком, явно знающим то, как устроен земной шар, абсолютно памятник такой естественно-научной мысли.
В. Балановский
— Там часть его лекций по географии приведены, и действительно, только благодаря президенту Музея мирового океана Светлане Геннадьевне Сивковой, потому что она загорелась такой идеей и зажгла остальных специалистов, которые работали над проектом, потому что, строго говоря, для географов этот труд уже не актуален, и вряд ли бы кто-то взялся за такую большую работу, философы сказали бы, что им тоже не актуально, хотя на самом деле это же больше и про философию, мы сейчас говорим про глобальный эволюционизм, когда естественно-научные предметы в рамках университетского образования преподаются единым каким-то блоком от возникновения Вселенной до текущей ситуации, в том числе общественно-политической — так это ход, который предложил Иммануил Кант.
А. Козырев
— Извините, но когда мы сейчас переиздаём «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского или «Христианскую топографию» Козьмы Индикоплова, мы же не говорим, что это учебное пособие, по которому надо на географическом факультете заниматься, эти тексты очень важны как становление науки библейской, тесно связанной с христианским видением мира, средневековым видением мира, но без этих текстов нет истории науки. Точно так же, наверное, и «Физическая география Канта» занимает своё место в науке XVIII века.
В. Балановский
— А самое главное, это прекрасный памятник, который нам показывает, что если ты умеешь читать в широком смысле, то есть анализировать информацию и выжимать всё из тех источников, которые у тебя есть, то ты, даже не выезжая из одного города, в состоянии составить более-менее не противоречивую и достоверную на тот момент картину мира, и это как раз и есть лекции Канта по географии.
А. Козырев
— И всё-таки он немножко выезжал, да?
В. Балановский
— Ну, это где-то примерно в радиусе 150 километров от Кёнигсберга.
А. Козырев
— Да, он и плавал по морю, и морская болезнь была у него.
В. Балановский
— Да, был такой эпизод.
А. Козырев
— Были какие-то попытки выбраться за пределы.
В. Балановский
— Но то, что он не имел доступа в сеть интернет, просто сейчас почему-то всем кажется, что надо обязательно стремиться в столицу, надо обязательно найти доступ к каким-то сверхтайным знаниям, у Канта не было ничего этого, но он умел читать, он умел пользоваться тем, что ему дала жизнь, природа, это, кстати, тоже один из моментов пиетистского воспитания.
А. Козырев
— Он, по-моему, читал курс по теологии в университете, по крайней мере, один опыт чтения такого курса у него был.
В. Балановский
— Всего этих курсов было за сорок, которые он читал за свою жизнь. География, кстати, входит в тройку лидеров среди этих курсов. Просто для нас сегодня естественно, что каждый преподаватель, во многом это человек, который формирует программу, пишет программу дисциплины рабочую, ещё какую-то методичку может написать, а тогда всё было строго: надо было читать по учебнику, который утверждён выше, и я так полагаю, что читать теологию по традиционным теологическим учебникам для Канта было большим испытанием, поэтому он очень любил географию, по которой не было учебников, и можно было самому придумать курс.
А. Козырев
— Кстати, я сегодня говорю, что для поступающих на философский факультет было бы неплохо ввести ЕГЭ по географии, и у нас, кстати, есть на религиоведении такой экзамен по географии, как один из возможных, а может быть, и по физике, потому что вот это восприятие философии как чисто гуманитарной дисциплины, оно неверное. Вот есть философия науки, есть представление о том, что есть современная картина мира, и хотя прошло уже два века после Канта, но сегодня не менее важно знать, как мир устроен, в принципе, да?
В. Балановский
— И сегодня естественные науки запрашивают некую консультацию от философии, потому что вал эмпирических данных, которые получают с помощью современных методов, он еще до конца не осмыслен, и тут требуется некий взгляд со стороны, метавзгляд, который может обобщить и вывести некое единое из того многообразия, которое имеет сегодня наука. И задача философии в том числе в том, чтобы этот взгляд дать, но, как вы правильно совершенно заметили, философия воспринимается как гуманитарная наука, а это значит, что нам не надо считать, нам не надо знать основы физики, а это первостепенные предметы на самом деле, и еще раз стоит напоминать о том, что наука — это натурфилософия, это то, с чего, собственно, философия и начиналась.
А. Козырев
— Мы сегодня в эфире Радио ВЕРА, Светлого радио, с Валентином Балановским, философом из Калининграда, земляком Иммануила Канта, рассуждаем о Канте и о религиозной личности, после небольшой паузы мы вернемся в студию и рассмотрим какие-то другие стороны, другие аспекты этой религиозной личности.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость — доцент Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат философских наук, популяризатор науки Валентин Балановский. Я говорю о том, что вы популяризатор, зная, что вы тоже радиоведущий, вы ведете у себя в Калининграде радиопрограмму, как она называется?
В. Балановский
— Она называется «Наука без границ», и мы как раз стараемся наших слушателей знакомить с достижениями современной науки, причем акцент делаем на науку калининградскую, потому что, когда человек (а человек вполне определенный — абитуриент) живет вдали от столиц нашей страны, у него создается какое-то ощущение покинутости, брошенности, и рождается не совсем верное мнение, что обязательно надо стремиться куда-то центрее и центрее, и центрее.
А. Козырев
— Когда ваш университет получил имя Канта, это, по-моему, было не так давно, он стал очень бурно развиваться, то есть сейчас строится огромный кампус, появляются новые специальности наукоемкие, и в этом плане, я думаю, что скоро, а может быть, уже даже — люди поедут из других регионов в Калининград учиться, а не в Москву и не в Петербург.
В. Балановский
— И уже, кстати, едут из Петербурга, из Москвы к нам учиться, но все равно есть такое ощущение, что надо куда-то дальше, дальше, дальше. Вот у Канта, например, такого ощущения не было.
А. Козырев
— Есть русская поговорка «Где родился, там и пригодился», вот она абсолютно работает.
В. Балановский
— В отношении Канта, так точно. А у нас в Калининграде тоже масса интересных направлений, но просто люди не знают об этом, вот и пытаемся познакомиться.
А. Козырев
— Кстати, про имя Канта, вот говорят «Кант-атеист» — ну, извините, его звали Иммануил, причём он сам исправил своё имя. Это тоже очень интересная история: родители его назвали Эммануил, и он, изучая древние языки, решил, что более правильно будет, если он своё имя запишет как Иммануил, что в переводе с древнееврейского означает «с нами Бог», «с нами Бог, разумейте, языцы и покоряйтеся». И было бы странно, если бы Кант не знал этого перевода своего имени, то есть, по сути, его имя уже является таким богоносным.
В. Балановский
— Мало того, что знал, так ещё и гордился своим именем, это тоже его характеризует как человека, который в современном понимании не был атеистом, и наоборот пытался даже как-то конституировать веру, пускай и в практической сфере, в практической плоскости, в плоскости этики, но напомню для наших слушателей, что для Канта ничего важнее этики не было.
А. Козырев
— Вот это тоже вопрос, о котором нужно обязательно вспомнить — моральная философия Канта, ведь все мы помним его высказывания, опять-таки, сейчас, может быть, вы поправите, потому что в своей книжке «Кант. Просто» вы развенчиваете миф о том, что многие цитаты принадлежат Канту. Но все-таки цитата о том, что «Две вещи меня всегда восхищали — это нравственный закон внутри нас и звездное небо над нами», это кантовская цитата?
В. Балановский
— Да, кантовская. Она в оригинале немного длиннее, и как раз она указывает на два фокуса интереса Канта, ну и в принципе человека, как существа разумного: это окружающий мир, это то, чем занимается наука, естествознание — то самое звездное небо, и моральный закон — то, что определяет человека как существо совершенно уникальное, как существо, которому многое в этом мире дано, но с которого и много спросится на самом деле. И, кстати, когда Кант говорит про идею Бога, про то, где она обретает всеполноту, а это сфера человеческой свободы, сфера взаимоотношений между людьми, сфера человеческого поступка, сфера долга, то почему-то все забывают о том, что идея Бога, как некая идея всеединства, что очень хорошо впоследствии разбирается Владимиром Сергеевичем Соловьёвым, она определяет не только наши взаимоотношения, не только то, что относится к этике, но эта же идея нами ведёт и в науке. Казалось бы, с одной стороны, Кант критикует традиционные доказательства бытия Бога, и, в восприятии его критиков, Бога прямо изгоняет из мира проявленного, из мира, который можно пощупать, потрогать, хотя совершенно необязательно такое представление Бога, но тем не менее, вот этот идеал некоего всеединства, он нами ведёт и в нашем научном интересе. В «Критике способности суждения» это очень хорошо рассматривается Кантом, это критика, которая прокладывает мост между критикой чистого разума и критикой практического разума. И здесь выясняется, что как раз для человека свойственно искать единство в том разрозненном, что даётся его наблюдению. Не факт, что это единство действительно существует, не факт, что есть какая-то целесообразность в том, что нас окружает, но мы не можем не искать эту целесообразность.
А. Козырев
— Так называемые телеологические суждения, то есть суждения с точки зрения цели: а для чего?
В. Балановский
— А как тут скажешь, для чего?
А. Козырев
— Когда мы что-то спрашиваем, мы обо всём спрашиваем — а для чего? Мы что-то делаем — а для чего?
В. Балановский
— Да, но тут я бы вслед за Кантом ответил, что потому что так устроен человек, потому что так устроена наша душа, что мы по-другому даже ничего не распознаем в этом мире. И обратите внимание, как развивались общественные отношения, как развивались научные знания, ведь так как есть идеал единства, всеединства, то, например, физики пытаются найти единую частицу. Другое дело, что физический мир от нас постоянно ускользает, и когда мы вроде решили, что атом — это атом, это неделимое, вдруг оказалось, что атом делим, а потом, когда решили, что то, на что он делим, уже дальше не разлагается, а оказалось — разлагается, и дальше деление пошло, и пока вот эту единственную частицу ещё не удалось поймать за хвост, но это стремление нами ведёт, и мы не останавливаемся в этом поиске.
А. Козырев
— Но, кстати, Бог мыслится ведь верующим человеком не только как причина всего, то есть Бог как Творец мира, но и как цель. Если мы о Боге говорим только как о причине, вот те, кто не любят эволюционизм и критикуют Дарвина: «нет, Бог всё создал, Бог создал человека», но для чего? Для того, чтобы «Бог стал всё во всём», как говорит апостол Павел, то есть Бог — ещё и целевая причина, и конечная причина, верующий человек думает о спасении, о том, чтобы быть с Богом после окончания своих земных дней. В этом плане Кант, по-моему, совершенно чётко представлял вот эту двустороннюю связь.
В. Балановский
— Конечно. И его философский метод, метод познания, он всё-таки характеризуется, в первую очередь, как телеологический.
А. Козырев
— И этим Кант был всегда родственен и близок русским духовным академиям, где мысли Канта узнали раньше, чем в университетах, это тоже очень интересная тема.
В. Балановский
— Да. Причём увлечение философией Канта в России началось в обратном хронологическом порядке, то есть начали увлекаться идеями Гегеля, потом перешли к предшественникам — к Шеллингу, к Фихте, дошли до Канта и тут, конечно, в полной мере раскрыли, в том числе, и потенциал русской философии, и русской религиозной философии.
А. Козырев
— Кстати, первая критика кантовская, она же вышла, если я не ошибаюсь, в Риге. Не первая книга его, конечно, Кант уже к этому времени много чего издал, но вот то, что называется «критической философией» Канта, то есть, по сути, это не Кёнигсберг, это в советское время, можно сказать, был один из центров русского мира, хотя, конечно, по-немецки критика выходила.
В. Балановский
— С другой стороны, надо сказать, что у Канта не настолько была сильная идентификация с немецкой культурой.
А. Козырев
— А Кант русский не учил?
В. Балановский
— Русский он не учил, но был неплохим знатоком и русской культуры, а как могло быть иначе, если окружение Канта, по сути, это родственники или даже служащие дипломатического ведомства, которые отстаивали интересы православных народов Европы, которые добивались того, чтобы Российская империя была признана империей, потому что мало самого себя назвать императором...
А. Козырев
— Ну и потом, Семилетняя война, когда он приносит присягу российской императрице Елизавете и пишет прошение, правда, по-моему, оно не было удовлетворено — о приёме на работу в качестве профессора, но потом он переприсягал, повторную присягу приносил?
В. Балановский
— Такой вопрос часто задаётся. Не было такой процедуры переприсяги, то есть к присяге дополнительной или повторной в каких-то исключительных случаях, наверное, могли привести военные сословия. Всё-таки это гражданские сословия, присяга была письменная, причём, судя по всему, не каждый лично присягал, а были представители, которые сразу за, допустим, университетскую корпорацию или за факультеты эту присягу подписывали, потому что специалисты искали-искали подпись Канта, но вроде не нашли пока, либо пока, либо вообще её нет. Но и переприсягать не надо было, здесь следует обратить внимание: текст присяги содержал не только ссылку на Елизавету Петровну, но и на её наследника, соответственно, всё, что делает наследник, всё уже является законом для тех, кто присягнул, и так как наследник вернул город прежним хозяевам, то даже здесь, с формальной точки зрения, не надо было никаких переприсяг, это была бы просто бессмысленная трата времени, усилий, и самое главное, такой юридической формы-то толком не было.
А. Козырев
— Ну, Елизавета Петровна нам ещё и Московский университет ведь создала, это был Елизаветинский университет, как он первоначально назывался.
В. Балановский
— И надо сказать, что очень тесная связь между наукой в Российской империи и Кёнигсбергом, и началось всё ещё с Петра, когда он отправлял молодых людей учиться в Кёнигсбергский университет, и потом профессуру выписывали для формирования Академии Петербургской, так что у нас на самом деле связи были тесные. А потом, когда к этому ещё и примешалось масонство времён Семилетней войны, то связи стали ещё более тесными, ведь чтобы как-то укрепить связь во внутрополитическом плане между русской администрацией и жителями Кёнигсберга даже прибегли к такому способу, как получение лицензии на ведение деятельности масонской ложи, которая могла осуществлять посвящение там выше капитана, что ли, как-то так. И плюс ещё в этом участвовал книготорговец Ка́нтор, который также занимался и популяризацией Канта, и потом это всё объединилось в сеть книжных магазинов и немножко масонскую сеть по всей Прибалтике, плюс ганзейские города, это очень интересное переплетение судеб, интересов политических. И очень интересно было, как один из друзей Канта — Ги́ппель, который был обер-бургомистром Кёнигсберга уже во времена после Семилетней войны, старался поддерживать отношения с Россией, с русскими, и восхищался, правда, там уже Екатериной. Просто когда читаешь про это всё, когда это всё выясняется, то создаётся впечатление, что мы сегодня живём более разобщенно, чем тогда представители разных стран жили в том времени, в том мире.
А. Козырев
— Несмотря на отсутствие интернета.
А. Козырев
— В эфире Радио ВЕРА программа «Философские ночи», с вами её ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, гость из Калининграда, философ, кандидат философских наук Валентин Балановский, сегодня мы говорим о Канте и религиозной личности. ы затронули тему этики, и, действительно, даже вот задать вопрос: а не является ли такая регалистическая достаточно позиция Канта, суровая позиция в этике следствием его пиетистского воспитания, его религиозного воспитания? Ведь, по сути, мы к этике как относимся: что есть, конечно, какие-то принципы моральные, они меняются со временем, они меняются от обстоятельств каких-то, одна этика сейчас, другая этика будет через пятьдесят лет. А Кант как раз исходит из принципа, который очень близок нашему религиозному пониманию морали, что есть абсолютная этика, есть то, что морально всегда, и это как Божественный закон, который внутри человека прописан. Нельзя ли видеть в таком морализме Канта религиозные истоки?
В. Балановский
— На мой взгляд, ригоризм философии Канта, ригоризм этики Канта вполне вытекает из ригоризма пиетистского мировосприятия, и, конечно, Кант находился под влиянием судьбы своих родителей, которые действительно были воплощением этих идеалов, не все ведь, даже пиетисты в общине, могли настолько последовательно идти за вероучением, именно поэтому пастор Шульц обратил внимание на эту семью, на Иммануила, настоял на том, чтобы Канта перевели в лучшую гимназию, одно из лучших учебных заведений на тот момент, из этого и рождается философия Канта, поэтому, естественно, его этика, она не терпит компромиссов, и Кант совершенно справедливо рассуждает о том, что из опыта мы, конечно, абсолютные законы не можем вывести, но, действительно, всегда люди воевали, всегда люди воровали, всегда люди некрасиво поступали по отношению друг к другу, и если бы мы только основывались на эмпирических данных, то значит, можно и так, и так, и так, времена меняются. Сами понимаете, Канта это вообще не устраивает, для него было очень важно показать, что универсальные принципы нравственности существуют, они существуют в каждом из нас, они говорят с нами через нашу совесть, и он пытался вывести эту формулу, формулу нравственности, которая, как я бы сказал, позволяет войти в рай любой конфессии, по большому счёту, то есть это та база благого, которая присутствует в каждом человеке, за исключением, наверное, каких-то исключительных, простите за тавтологию, случаев, когда мы говорим о социопатии...
А. Козырев
— За исключением бесславных ублюдков.
В. Балановский
— Да-да-да. Ну и психиатрических случаев, потому что совесть не болит только у социопата.
А. Козырев
— Ну это же ведь в пределе золотого правила морали, то, о чём учил Христос — не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы делали тебе.
В. Балановский
— Ну вот Кант критиковал золотое правило морали и как раз на этой критике пытался вывести свою вот эту универсальную формулу, потому что при поступке мы должны ориентироваться не только на то, что не хотели бы мы, а мы, как вот эта религиозная личность, то есть как всё человечество, все разумные существа.
А. Козырев
— В моём лице мы представляем собой всё человечество.
В. Балановский
— Да, и только то, с чем могли бы согласиться все разумные существа, какими бы они ни были, только так и стоит поступать. Если бы хоть одно разумное существо могло бы опротестовать твой поступок в данных условиях...
А. Козырев
— Но именно разумное.
В. Балановский
— Да, именно разумное. Кант полагал, что и инопланетяне тоже есть, причём даже такую интересную градацию выводил, что чем дальше существа эти живут от Солнца, тем более они разумные и духовные. То есть понятно, что мы «не очень», хуже нас только те, кто на Венере и на Меркурии.
А. Козырев
— Мы посерединке.
В. Балановский
— Лучше всего сатурнианцы, конечно, ещё лучше те, кто на Уране живут. Кстати, Кант предсказал открытие Урана, и открытие Урана Ге́ршель осуществил при жизни Канта ещё, это к вопросу об интересе к звёздному небу кантовском. И когда мы говорим о жёсткости нравственных принципов, которые Кант отстаивает, которые Кант формулирует, нужно всё-таки понимать, что для него определённый ориентир задавала, например, концепция Бенедикта Спинозы, который показал, что этика может быть построена на строго научных принципах, этика может быть построена на принципах геометрии, по правилам геометрии. Конечно, в полной мере Кант не мог согласиться с техникой Спинозы, но для него это стало таким и вызовом, и ориентиром, потому что этика должна быть строже математики, вот так скажем.
А. Козырев
— Иногда наши люди и правда действуют «геометрически», когда они, например, говорят: «а мне это перпендикулярно», то есть не хотят делать, безразличие проявляют, употребляют какие-то геометрические аллюзии, но это в плане шутки, а вообще, конечно, надо сказать, что кантовская этика действительно отличается от спинозистской, потому что Спиноза пытается это в виде каких-то теорем излагать, а Кант — всё-таки применительно к каким-то жизненным ситуациям, то есть он не чужд к таким проявлениям, например, стоит ли лгать из человеколюбия? Вот это знаменитый кантовский вопрос, что — нет, ни в коем случае, по крайней мере, если ты собираешься действовать морально. Вот если ты как-то действуешь вне морали, то всё что угодно, а вот если морально, то ты не имеешь права.
В. Балановский
— Причём, когда он пытается даже смоделировать ситуацию, когда ты пытаешься солгать из человеколюбия, то из этого выходят очень нехорошие следствия. Когда читаешь это, закрадывается впечатление, что Кант очень близок к восточной мудрости, и в этом даже сказывается какой-то даосизм Канта, то есть как раз не солгав, мы не вносим какие-то помехи, вибрацию в мироздание, это сродни идеалам недеяния, который отстаивают даосы, и недаром, конечно, Канта Ницше обвинял в кёнигсбергском китаизме.
А. Козырев
— Я недавно услышал такое выражение «православный буддизм», такой православный буддизм своего рода, да?
В. Балановский
— Православный дзен, да.
А. Козырев
— Но вообще, если мы возьмём такое альтер-эго Канта, то, может быть, это не только Ницше. К Ницше у нас отношение понятно какое, то есть нехристь, «Бог умер», а это и Константин Леонтьев, вот полная противоположность Канта, человек, который считает, что моральным требованиям отвечают какие-нибудь добрые обыватели, а вот настоящие герои истории, они должны руководствоваться эстетикой жизни, яркостью, а вовсе не моральным каким-то суждением.
В. Балановский
— Здесь очень важно понимать, что Кант задаёт некую канву, некую рамку, даёт метод, новый метод, кстати, в философии, поэтому немецкая классика, мы знаем только два классических периода в истории мысли философской — античная классика и немецкая классика, а это означает, что рефлексия продолжается и после Канта, и, конечно, эстетическое переживание, оно и для Канта было важно, и он отводил определённую сферу тоже...
А. Козырев
— Вообще-то говоря, он один из основателей этой науки эстетики, потому что эстетика — это наука о чувственности.
В. Балановский
— Да, но с другой стороны, если мы берём этику Канта, принципы, которые не основываются на эмпирических данных, потому что этика должна исходить из незыблемых принципов, но впоследствии даже и этот подход получает в какой-то мере эмпирическое обоснование уже в «Психологии бессознательного» Карла Густава Юнга. Юнг во многом стоял на философии Канта, у него вообще на самом деле два любимых философа — это Кант и Шопенгауэр, он их цитирует примерно одинаковое количество раз и в совокупности больше, чем всех других философов. Я даже не поленился, собрание сочинения Юнга, просчитал по количеству упоминаний, и на первом месте — Кант, на втором — Шопенгауэр, только если Шопенгауэра он критиковал, то к Канту у него более такое комплиментарное отношение. Так вот, Юнг много внимания уделил изучению примитивных народов, он сам много путешествовал и мог убедиться на собственном опыте взаимодействия с этими людьми, и пришёл к выводу, это не дословная цитата, что «то, что действительно хорошо — хорошо и для европейца, и для туземца, а то, что действительно плохо — плохо и для европейца, и для туземца». Причём это зашито на уровне каких-то бессознательных надиндивидуальных структур.
А. Козырев
— Есть такая поговорка «Что русскому хорошо, то немцу — смерть», вот это абсолютно не про то. (смеются)
В. Балановский
— Это не согласуется с принципами кантовской этики. То есть вдруг в неожиданной области, а мы вспомним, что Кант — певец эпохи Просвещения, Кант — певец сознания, но он и закладывает основу психологии и философии бессознательного, тем не менее, и вот эта линия впоследствии тоже обращается к тому, что нравственное начало, божественное начало, начало, которое связано с нашей совестью, оно неизменно, вне зависимости даже от того, в какую эпоху мы погрузимся. А что касается роли веры, христианства, то у Юнга даже есть такая оригинальная концепция антропогенеза. Он говорит, что наша психика, в современном её виде, она абсолютно не характерна для древних народов, то есть у древнего человека, у первобытного человека психика — это совокупность равновеликих центров самосознания, которые ещё не сведены к какому-то единому началу, к нашему «я» как таковому, и проецируются на внешние какие-то объекты, отсюда анимизм, когда с нами разговаривают деревья, животные, это нормальная ситуация для древнего человека, то есть древний человек, в какой-то мере он шизофреник: у шизофреника происходит примерно всё то же самое, потому что нет центрирующего начала, но так как он живёт уже в эпоху, когда это начало появилось, мы воспринимаем это как некое отклонение от нормы. Для древнего человека это норма. Так вот, пытаясь ответить на вопрос, каким образом мы вообще получили современное сознание, центрированную личность вокруг «я», вокруг так называемого эго-комплекса, Юнг даёт ответ на этот вопрос, что в первую очередь, по крайней мере, в европейской культуре это связано с христианством. Новое понимание личности, какого-то ядра личности, бессмертного ядра, и приводит к тому, что у нас появляется этот фокус, который организует все остальные разрозненные части нашей личности, и таким образом современность стала бы невозможна без веры. Хотя Юнг ни в коем разе не может быть воспринят как религиозный философ или человек глубоко верующий, несмотря на то что его отец был пастором, но при этом Юнг очень много говорит о религии, он говорит о том, что психологическая функция, связанная с верой, никуда не девается даже у современного человека, человека-науки, и этому нужно уделять внимание.
А. Козырев
— Вот интересная параллель: Кант и Юнг, казалось бы, совершенно разные философы, Юнг очень популярен сейчас и входит в круг чтения такого около интеллигентского. Канта же почему-то считают трудным философом, и ради удовольствия мало кто, наверное, читает Канта, но вы нам объяснили, что действительно есть прямая связь, и что нужно не только разговаривать с кустом черной смородины или с котиками, но и с людьми надо быть тоже добрыми и этичными, и соизмерять свои поступки с нравственным законом, который Кант формулировал в трех формулировках категорического императива в «Критике практического разума». К сожалению, наше время подходит к концу. Я благодарен Валентину Балановскому, нашему сегодняшнему гостю, который замечательно изложил и историю Канта, и его идеи в своей небольшой книжке «Кант. Просто». Я думаю, что особенно заинтересовавшиеся радиослушатели смогут её разыскать и получить такое прекрасное введение в философию Канта. Жалею, что наши студенты не имеют возможности через это введение пройти, потому что вот они сразу, как корабль об айсберг, сталкиваются носом, и иногда это травматично происходит, а надо вот давать понимать, откуда, зачем, почему, как это связано, и тогда, наверное, Кант не будет чёртом Ивана Карамазова или каким-то смутьяном, который решил нашу русскую софийность, соборность осквернить, а будет нашим союзником в том, чтобы нашу жизнь сделать более разумной и в то же время более духовной.
В. Балановский
— Абсолютно так, Алексей Павлович.
А. Козырев
— Ещё раз спасибо, до новых встреч в эфире Светлого радио, Радио ВЕРА в программе «Философские ночи».
В. Балановский
— Спасибо.
Все выпуски программы Философские ночи
21 декабря. О монастыре основанном преподобным Кириллом Челмогорским
Сегодня 21 декабря. День памяти преподобного Кирилла Челмогорского, жившего в четырнадцатом веке.
Об основанном им монастыре — протоиерей Максим Горожанкин.
Все выпуски программы Актуальная тема
21 декабря. О Боге как Творце и Вседержителе

В 1-й главе Послания апостола Павла к колоссянам есть слова о Боге: «Всё Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит».
О Боге как Творце и Вседержителе — протоиерей Максим Первозванский.
Все выпуски программы Актуальная тема
21 декабря. О пророчествах о Христе в Ветхом завете

В 24-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Вот то, о чём Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах».
О пророчествах о Христе в Ветхом завете — игумен Назарий (Рыпин).
Все выпуски программы Актуальная тема















