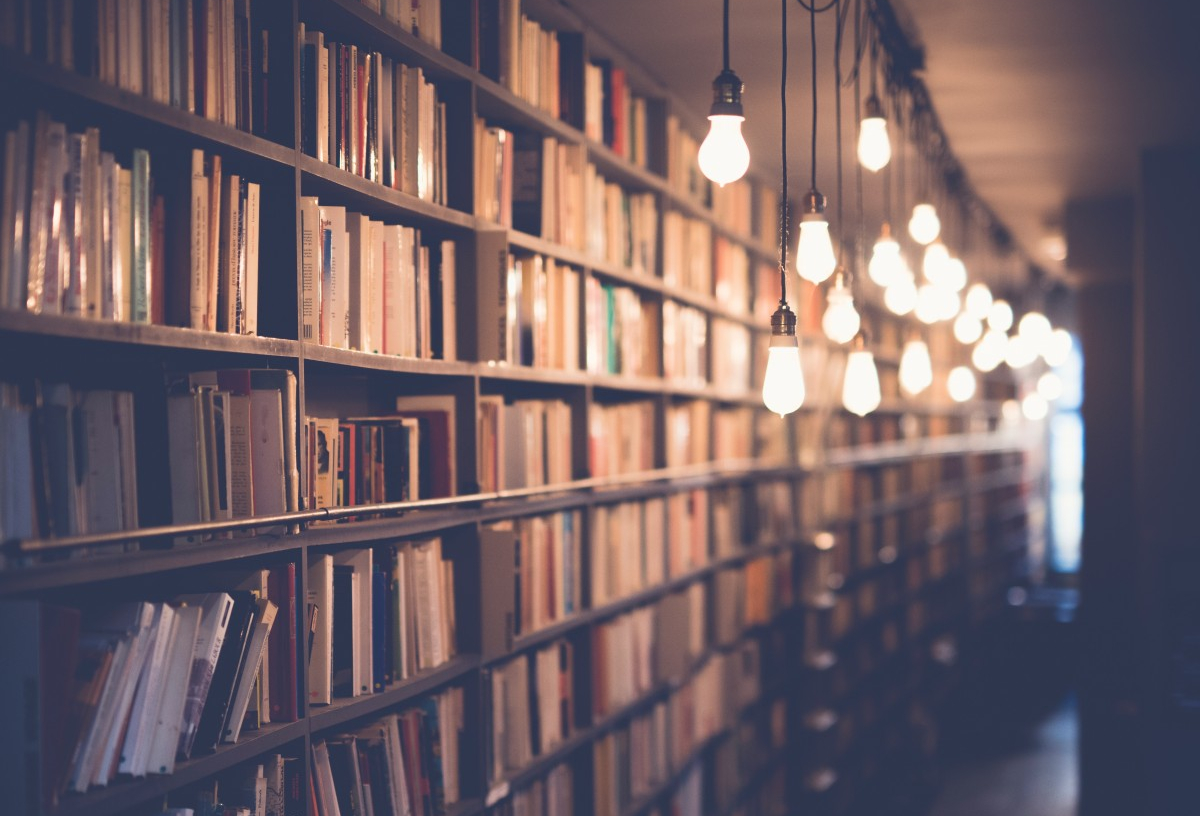
Гость программы — Евгений Кондратьев, заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат философских наук, доцент.
Ведущий: Алексей Козырев
А. Козырев
— Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о эстетике образа и символа в религиозном искусстве. У нас в гостях сегодня заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат философских наук, доцент Евгений Андреевич Кондратьев. Здравствуйте, Евгений Андреевич.
Е. Кондратьев
— Доброй ночи, Алексей Павлович.
А. Козырев
— Я рад, что мы сегодня можем в этот вечер поговорить снова о прекрасном. Это не первая передача, которую мы делаем об искусстве. Но, может быть, первая передача с философом, у которого есть вот такая своеобразная специализация —эстетика. И когда мы говорим: эстетика — мы, конечно, вспоминаем Канта, мы вспоминаем Вельфлина, мы вспоминаем Алексея Федоровича Лосева. Но причем здесь религия, причем здесь Церковь? Разве мы можем говорить о священных изображениях, о священном искусстве, которое мы встречаем в храмах, как о чем-то эстетическом?
А. Козырев
— Алексей Павлович, ну очень многое зависит от взгляда, от направленности взгляда, от подхода, методологического подхода. Эстетический методологический подход является философским подходом, и задачей исследования священных образов в эстетике является разработка следующих важных моментов. Во-первых, разработка методологии, собственно, самой, да, исследование этого широкого, обширного объекта исследования. Вот у нас постоянно происходит полемика, например, с искусствоведами: в чем объект, область исследования? И область исследования оказывается вроде бы одной и той же, но разница значительная заключается в методологическом различии: историки искусства в основном реконструируют факты, реконструируют историю развития иконописании, а для нас важнее в данном случае не реконструкция исторического контекста, а рассмотрение походов к тому, что такое, собственно, религиозный образ, каково его эстетическое содержание.
А. Козырев
— А вот смотреть на икону в музее и в храме — это одно и то же? Вот ты приходишь в храм, ты обращаешь внимание на что? На красоту или все-таки на какую-то намоленность образа, на его духовное выражение, содержание, на способность молитвенного настроения возле этого образа?
Е. Кондратьев
— Нет, безусловно, Алексей Павлович, это разные вещи. И эстетики разводят эстетический опыт, религиозный опыт, хотя в какой-то момент в каком-то моменте, в идеале, да, они могут и сходиться, и они поддерживают друг друга. И не один философ, тот же Кант говорил о прекрасном, о идеале прекрасного как нравственном, да, идеале нравственного, соединении этих двух идеалов. Ну а если брать ситуацию наблюдения, ситуацию созерцания, то, безусловно, вот опыт религиозный общения с иконой, молитвенного общения с образом в храме, такой сакральный опыт, религиозный опыт, он, конечно, отличается от эстетического опыта, который в значительной степени именно ассоциируется, в таком классическом его понимании, с опытом музейного созерцания.
А. Козырев
— То есть это разные созерцания: созерцание иконы в храме и созерцание в музее.
Е. Кондратьев
— Да, это разные ситуации, и, собственно, об этом много писал Павел Флоренский в своей известной работе «Храмовое действо как синтез искусств». Он, в принципе, не то чтобы он протестовал, вот как принято иногда говорить, против музеефикации религиозного искусства, в целях сохранения, может быть, это он и допускал, но важно было и сохранить и литургическое единство, куда, конечно, икона входила. И восприятие вот иконы в рамках литургического храмового пространства — это иное, чем изолированное восприятие в музее. В чем специфика музейного восприятия? Это восприятие объекта как изолированного объекта, искусственно изолированного, вырванного из контекста, из какого-то контекста, из каких-то повседневных связей, будем так говорить. И поэтому, собственно, появляются рамы, например, у картины. Рама — это естественный такой знак, который позволяет изолировать художественный объект из контекста повседневности.
А. Козырев
— Отделить, такая граница.
Е. Кондратьев
— Отделить, да, сделать, искусственно отделить, в чем-то изолировать и создать дистанцию эстетического созерцания. Я не хочу сказать, что в религиозном опыте общения, молитвенного общения с сакральным образом нет дистанции, она, конечно, есть. И более того, она должна переживаться, дистанция, как, допустим, общение с чем-то трансцендентным, удаленным от нас, да, возникающим от ощущения нашей несоизмеримости.
А. Козырев
— Ну и да, и нет. Потому что в храме я могу приложиться к иконе. То есть дистанция — я могу опуститься на колени, я могу предстоять, я могу поставить свечку, но я могу подойти и приложиться к лику Божией Матери или к руке — то чего я в музее сделать не могу. Потому что, если я попытаюсь это сделать в музее, сразу зазвенят какие-то колокольчики, или там инструменты безопасности, или по крайней мере подойдет какая-нибудь разъяренная (и справедливо разъяренная) служительница музея, которая скажет: немедленно отойдите от иконы, она здесь не для того, чтобы вы ее целовали. А в храме я даже обязан ее поцеловать, да. Ну вот то есть тут тоже очень интересно относительно дистанции.
Е. Кондратьев
— Да, безусловно. И вообще концепция энергийного общения с образом, да, ликом святого, изображенного на иконе, она предполагает такую молитвенную погруженность в образ и собеседование с образом. Собственно, икона или образ понимается не как изображение в данном случае, а как посредник этого молитвенного общения. Но, с другой стороны...
А. Козырев
— То есть не с доской общаюсь и не с краской, да, я общаюсь со святым, который представлен на этой иконе.
Е. Кондратьев
— Естественно, да. И если еще следовать апофатическому пониманию образа, то это как общение с символом, символическим изображением, за которым скрывается, в общем-то, то, что изобразить невозможно.
А. Козырев
— А образ это и есть икона, да, с греческого.
Е. Кондратьев
— Да, да, образ — икона. И вот в традиционном понимании, может быть, образ идет как раз от религиозного понимания мимесиса — подражания, либо изображения. Но потом, конечно, произошла вот секуляризация, в результате чего мы образ понимаем как, в общем-то, изображение, как миметическое —подобное.
А. Козырев
— На современном сленге «иконки» — это то, что в телефоне, там смайлики есть какие-то.
Е. Кондратьев
— Это знаки иконок, да, но в данном случае понимается в таком совершенно прагматическом ключе, как знак, и они бывают трех типов: иконические, конвенциональные и еще индексы — об этом тоже, кстати, фотография вот является примером индекса. Кстати, об этом немножко забывают. Но вот я бы хотел сказать, что тем не менее мы должны вырабатывать...
А. Козырев
— Что значит индекс? Значит, индекс Хирша есть...
Е. Кондратьев
— Отпечаток. Нет-нет, индекс — это след. Свидетельство, след — то есть некое непосредственное представление о реальности, отпечаток, буквально отпечаток реальности.
А. Козырев
— А, понятно.
Е. Кондратьев
— Ничем не опосредованный, никакими дополнительными условностями. Когда мы не договариваемся о границах. Вот это вот есть отпечаток.
А. Козырев
— Сфотографироваться на фоне «Моны Лизы», да? Я там был. Сделать селфи вместе с «Моной Лизой». Это индекс, это значит отпечаток: я отпечатался, я свой палец грязный приложил...
Е. Кондратьев
— Ну да, можно, кстати, сказать, что в данном случае это очень похоже на какой-то такой знак присутствия, простейший знак присутствия. Но, с другой стороны, когда человек хочет себя запечатлеть с каким-то знаковым архитектурным сооружением, как-то вот так отметиться — это, конечно, носит большую такую культурную, условную функцию, вот такого рода отпечатывание, запечатление. Тут несколько, всегда любой знак имеет несколько уровней, и в иконе, кстати, всегда эти уровни различались семиотикой иконы. Очень много писали —Успенский, допустим, Лотман об этом много писали и занимались семиотикой иконы, то есть различали уровни — уровни условные, уровни иконические. Индекс, правда, вот я не встречал пока, во всяком случае исследования, которые предлагали бы термин «индекс» применительно к иконе. Хотя вот если брать и рассматривать, скажем, задуматься вот о лике Христа, отпечатывавшемся на плате святой Вероники, допустим...
А. Козырев
— Или Туринской Плащаницы.
Е. Кондратьев
— Или Туринской Плащаницы, да. Мы здесь можем говорить в каком-то смысле об этом отпечатке, непосредственно. Почему иконоборцы, кстати, часто протестовали против других, вот Плащаница — пожалуйста, остальное — слишком как бы удалено, здесь есть человеческое...
А. Козырев
— Они, по-моему, Плащаницу сжечь хотели несколько раз, пытались.
Е. Кондратьев
— Ну есть разные версии. Вот иконоборчество, оно было в различных вариациях. Во всяком случае критика иконы состояла в том, не потому что это именно поклонение идолам, но именно здесь слишком много человеческого участия, опосредования, да, такой человеческой произвольности.
А. Козырев
— А вот то, что ты сказал о разном созерцании иконы в храме и в музее. Означает ли это то, что вот в храме мы правильно созерцаем икону, а в музее мы ее созерцаем неправильно, и поэтому надо все иконы из музея вынести, вернуть в храм, и вообще музей не для икон. Или все-таки есть аргументы, которые оправдывают то, что иконы присутствуют в музее, выставляются в музее, то что мы приходим в Третьяковскую галерею, она открывается для нас с иконного зала?
Е. Кондратьев
— Нет, аргументы, я думаю, как раз в пользу того, чтобы поддерживать музейную концепцию, вот соотношение к иконописи существуют, они вполне обоснованы. И я думаю, что они заключаются в том, что икона менялась со временем, да, энкаустика была техника ранних икон, когда использовалась еще античная техника, потом темпера появилась и различные другие исторические этапы развития иконописи мы знаем и в западной, и в восточной традиции, и в византийской, и католической традиции. О чем это говорит? О том, что был еще исторический процесс, был исторический контекст. Притом что для религиозного сознания очень важен такой вневременной аспект, но и временной, темпоральный аспект изучения иконописи очень важен. И вот музей может, собственно, представить икону в становлении некоторым образом, да, и может даже показать, как формировался канон, и может помочь продвинуться, кстати, по пути изучения иконописи. И бывают музеи не только светские, кстати, есть Музей иконы да, в Москве.
А. Козырев
— Музей русской иконы.
Е. Кондратьев
— Да, Музей русской иконы в Москве.
А. Козырев
— Который создал меценат Абрамов — Царство Небесное, погиб, к сожалению, в авиакатастрофе. Но это удивительный музей, четыре этажа, по-моему, где очень много узнаешь о русской иконе и видишь самые разные, очень интересные образцы.
Е. Кондратьев
— Я бы даже сказал, что там есть интересные образцы и такой иконописной, я бы сказал традиции, литургической сакральной традиции, но Коптской церкви, например, там Эфиопской церкви были представлены образцы. Очень было интересно познакомиться — это другая колористическая манера, другое понимание композиции, но тем не менее это христианские образы.
А. Козырев
— Ну и потом музей, наверное, все-таки это место, где лучше сохраняют — реставрируют, сохраняют. Научная реставрация, какая-то, может быть, даже археология, где снимаются новые слои и возвращаются к первозданной сути иконы — то есть то, что в условиях храма сделать, конечно, невозможно. И поэтому богатые храмы иногда заказывают такую научную реставрацию, вот возвращают потом эти иконы после реставрации.
Е. Кондратьев
— Ну да, вот здесь очень важно и я бы хотел остановиться на дефинициях, на определениях и на функциях, предназначениях разных, будем говорить так, современным языком, институций. Хотя Церковь я бы институцией, конечно, не назвал, но вот в целом это соответствует такому институциональному подходу, который говорит о том, что существуют различные назначения у разных институций в изучении одного даже и того же вопроса. То есть можем по-разному подходить и анализировать образ. И вообще-то я должен сказать, что музей основывался, появился музей как именно результат становления исторического сознания вот на рубеже XVIII и XIX веков. Вот современный музей — это именно музей исторический в широком смысле. И неслучайно, кстати, искусствоведение в Московском университете, например, находится в рамках исторического факультета, и искусствоведам очень свойственно историческое сознание. И я бы сказал, что и религиозному сознанию исторический аспект вовсе не чужд. И если мы посмотрим раннюю иконописную традицию, она была очень близка, использовала приемы античного искусства, например, да, то есть связана была с историей никоторым образом.
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, доцент Евгений Андреевич Кондратьев. Мы говорим сегодня об эстетике и символе в религиозном искусстве, об эстетике образа и символа в религиозном искусстве, потому что и образ, и символ, это категории эстетики, да. А можем ли мы сказать, что икона — это символическое искусство? Вот всегда как-то, когда понятие «символ» попадает в круг христианского богослужения, сразу вот люди настораживаются. Но все-таки, может быть, символ относится к иконе? Икона ведь, ну трудно назвать икону реалистическим произведением, правда, это не портрет Шилова.
Е. Кондратьев
— Нет, конечно, безусловно. И становление иконописного канона прошло несколько этапов, как известно, неслучайно. В общем-то, были иконоборческие споры неслучайно, был Иоанн Дамаскин с его «Тремя словами в защиту святых икон», в которых он развил догматическое основание иконописи, и псевдо-Дионисий Ареопагит с его апофатическим и катафатическим объяснением святых изображений «О небесной иерархии», «О Божественных именах» там излагает подробно то, собственно, как мы должны понимать икону. А из этих трудов следует именно символическое понимание иконописного образа, да. Образ иконописный — это символический образ, это образ того, что, в общем-то, не может быть изображено в чувственной форме. Вот такое определение символа мы знаем общепринятое, и апофатический принцип как раз ведет к появлению вот этого понятия. Так что трактовка иконы как символического изображения, на мой взгляд, вполне обоснована прежде всего догматикой. И неслучайно, кстати, я должен сказать, что многие направления уже в искусстве светском, они испытывали тяготение к построению какой-то, может быть, новой мифологии, нового символизма, допустим, русского символизма, да, можно взять русский символизм эпохи...
А. Козырев
— А что такое символ вообще? То есть когда мы говорим икона — символическое искусство...
Е. Кондратьев
— Ну символ — если уж совсем так просто определять, это бесконечное, данное в конечном. Можно вот такое определение дать, да. Бесконечное, данное в конечном.
А. Козырев
— Вот Флоренский говорил: бытие, которое больше самого себя.
Е. Кондратьев
— Бытие, которое больше самого себя. Неслучайно его работы по обратной перспективе, да. Ну вот если конкретно привести пример, что такое символ в иконописи — это, допустим, использование цвета. Цвет, во-первых, это использование локальных цветов, не смешанных. Дело в том, что любое смешивание цвета дает такую ауру или атмосферу чувственного чего-то, да, — вот мы воспринимаем теплоту цвета, холодность цвета, есть теплые оттенки, холодные оттенки. А если мы берем локальный цвет — это что-то другое. Так в естественной обстановке мы никогда не видим чистые цвета. Вот в нашей повседневной, чувственной жизни, да, цвета все смешаны, а тут вдруг выделяются отдельные цвета — это уже первый шаг к выделению, так сказать, символа, по пути символизации. Ну а дальше мы знаем в иконописи такие довольно уже устойчивые корреспонденции — за каждым цветом какое-то устойчивое значение, да: белый — непорочность, чистота; разные оттенки вот красного, да, либо выражающего могущество Бога, либо выражающего чувственную сторону бытия; синее — небесный цвет; зеленый — цвет надежды. Разные оттенки золотого, желтого — как ауратического цвета, как цвета славы Божией, да. Это символическое, конечно, понимание цвета.
А. Козырев
— Я помню замечательную работу Евгения Трубецкого...
Е. Кондратьев
— «Умозрение в красках».
А. Козырев
— «Умозрение в красках» и «Два мира в древнерусской иконописи» — еще более интересную работу, где он говорит о символике цвета и не только цвета, но и, например, о таком феномене как ассист в иконе, да, то есть вот эти прорисовки, эти блики на одежде святых, которые делают ее лучезарной, светящейся. То есть это все удивительно и, хотя, как ты правильно говоришь, цвет локальный, то есть он в каком-то смысле прямолинеен, то есть он высказывается без обиняков, без полутонов, без оттенков. Но вот эта игра ассиста, игра лучей, которые как бы падают на мантию Богородицы или на одеяние Христа, все это создает какую-то удивительную световую игру, да, световую гамму.
Цитата. Евгений Трубецкой. «Два мира в древнерусской иконописи». «Как бы ни были многообразны эти краски, кладущие грань между двумя мирами, это всегда — небесные краски в двояком, то есть в простом и вместе символическом, значении этого слова. То — краски здешнего, видимого неба, получившие условное, символическое значение знамений неба потустороннего».
Е. Кондратьев
— Да, может быть это исихастские даже такие вот влияния в русской иконописи Феофана Грека, допустим, особенно Феофана Грека.
А. Козырев
— Ну безусловно, ведь взлет русской иконописи — это исихазм, это XIV век. Рублев, и Феофан Грек, и Дионисий — это все современники Григория Паламы. И исихазм поэтому, хотя паламизм учит нас о нетварном свете, о Фаворском — это свет, которого мы не можем увидеть человеческими очами, но все равно это определенным образом переносится на представление о свете, о духовном свете, которое отражается в иконописи.
Е. Кондратьев
— Да, и такая создается атмосфера просветленности. Алексей Павлович, и вот что бы я еще хотел здесь добавить. Когда мы исследуем религиозное искусство, очень важно договориться о дефинициях, об определениях. Так как наш подход научный, философско-аналитический, да, мы начинаем с того, что начинаем работать с терминами. И вот часто проблема очень возникает в трактовке искусства, восприятии религиозного искусства в том, что мы не вполне договариваемся, с каким, я бы сказал, с какой формой религиозного искусства мы имеем дело. Нужно разводить, на наш взгляд (на наш взгляд — эстетиков), нужно разводить, собственно, сакральное, церковное искусство и искусство религиозное. Если мы, ну вот, допустим, «Явление Христа народу» Иванова или Поленов «Христос в пустыне» — это религиозное искусство.
А. Козырев
— Или «Христос и грешница» Поленова.
Е. Кондратьев
— Да, совершенно верно. Его дипломная, собственно, работа.
А. Козырев
— Нет, нет, «Христос и грешница» — это уже зрелый Поленов, это уже 80-е годы, середина 80-х. Купленный Александром III для Русского музея.
Е. Кондратьев
— Да, этот эскиз, кстати, в доме-музее Поленова находится. И вот что касается понятия религиозного искусства, что такое религиозное искусство — искусство, в котором используется, задействуется религиозная тема, задействуются те или иные религиозные темы. Оно не претендует на догматичность, на каноничность, да, и оно, собственно, не может использоваться в церковной практике.
А. Козырев
— Ну Николай Николаевич Ге, что естественно, религиозное искусство.
Е. Кондратьев
— Это религиозное искусство. Можно его так назвать или искусство на религиозную тему.
А. Козырев
— Ну здесь вот я бы предпочел второе: искусство на религиозную тему. Потому что религиозное искусство уже предполагает какую-то степень религиозности самого мастера, самого художника. Хотя это очень интересный вопрос, да, и я думаю, здесь не может быть однозначного ответа. Потому что ну вот Сикстинская капелла — это, безусловно, сакральное искусство. Но наш турист, наш путник, там православный паломник, который попадает в Сикстинскую капеллу, не чувствует себя в храме, когда он видит вот это безумное буйство плоти, красок там — мы не это понимаем под религиозным искусством. Нам нужен аскетизм, аскетизм иконы. Наверное, здесь каждый дает себе определение по-своему. Ну вот у эстетиков религиозное искусство и искусство на религиозные темы — это одно и то же, да?
Е. Кондратьев
— Ну здесь нужно договариваться. Здесь нужно все зависит от контекста, от того, насколько религиозная тема актуальна в тот или иной, допустим, даже исторический период.
А. Козырев
— Ну это, наверное, и в поэзии также. Религиозная поэзия, что такое религиозная поэзия? Это переложение псалмов или: «Выхожу один я на дорогу; сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу...» — вот это, на мой взгляд.
Е. Кондратьев
— Или Арсения Тарковского.
А. Козырев
— Да, или Арсений Тарковский — вот это религиозная поэзия. А вовсе не удачное или неудачное переложение какого-то псалма, который гораздо лучше читать в Псалтири и по-церковнославянски. А не в переложении там Тредиаковского или какого-нибудь, я не знаю там, поэта XVIII века.
Е. Кондратьев
— Я согласен. И вот в современной эстетике очень хороший термин для разработки методологии работы вот с этим вопросом существует — открытое понятие. Открытое понятие — в общем-то, это термин аналитической философии, но в целом он довольно продуктивный. То есть мы не ограничиваем, вот мы действуем по принципу сходства: на что похоже, да, на что похоже это явление, — проводим аналогии, видим какие-то черты сходства. Вот, допустим, наличие религиозной темы. Причем проявленной или центральной, или интуитивно ощущаемой, даже если там не называются какие-то религиозные предметы, но есть религиозная интуиция — это тоже может быть, в принципе, религиозным искусством.
А. Козырев
— А насколько здесь важен канон и свобода в творчестве? То есть религиозное искусство — это искусство, всегда построенное по канону, отвечающее какому-то заданному канону иконописания. Вот есть типы Богородичных икон, и вот выбери один из, помолись, или все-таки это возможность какого-то нового творчества...
Е. Кондратьев
— Ну здесь тоже все очень непросто. Вот для меня аргументом того, что и здесь мы должны тоже в некотором смысле подходить неоднозначно ко всему этому. Дело в том, что существовала эволюция религиозного искусства, мы по факту это видим, и это возникло не просто так, были потребности реализации вот религиозного сознания в разных условиях, в разных контекстах. И все зависит, конечно, в значительной степени от контекста. Конечно, канон — вот что касается сакрального или церковного искусства, как я его назвал, — для этого искусства очень важен канон, очень важны правила и следование определенным рамкам и так далее. Вот что касается религиозного искусства — здесь больше, мне кажется, свободы, и во многом канон, мне кажется, вот здесь есть такой диалектический взаимообмен. Канон может, каноническое искусство может из религиозного окружающего его контекста черпать какие-то идеи. Ну вот как это происходило, допустим, в эпоху модерна в России, допустим, на рубеже веков, когда в стиле модерна архитектурного черпались какие-то очень интересные идеи — вот Марфо-Мариинская обитель Щусева, допустим, или ряд других.
А. Козырев
— Расписанная Нестеровым.
Е. Кондратьев
— Да, Нестеров, да, вот этот стиль ар-деко... Не ар-деко, простите, стиль модерн, стиль ар-нуво, я хотел сказать, ар-нуво — этот стиль, он, в принципе, очень был декоративный и сам по себе символичный и позволял вот эту символику как-то обогатить и сделать выразительной. Ну есть разные трактовки. Вот роспись Васнецова, храмовые росписи Васнецова, они, может быть, несколько специфические, отличаются от канонических, конечно, явно, да, но, в принципе, какие-то здесь интересные находки могли быть сделаны. И вот когда мы говорим о каноне, о самом каноне — кстати, тут тоже важно говорить, что как бы получается, что канон не дает свободы для творчества и не дает свободы для восприятия, но на самом деле, если вдуматься, тут не совсем так. Во-первых, повторение чего-то, да, само по себе, оно может быть очень продуктивным. Мы слушаем классическую музыку, мы слушаем Бетховена, я думаю, все прекрасно знают и сонаты Бетховена, и мы слушаем Шопена, мы слушаем Баха в разных исполнениях, но это одно и то же произведение.
А. Козырев
— Ну да, исполнения, они не от того зависят, переписал человек Баха и что он дописал к Баху, а насколько раскрыл авторскую мысль в исполнении.
Е. Кондратьев
— Да, ну можно сказать, что авторскую мысль, а даже я бы сказал, что важно повторить. Потому что мы не так часто в повседневной жизни имеем дело с образцами, с высокими образцами. И вот когда мы прикасаемся к высоким образцам, повседневность несколько затихает и как бы это становится фоном, да, на котором выделяется главное, существенное. Почему, собственно, люди приходят в храм, для того чтобы выделить какие-то важные минуты жизни и сосредоточиться, и несколько оттенить вот эту повседневную суету. Точно также мы воспринимаем классическую музыку, классическое искусство, чтобы точку опоры некоторую создать в своей жизни.
Цитата. Священник Павел Флоренский. «Иконостас». «В канонических формах дышится легко: они отучают от случайного, мешающего в деле, движения. Чем устойчивее и тверже канон, тем глубже и чище он выражает общечеловеческую духовную потребность».
А. Козырев
— Мне кажется, это очень интересная проблема, мы ее далеко не исчерпали, проблему канона и новаторства в религиозном искусстве. Но у нас еще будет вторая часть программы. И я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, доцент Евгений Андреевич Кондратьев. И после небольшой паузы мы вернемся в студию радио «Вера» и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи», с вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость — заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, кандидат философских наук, доцент Евгений Андреевич Кондратьев. Мы говорим сегодня о эстетике образа и символа в религиозном искусстве. И вот проблема соотношения канона и новаторства — это очень интересная тема. Я бы здесь хотел спросить, насколько вот фактор истории в этом играет какую-то роль? Потому что мне приходилось видеть иконы, где в виде чертей, например, изображены большевики в буденовках или на каких-то изображениях появляются победоносные самолеты с красными звездами, да, — такое во фресках и живописи некоторых храмов можно встретить. И я имею в виду не только новый храм, главный храм Вооруженных сил, но и в других местах я это видел. А бывает, что вообще мы на иконе увидим аж самого Иосифа Сталина, хотя и без нимба, надо сказать. Пока. Насколько канонично изображение исторических персонажей, исторических деятелей в иконе и насколько канонична их вот такая, ну скажем, аксиологическая оценка — то есть ценностное суждение о них в иконе?
Е. Кондратьев
— Ну это, мне кажется, прерогатива церковной иерархии — определять все-таки, что можно, что нельзя. И для этого собирались Вселенские соборы, чтобы канон иконописный разработать. Но если конкретную брать ситуацию, вот я могу вспомнить очень любопытную фреску, мозаику в соборе Торчелло в Италии — это раннее такое, это XI век.
А. Козырев
— Санта-Мария-Ассунта, если не ошибаюсь.
Е. Кондратьев
— Ну да, возможно. И там, в общем-то, мы видим иерарха в церкви, видим варваров, которые нападали тогда на Византию, вполне узнаваемыми.
А. Козырев
— Врубель увидел эту мозаику и, потрясенный, остался там на три месяца, в этом храме. Я ее тоже видел. Правда, не мог остаться, но на поезд все-таки опоздал в Венеции, чтобы посмотреть эту потрясающую грандиозную мозаику, которая, по-моему, недавно была закрыта на реставрацию. И сейчас, наверное, уже эта реставрация должна была завершиться.
Е. Кондратьев
— Ну там да, там все время реставрация проходит, перманентная.
А. Козырев
— И, кстати, сказал мне поехать ее посмотреть отец Георгий Ореханов — Царствие ему Небесное, замечательный священник и профессор Свято-Тихоновского института, недавно ушедший из жизни. Вот мы были вместе на одном мероприятии в Италии, и он говорит: а вот надо обязательно поехать в Торчелло и посмотреть этот грандиозный памятник религиозного искусства. Я бы даже сказал, что это ведь совсем еще памятник почти что неразделенной Церкви.
Е. Кондратьев
— Да, это XI век, самое начало, по-моему, даже первая половина XI века. Меня тоже поразила эта мозаика. И вот персонажи, которые попадают в ад, они там довольно персонифицированы хорошо и индивидуализированы.
А. Козырев
— То есть это всегда было.
Е. Кондратьев
— Ну я думаю, что какие-то исторические аспекты были. Исторические аспекты были, и конкретные персонажи были. С другой стороны, канон сам по себе, он ведь не является застывшей формой, сам по себе, он является средством раскрытия довольно широких религиозных контекстов. Вот каноны эволюционируют. Не так чтобы они эволюционировали очень быстро или резко, они формируются. Но, с другой стороны, они что-то и вбирают новое, они должны вот на исторический контекст как-то откликаться в процессе развития исторического.
А. Козырев
— Ну поскольку иконопись всегда была, как правило, неавторизованный формой искусства — то есть художник не ставил свое клеймо или свою подпись, но бывало, что пририсовывал себя где-нибудь там в притворе, в уголочке, да. Вот рядом с какими-то добрыми ктиторами святаго храма сего, да, рисовал себя и художник, то есть чтобы как-то оставить, обессмертить свое имя, скромного труженика, который все-таки, может быть, не один год положил на роспись этого храма.
Е. Кондратьев
— Да, вот в Успенском соборе во Владимире есть предположение, что это изображение самого Андрея Рублева. Но пока, так сказать, это не доказано, но есть предположение. И, конечно, вот отражение каких-то споров догматических тоже может в иконе получать отражение. В конце концов мы говорим не просто про икону, да, а вообще икона входит в литургическое целое. Изменение особенно вот это заметно, конечно, в изменении архитектурного декора, в архитектуре, и изменения вот храмового зодчества очень интересно прослеживать.
А. Козырев
— Ну если мы посмотрим на равеннские храмы, то там нет еще иконостаса, там небольшая алтарная преграда. И иконостас это, вообще-то говоря, достаточно позднее образование. Хотя вот как, если верить отца Павлу Флоренскому, это не преграда, которая закрывает алтарь, а это скорее ворота в небо, ворота в иерархию святых, во главе со Спасителем, Богородицей — то есть иконостас представляет нам умное небо, которое мы созерцаем во время литургии.
Е. Кондратьев
— Да, кстати, вот в своей работе «Иконостас» он как раз подробно описывает большие такие, многоярусные иконостасы Московской Руси XVI–XVII веков. И как раз говорит о них как о очень символических вот таких преградах, делающих возможным внутреннее зрение, а не внешнее зрение.
А. Козырев
— Восьмиярусный иконостас.
Е. Кондратьев
— Ну а ранние храмы, да, вот, собственно, иконостас, он тоже вот именно тот канон, который формируется постепенно, и в разных странах, кстати, по-разному. Если мы в Венеции попадем в церковь деи Гречи — греческую церковь, хоть она и относится к православию, но там нет практически иконостаса. А Сант-Аполлинаре-Нуово, Сант-Аполлинаре-ин-Классе — это церкви базиликальные по своей форме, и это V–VI век, и они наследовали римскую еще вот эту традицию. Постепенно крестово-купольная форма — вот в Сан-Витале, допустим, — появляется, это уже такое крестово-купольное скорее, такое центральное.
А. Козырев
— Это равеннский храм.
Е. Кондратьев
— Это равеннский храм, совершенно верно. Равенна, да, все в Равенне. Очень интересно прослеживать, кстати, различие вот этих базиликальных и крестово-купольных форм.
А. Козырев
— Я помню, как мы отслужили православный водосвятный молебен в Сан-Витале — это было в 2000 году. Вот Сергей Сергеевич Аверинцев с нами был. Ну вот купили кадку в супермаркете, сорвали лавровую ветвь, и священник православный, который с нами был, с разрешения епископа, конечно, на центральном алтаре, на главном алтаре Сан-Витале впервые, может быть, за многие-многие столетия отслужил православный водосвятный молебен. Вот поэтому для меня как бы это воспоминание, этот храм удивительный, с удивительным Пастырем Добрым — изображением Христа, вот он запал в сердце. А вот мы говорим об образе и символе. Образ — это только икона или фреска, это то, что нарисовано художником? Или, например, статуя тоже может быть образом? Вот насколько это каноническое явление религиозного искусства для православной культуры именно?
Е. Кондратьев
— Ну что касается религиозного искусства, я бы даже сказал о том, что существует особое сакральное пространство, которое выполняет символическую функцию, и вот в этом пространстве уже какие-то отдельные виды искусства так или иначе себя проявляют. Ну для православной традиции скульптура менее характерна. Вот зато о ней очень много, кстати, и вдохновенно, я был сказал, писал Макс Дворжак — западный искусствовед, который описывал то, как нужно воспринимать и что нужно видеть в скульптурном декоре порталов западных храмов католических, самых крупных — Реймс там, Кельн. Он описывал, несмотря на то что они весьма натуралистичные — изображения святых, апостолов, и ветхозаветных персонажей там очень реалистично изображены, но сам ритм, сама расстановка этих фигур важна. И мы, вот что касается проблемы восприятия как раз эстетического, с одной стороны, значит, что является предметом эстетического, собственно, анализа — это, во-первых, определения, дефиниции — давайте договоримся о терминах и о понятиях, да, что мы понимаем под тем или иным явлением. Вот работа и систематизация понятийной сферы — это одна из наших задач. А вторая задача — это анализ именно эстетического восприятия. Но эстетическое восприятие, конечно, предполагает и те правила, которые дают отцы Церкви, скажем, Иоанн Дамаскин, допустим, или там псевдо-Дионисий Ареопагит, они нам помогают правильно воспринимать канонический образ. И искусствоведы тоже помогают, хотя они не являются эстетиками, они нам помогают правильно сфокусировать свое внимание на образе, увидеть в нем вот именно характерные, основные и выразительные черты. Дальше мы уже будем говорить о религиозном опыте, но сначала нужно суметь увидеть вообще-то этот образ, для начала нужно увидеть в нем главное. Потому что кто-то увидит вот в скульптурном декоре порталов, увидит там только натурализм, если он не сумеет увидеть в этом ритмичность, увидеть в этом симметрию, порядок некий такой, ритмичность в положении этих фигур.
А. Козырев
— В православии ведь тоже есть скульптура — Никола Можайский, Христос в темнице. И чем севернее мы продвигаемся....
Е. Кондратьев
— Для северных, да.
А. Козырев
— Тем чаще встречаем деревянную очень часто скульптуру, резную скульптуру. И ну никак нельзя сказать, что это неканонично для православного искусства. Это очень канонично, и это очень ну душевно, в общем-то — когда в храме вдруг среди икон встречаешь вот этот образ Христа, сидящего в темнице, какая-то даже пронзительная нотка, как будто ты живого Христа встретил. Но чего, наверное, нет в православных храмах или есть, я не знаю, — это химеры, горгульи, которые мы видим в готике. Вот зачем это? То есть, казалось бы, ну понятно, ну изображайте святых, а демон-то почему в христианской церкви присутствует?
Е. Кондратьев
— Ну горгульи, которые служат в качестве водостоков, да? Ну об этом различные есть версии происхождения. В принципе, можно это символически трактовать, как именно, понимать как силу церковного вероучения, которое овладело и сумело остановить вот движение этих...
А. Козырев
— Мир надводных и подводных.
Е. Кондратьев
— Да.
А. Козырев
— И здесь тоже мы отметились.
Е. Кондратьев
— Нет, ну речь идет о том, что вера побеждает и останавливает вот действие этих...
А. Козырев
— Покоряет их, то есть приобщает к служению. Охраняет храм.
Е. Кондратьев
— Заставляет их какую-то пользу приносить даже, в качестве водостоков. Ну, кстати, я должен сказать, что во эти химеры парижского храма основного, Нотр-Дам-де-Пари, они же были в эпоху романтизма Виолле-ле-Дюком там установлены, это уже такое романтическое добавление. Ну оно неслучайно возникло, известна борьба за Нотр-Дам начала XIX века, когда его вообще, как известно, собирались даже сносить по причине его ветхости, в результате всех революционных событий предшествующих в конце XVIII века. Ну Виктор Гюго и другие патриоты парижские, они воспротивились этому, и храм был сохранен. И вот это романтическое чувство интереса к прошлому, к религиозной вере, оно было очень характерно и породило вот целое направление такой неоготики или, как его называют сейчас иногда, псевдоготика. Ну, в общем, это в принципе, в значительной степени очень сходные. Там нет каких-то конструктивных элементов, но это было результат именно интереса восстановления, интереса такого романтического к прошлому.
А. Козырев
— То есть первоначально этих химер не было.
Е. Кондратьев
— Там не было. Некоторых не было. Какие-то были, каких-то не было. Вот те фотографии известные, когда Париж со смотровой площадки Нотр-Дам — это добавление 30–40-х годов XIX века. Но и есть горгульи, которые там изначально были. Если обойти Нотр-Дам с разных сторон, то мы увидим там и наличие этих водостоков.
А. Козырев
— Но ведь какие-то вот тоже фигурки непонятных существ можно и во владимирской каменной резьбе различить, знаменитых...
Е. Кондратьев
— Дмитровский собор.
А. Козырев
— Да, Дмитровский собор, домонгольская архитектура. Вот то есть и это тоже вот эти растительные орнаменты, животные орнаменты — это тоже, наверное, именно как какое-то приобщение космоса к храму, да? То есть храм — это не только место встречи человека с Богом, но это символ, это образ космоса.
Е. Кондратьев
— Я небольшой специалист в истории уже такого развитого символизма религиозного. Насколько я помню, что касается Дмитровского собора, то многие изразцы, которые там использованы, резные вот декоративные элементы, они были добавлены несколько позже. Но дело даже не в этом, в том, что если присмотреться внимательно, там нет таких языческих вообще-то элементов, о которых можно было бы думать. Это скорее растительный орнамент, что, в общем-то, характерно — лоза виноградная или что-то вот на тему, пальмовые ветви — вот какое-то развитие такого христианского символизма, ну, может быть, в особенностях вот растительности северной, больше северной. То есть если присмотреться, там, в принципе, это христианский символизм, и это романская традиция, характерная для романской архитектуры. Многое связывает вот Владимир, владимирское архитектурное зодчество с итальянским искусством своего времени — храм в Модене, допустим, вот очень так по внешнему декоративному обрамлению напоминает владимирский. И известно, что последние были исследования, что дворец вот Андрея Боголюбского, те остатки, которые остались, они были построены приглашенными итальянскими мастерами. Вот такая тоже взаимосвязь очень интересная между романской и старорусской архитектурой прослеживается.
А. Козырев
— В эфире радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость, заведующий кафедрой эстетики философского факультета МГУ, доцент Евгений Кондратьев. Мы говорим сегодня о эстетике символа и образа в религиозном искусстве. А вот религиозное искусство за порогом храма — то есть мы уже вспомнили Поленова, вспомнили Иванова, вспомнили Ге. А сегодня есть искусство, которое осмысляет веру, но в то же время не является храмовым искусством? И в то же время не является тем, что современная эстетика называется перформанс, и верующие люди иногда это воспринимают как кощунство, как надругательство над верой. Где вот эта граница религиозного искусства, где человек по-своему выражает свою веру, свое отношение к Богу, и искусства антирелигиозного, которое как-то нарушает и оскорбляет, если можно так сказать, чувства верующих?
Е. Кондратьев
— Да. Ну вот здесь вот требуется ответ эстетика, и я могу предложить. Ну во-первых, что касается тех примеров современного искусства, которое выходит за пределы храма, но исследует вот вопрос канона, исследует вопрос границ. Есть интересные примеры, на мой взгляд. Вот в 2019 году я посетил с интересом выставку, она проходила в Московском Союзе художников, в Старосвятском переулке, называлась «Философия канона». Там была интересная выставка: там были иконописцы известные, признанные, и мастера религиозной живописи, и просто живопись на религиозную тему, как мы говорили. Были какие-то экспериментальные работы, связанные, например, с анализом пигментов, которые используются в монументальной росписи, просто они были демонстрированы. Это тоже, кстати, очень интересно, такие изолированные, как я уже сказал, пигменты, из которых строится потом вот этот единый состав. Это любопытно, как сделано, собственно, технология вопроса. Мы получаем уже готовый результат, да, а вот когда мы говорили про канон — чуть-чуть вернусь, Алексей Павлович, к этому моменту, когда мы говорили про канон, — здесь важнее не восприятие даже, а исполнение. И молящегося нельзя назвать зрителем — он погружается в икону, в каком-то смысле тоже исполняет общение, ну а иконописец уж тем более.
А. Козырев
— Идет по пути иконописца.
Е. Кондратьев
— Да. Ну пытается приблизиться, может быть, в каком-то смысле, если мы говорим о молящемся. А иконописец полностью проходит вот сам обряд исполнения. Это очень важно.
А. Козырев
— Ну потому у нас есть и святые иконописцы. Святой Андрей Рублев.
Е. Кондратьев
— Да, да.
А. Козырев
— И он единственный святой иконописец. Святой Алипий.
Е. Кондратьев
— Да, и это вот важный момент самого исполнения, сам факт исполнения, повторения, как я уже сказал, это вполне этого достаточно. И какой-то оригинальности, и новизны дополнительной не нужно. Нужно сохранить то, что есть. Это вот один момент. Поэтому довольно широкий был спектр такой исследовательский, то есть нужно знать. С другой стороны, я должен сказать, вообще, что касается феноменологии иконы, если можно так сказать, то есть исследования всех сторон иконы. В современной философии, в эстетике серьезно занимаются исследованием этого вопроса. Ну и если мы берем вот понимание иконы такое традиционное, каноническое, то все-таки это воплощение или изображение личности святого или Христа, именно личности — целостности. То есть здесь понятие целостности очень важно. И вот когда рассматриваются какие-то отдельные аспекты, и идет некоторая ну такая фрагментация этого образа, в принципе, по-своему, это может быть эвристично и полезно в какой-то степени. Ну вот, например, современная религиозная феноменология — там Марион, такой вот известный исследователь, он изучает, например, дистанцию. Есть у него очень интересная работа «Идол и дистанция», где он очень с таких религиозных позиций рассматривает как раз проблему восприятия иконы и значимость дистанции, которая там создается. Это вот первый момент. Потом у него же есть работа «Перекрестья видимого», в которой он тоже, хотя это католический мыслитель, он много времени там посвящает исследованию иконы, как раз православной иконы, соотношению видимого и невидимого в иконе. Да, это берет, это во многом связано с традиционной феноменологией, с проблематикой чувственного опыта — то, как устроено наше восприятие, как мы формируем некоторое такое предпространство, как мы делаем возможным вообще восприятие чего-то. Для феноменологии традиционной, кстати, очень интересна, характерна проблема целостности. То есть для того, чтобы что-то восприять, мы должны уже себя воспринимающим осознать, мы должны видеть какой-то некоторый целостный контекст. И для феноменологии очень важно понятие опыт. Вот если этот опыт есть, тем более целостный опыт — да, здесь, в общем-то, мне кажется, исследование иконы с этой точки зрения может быть продуктивно. Если же мы изолируем какой-то отдельный аспект иконы, изучаем только вот форматизированный какой-то аспект и не учитываем, что это образ целостный все-таки, да, по своему происхождению, тогда возникает некоторое непонимание, собственно, с чем мы имеем дело — мы исследуем уже свое восприятие чего-либо или исследуем сам образ.
Цитата. Жан Люк Марион. «Перекрестья видимого». «Чтобы взгляд снова не выводил на сцену чистое зрелище (идола), нужно, чтобы взгляд, прибывший к иконе, принял новый способ исполнения своих обязанностей — почитание».
Е. Кондратьев
— Потом вот Маритен, допустим, он исследует, когда пишет о музее, ну собственно, инициировал во многом музей, точнее коллекцию современного религиозного искусства в Ватикане, где представлены многие мастера — и Шагал, и Руо, и Пикасссо, и другие мастера живописи — это, в общем-то, следствие того, что на Втором ватиканском соборе в 62–65-м году была несколько изменена доктрина Католической церкви, это которая она более свободно что ли стала относиться к современному искусству и стала...
А. Козырев
— А они сначала боролись с модернизмом, как могли.
Е. Кондратьев
— Да.
А. Козырев
— А они потом сдались.
Е. Кондратьев
— Ну да, они сочли возможным какие-то работы принять.
А. Козырев
— Я помню, в Реймсе, в алтаре, я видел витражи Марка Шагала, там где были утрачены в результате бомбежек...
Е. Кондратьев
— Еще Первой мировой войны.
А. Козырев
— Первой мировой войны, да, некоторые витражи были утрачены, я видел. Причем это самые центральные витражи собора. Ну я могу сказать, что с точки зрения цвета это нормально, то есть если смотреть издалека, то даже не особенно обращаешь внимание. Но если приблизиться, ты видишь, что, конечно, это совершенно другая эстетика, совершенно другая живопись — и ну это спорно. Я не могу сказать, что это отвратительно, это интересно. Но это спорно.
Е. Кондратьев
— Ну вот Маритен, например, говорит о важности, собственно, не изображения, а экспрессии, интуиции, интуиции первозданного.
А. Козырев
— Вот, вот, вот.
Е. Кондратьев
— Неважно, как она выражена, а важно, чтобы эта интуиция была. Ну здесь можно тоже спорить и обсуждать этот вопрос, насколько эта интуиция целостна, да, насколько она личность вот интегрирует в религиозном смысле. Ну в целом вот, например, я недавно был на ретроспективе в музее при Новом Иерусалиме, где-то года два назад была ретроспектива Шагала — на меня большое впечатление произвели иллюстрации. Вот я впервые увидел ретроспективу Шагала к Ветхому Завету. Работы, я должен сказать, очень искренние такие, наивные в чем-то, да, и в них ощущение первозданности есть, какой-то такой динамики внутренней.
А. Козырев
— Мы должны уже клониться к закату — уж полночь близится, как говорил Герман. И я благодарен Евгению Андреевичу, который пришел к нам сегодня в студию, и мы поговорили о религиозном искусстве, о символе и образе. И это лишний раз напоминает нам о том, что иногда ныряльщик пытается нырять в глубину там, где ее нет. И тогда он просто больно разбивает себе лоб, а может быть, и погибает. Но вот религиозное искусство, искусство иконописи, искусство традиции, безусловно, является той глубиной, в которую можно смело нырнуть, для того чтобы обрести в ней животворящие токи, силы, для новых осмыслений, для новых вдохновений, для того чтобы понять, что, вообще-то говоря, красота это тоже самое, что истина и добро. Спасибо большое. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Е. Кондратьев
— Всего доброго.
Псалом 107. Богослужебные чтения

Вам когда-нибудь доводилось сесть за расстроенный инструмент — например, фортепиано — и попробовать что-то на нём сыграть? Думаю, можно не продолжать: результат всегда предсказуем. Как связаны расстроенность музыкального инструмента и 107-й псалом Давида, который сегодня читается в храмах за богослужением, мы поговорим чуть позже, после того как послушаем сам псалом.
Псалом 107.
2 Готово сердце моё, Боже, готово сердце моё; буду петь и воспевать во славе моей.
3 Воспрянь, псалтирь и гусли! Я встану рано.
4 Буду славить Тебя, Господи, между народами; буду воспевать Тебя среди племён,
5 Ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя.
6 Будь превознесён выше небес, Боже; над всею землёю да будет слава Твоя,
7 Дабы избавились возлюбленные Твои: спаси десницею Твоею и услышь меня.
8 Бог сказал во святилище Своём: «восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхоф размерю;
9 Мой Галаад, Мой Манассия, Ефрем — крепость главы Моей, Иуда — скипетр Мой,
10 Моав — умывальная чаша Моя, на Едома простру сапог Мой, над землёю Филистимскою восклицать буду».
11 Кто введёт меня в укреплённый город? Кто доведёт меня до Едома?
12 Не Ты ли, Боже, Который отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими?
13 Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна.
14 С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших.
Самые первые слова прозвучавшего псалма — очень показательны при всей своей загадочности. Что значит — «готово сердце моё, Боже, готово сердце моё»? Явно, Давид говорит не о том, что у него — просто хорошее настроение! А о чём же тогда?
Неспроста следующая фраза псалма посвящена древним струнным музыкальным инструментам — псалтири и гуслям. Понятно, что, прежде чем на них играть, они требуют настройки. Каждая струна должна быть правильно натянута — соответственно тому звуку, который должна издавать.
А теперь представьте себе человека как арфу — у которой одна струна — разум, другая — чувство, третья — память, четвёртая — совесть, пятая — желание — и так все стороны не только души, но и жизни человеческого тела. Чаще всего нам такое состояние неведомо: мы давно привыкли к тому, что «струны» наши играют вразнобой, зачастую конфликтуя, а то и откровенно враждуя друг с другом.
И о чём же нам говорит Давид в своём псалме? О том, что «выровнять» эти «струны» можно только имея камертон — Бога: только у Него — тот самый «точный звук», от которого и можно оттолкнуться и выстроить весь остальной музыкальный лад.
«Готовность сердца» — это собранность всех сил души и тела воедино. Но эта готовность — не формальная, а «иерархическая»: потому что в центре — Сам Бог как «первая скрипка» оркестра, или ещё точнее — Сам Дирижёр.
И дальше псалом выводит нас на совершенно новый, неожиданный уровень. Казалось бы, струны настроены, Дирижёр на месте, и мы уже готовы слышать музыку, от которой ждём, что она будет услаждать наш слух. Но что говорит дальше псалом? То, что теперь всё пойдёт совершенно не так, как мы предполагаем.
Вторая половина псалма — изумлённая растерянность Давида. Потому что там, где ожидалась явная «рука Божия», прямая помощь свыше — ничего подобного не произошло. И Давид говорит: что происходит, Господи? Ты — где? Где помощь Твоя?.. Пророк неожиданно упирается в непреодолимые препятствия: тупик, и всё! Вроде бы всё так позитивно и вдохновенно начиналось — и тут на тебе! И вот что говорит Давид: «Не Ты ли... отринул нас и не выходишь с войсками нашими?» Бог никуда не «пропал» — но «скрылся», «спрятался». И это — вовсе не знак того, что «теперь всё пропало», Давид не обрушивается в отчаяние и безнадёжность, но, напротив, поднимает голову и уверенно говорит: «С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших!»
Это и есть — сила веры. Когда все обстоятельства — против тебя, и нет ни малейшего просвета — в этот самый момент вера побуждает поднять голову как можно выше и начать действовать так, как если бы всесильный Бог был буквально впритык к твоей спине!
И — как мы знаем из библейской истории — именно после такого решения, с точки зрения житейской логики — совершенно безумного — Бог вдруг действительно появляется и всё складывается самым лучшим образом.
Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

Апостол Иоанн Богослов
1 Ин., 69 зач., I, 8 - II, 6.

Комментирует священник Стефан Домусчи.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА, священник Стефан Домусчи. Христианство нередко воспринимается как религия, в основном сосредоточенная на теме греха. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос звучит в отрывке из 1-й и 2-й глав 1-го соборного послания апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
Глава 1.
8 Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас.
9 Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас.
Глава 2.
1 Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника;
2 Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира.
3 А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди.
4 Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины;
5 а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.
6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал.
Любой, кто на протяжении долгого времени общался на религиозные темы с людьми неверующими, подтвердит предположение, сделанное нами в начале передачи. В какой-то момент споров на религиозные темы неверующий обязательно задаёт вопрос: почему у вас так много говорят о грехах? Куда ни ступи, что ни сделай — всё грех. Неужели в жизни нет ничего хорошего? Это тем более непривычно светскому человеку, ведь даже в учебниках по этике о грехах обычно не говорят. Максимум говорят о пороке, но и то лишь теоретически. В христианстве же, какую духовную книгу ни возьми, она практически всегда будет содержать разговор о грехе. Конечно, это некоторое преувеличение, мы много говорим о самых разных вещах, но в то же время тема греха действительно занимает довольно большую часть нашей проповеди. Само по себе это упоминание, конечно, ещё ничего не говорит о христианстве содержательно, но у людей создаётся устойчивое ощущение, что их всё время в чём-то обвиняют, а этого наши современники очень не любят.
Отрывок, который мы сейчас услышали, тоже говорит о грехе. Его автор евангелист Иоанн Богослов призывает учеников не думать о своей безгрешности и напротив, помнить, что мы несовершенны. Однако, тут же нас ждёт неожиданный поворот. Дело в том, что, напомнив ученикам о грехах, апостол говорит им и о возможности прощения и очищения от всякой неправды. Более того, оказывается, что и пишет это он не для того, чтобы вогнать учеников в уныние, снова и снова напоминая им об их несовершенстве. Его цель в том, чтобы ученики не грешили. И уж если кто согрешил — обратился бы к Иисусу Христу как к ходатаю перед Отцом. Для апостола важно, что и те, кто обличает мир, постоянно напоминая ему о грехах, тоже должны это делать не просто так, из желания уязвить, но ради того, чтобы после напоминания о грехах, сообщить благую весть об искуплении, дарованном во Христе. Всякое наше обращение, даже указывающее на грехи, должно быть связано с Евангелием как с благой вестью.
Порой мы действительно довольно много говорим о духовных проблемах — это факт. Но сам по себе он ещё ничего не доказывает, потому что о грехе можно говорить по-разному. Правильный подход к подобным разговорам демонстрирует в сегодняшнем чтении апостол Иоанн Богослов. Он говорит, что подлинное узнавание Бога невозможно без узнавания себя и своих несовершенств. Но осознав в себе эти несовершенства, мы призваны принести их ко Христу, покаяться и, получив прощение, жить в Его любви, стремясь быть верными Его слову.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов
Поможем ребятам из центра «Милосердия» делать успехи в развитии
Самостоятельно передвигаться, кататься на велосипеде, поднять чашку или взяться за ручку двери. Привычные действия, которые для восьмилетнего Ильи стали настоящей победой. С рождения он преодолевает непростой диагноз — детский церебральный паралич и вопреки прогнозам делает успехи. Помогают ему поддержка близких и специалисты в Марфо-Мариинском медицинском центре «Милосердие», куда родители мальчика обратились 4 года назад.
До прихода сюда у Ильи мало что получалось. Но регулярные занятия принесли плоды. Мальчика впервые поставили на ноги. Он научился передвигаться в ходунках и управлять инвалидной коляской. На этом достижения не заканчиваются — теперь Илья умеет контролировать свою реакцию на раздражители. Если раньше он боялся громких звуков или вздрагивал даже от шорохов, то сейчас может сконцентрироваться на задаче в шумной обстановке.
Эти навыки помогают Илье успешно учиться в первом классе обычной школы и чувствовать себя уверенно. Он хорошо читает по слогам и пересказывает тексты. А ещё очень любознателен. Особенно, если дело касается техники и автомобилей.
Развиваться и брать новые высоты Илье помогают ЛФК-специалист, эрготерапевт и логопед, с которыми он занимается в Марфо-Мариинском медицинском центре «Милосердие». 15 лет эта организация оказывает помощь детям с ДЦП и тяжелобольным ребятам.
Поддержать необходимый и важный проект можно на сайте центра.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов















