08 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить.
09 И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня.
11 А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени,-
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
15 И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем,
16 которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины,- потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.
08 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить.
09 И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня.
11 А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени,-
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
15 И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем,
16 которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины,- потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.
08 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить.
09 И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня.
11 А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени,-
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
15 И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем,
16 которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины,- потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.
08 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить.
09 И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня.
11 А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени,-
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
15 И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем,
16 которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины,- потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.
01 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
02 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
03 Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
04 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
05 Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
06 И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет,- Иаков и весь род его с ним.
07 Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
01 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
02 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
03 Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
04 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
05 Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
06 И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет,- Иаков и весь род его с ним.
07 Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
01 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
02 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
03 Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
04 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
05 Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
06 И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет,- Иаков и весь род его с ним.
07 Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
01 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
02 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
03 Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
04 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
05 Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
06 И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет,- Иаков и весь род его с ним.
07 Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
01 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака.
02 И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков! Иаков! Он сказал: вот я.
03 Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий;
04 Я пойду с тобою в Египет, Я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои.
05 Иаков отправился из Вирсавии; и повезли сыны Израилевы Иакова отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его.
06 И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет,- Иаков и весь род его с ним.
07 Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих и весь род свой привел он с собою в Египет.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
16 и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
18 потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
23 Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
24 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
27 потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь;
28 она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
35 [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же".
01 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
02 потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
03 Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
04 и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
05 Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
16 и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
18 потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
23 Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
24 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
27 потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь;
28 она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
35 [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же".
01 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
02 потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
03 Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
04 и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
05 Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
16 и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
18 потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
23 Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
24 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
27 потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь;
28 она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
35 [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же".
01 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
02 потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
03 Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
04 и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
05 Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
16 и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
18 потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
23 Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
24 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
27 потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь;
28 она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
35 [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же".
01 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
02 потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
03 Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
04 и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
05 Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
15 Сын мой! если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце;
16 и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое.
17 Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем;
18 потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна.
19 Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь.
20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом:
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище.
22 Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится.
23 Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума.
24 Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем.
25 Да веселится отец твой и да торжествует мать твоя, родившая тебя.
26 Сын мой! отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои,
27 потому что блудница - глубокая пропасть, и чужая жена - тесный колодезь;
28 она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников.
29 У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза?
30 У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
31 Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:
32 впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид;
33 глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное,
34 и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты.
35 [И скажешь:] "били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же".
01 Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними,
02 потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их.
03 Мудростью устрояется дом и разумом утверждается,
04 и с уменьем внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом.
05 Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою.
 Поделиться
Поделиться

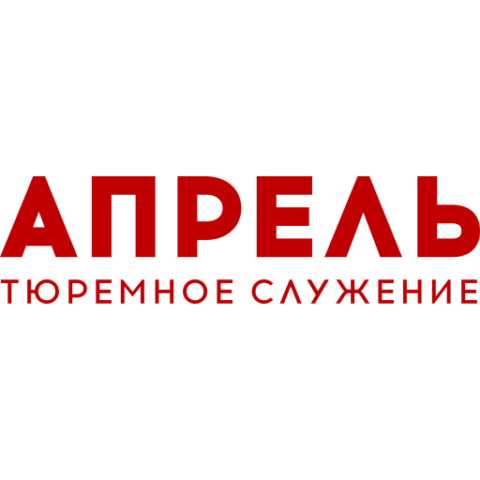


08 Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: "не повреди ее, ибо в ней благословение"; то же сделаю Я и ради рабов Моих, чтобы не всех погубить.
09 И произведу от Иакова семя, и от Иуды наследника гор Моих, и наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там.
10 И будет Сарон пастбищем для овец и долина Ахор - местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня.
11 А вас, которые оставили Господа, забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Мени,-
12 вас обрекаю Я мечу, и все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и избирали то, что было неугодно Мне.
13 Посему так говорит Господь Бог: вот, рабы Мои будут есть, а вы будете голодать; рабы Мои будут пить, а вы будете томиться жаждою;
14 рабы Мои будут веселиться, а вы будете в стыде; рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.
15 И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет иным именем,
16 которым кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины; и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины,- потому что прежние скорби будут забыты и сокрыты от очей Моих.