01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
11 Так говорит Господь, Святый Израиля и Создатель его: вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих?
12 Я создал землю и сотворил на ней человека; Я - Мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я.
13 Я воздвиг его в правде и уровняю все пути его. Он построит город Мой и отпустит пленных Моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф.
14 Так говорит Господь: труды Египтян и торговля Ефиоплян, и Савейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими; они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря: у тебя только Бог, и нет иного Бога.
15 Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель.
16 Все они будут постыжены и посрамлены; вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов.
17 Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе; вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков.
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
21 Родил кто глупого,- себе на горе, и отец глупого не порадуется.
22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
24 Мудрость - пред лицем у разумного, а глаза глупца - на конце земли.
25 Глупый сын - досада отцу своему и огорчение для матери своей.
26 Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои - благоразумным.
01 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
02 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
03 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
04 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
05 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
21 Родил кто глупого,- себе на горе, и отец глупого не порадуется.
22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
24 Мудрость - пред лицем у разумного, а глаза глупца - на конце земли.
25 Глупый сын - досада отцу своему и огорчение для матери своей.
26 Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои - благоразумным.
01 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
02 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
03 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
04 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
05 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
21 Родил кто глупого,- себе на горе, и отец глупого не порадуется.
22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
24 Мудрость - пред лицем у разумного, а глаза глупца - на конце земли.
25 Глупый сын - досада отцу своему и огорчение для матери своей.
26 Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои - благоразумным.
01 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
02 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
03 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
04 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
05 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
21 Родил кто глупого,- себе на горе, и отец глупого не порадуется.
22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
24 Мудрость - пред лицем у разумного, а глаза глупца - на конце земли.
25 Глупый сын - досада отцу своему и огорчение для матери своей.
26 Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои - благоразумным.
01 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
02 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
03 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
04 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
05 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
18 Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего.
19 Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падения.
20 Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду.
21 Родил кто глупого,- себе на горе, и отец глупого не порадуется.
22 Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости.
23 Нечестивый берет подарок из пазухи, чтобы извратить пути правосудия.
24 Мудрость - пред лицем у разумного, а глаза глупца - на конце земли.
25 Глупый сын - досада отцу своему и огорчение для матери своей.
26 Нехорошо и обвинять правого, и бить вельмож за правду.
27 Разумный воздержан в словах своих, и благоразумный хладнокровен.
28 И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои - благоразумным.
01 Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного.
02 Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
03 С приходом нечестивого приходит и презрение, а с бесславием - поношение.
04 Слова уст человеческих - глубокие воды; источник мудрости - струящийся поток.
05 Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы ниспровергнуть праведного на суде.
 Поделиться
Поделиться

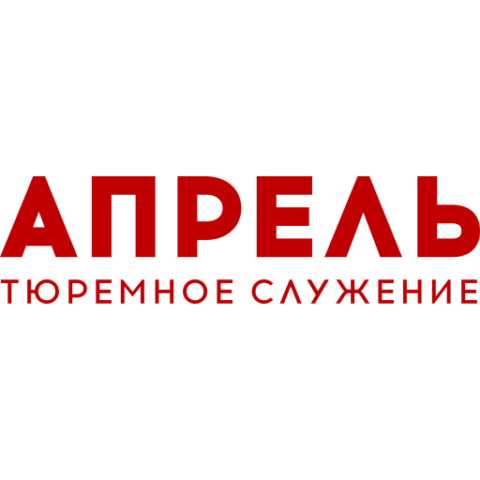



01 И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я.
02 Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.
03 Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог.
04 На третий день Авраам возвел очи свои, и увидел то место издалека.
05 И сказал Авраам отрокам своим: останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам.
06 И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего; взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе.
07 И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой! Он отвечал: вот я, сын мой. Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
08 Авраам сказал: Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе.
09 И пришли на место, о котором сказал ему Бог; и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров.
10 И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего.
11 Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я.
12 Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня.
13 И возвел Авраам очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо [Исаака], сына своего.
14 И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится.
15 И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба
16 и сказал: Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, [для Меня,]
17 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих;
18 и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего.