05 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
06 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
07 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы.
08 Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
09 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
05 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
06 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
07 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы.
08 Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
09 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
05 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
06 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
07 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы.
08 Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
09 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
05 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
06 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
07 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы.
08 Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
09 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
20 И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он весьма;
21 сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет; узнаю.
22 И обратились мужи оттуда и пошли в Содом; Авраам же еще стоял пред лицем Господа.
23 И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым [и с праведником будет то же, что с нечестивым]?
24 может быть, есть в этом городе пятьдесят праведников? неужели Ты погубишь, и не пощадишь [всего] места сего ради пятидесяти праведников, [если они находятся] в нем?
25 не может быть, чтобы Ты поступил так, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым; не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?
26 Господь сказал: если Я найду в городе Содоме пятьдесят праведников, то Я ради них пощажу [весь город и] все место сие.
27 Авраам сказал в ответ: вот, я решился говорить Владыке, я, прах и пепел:
28 может быть, до пятидесяти праведников недостанет пяти, неужели за недостатком пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: не истреблю, если найду там сорок пять.
29 Авраам продолжал говорить с Ним и сказал: может быть, найдется там сорок? Он сказал: не сделаю того и ради сорока.
30 И сказал Авраам: да не прогневается Владыка, что я буду говорить: может быть, найдется там тридцать? Он сказал: не сделаю, если найдется там тридцать.
31 Авраам сказал: вот, я решился говорить Владыке: может быть, найдется там двадцать? Он сказал: не истреблю ради двадцати.
32 Авраам сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти.
33 И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом; Авраам же возвратился в свое место.
17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.
19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
22 Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость.
23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
24 Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
26 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он - печь злобы].
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа.
01 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
02 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
03 Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь.
04 Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
05 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
06 Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного - ни обола.]
07 Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному - уста лживые.
08 Подарок - драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
09 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
11 Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.
19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
22 Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость.
23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
24 Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
26 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он - печь злобы].
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа.
01 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
02 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
03 Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь.
04 Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
05 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
06 Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного - ни обола.]
07 Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному - уста лживые.
08 Подарок - драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
09 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
11 Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.
19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
22 Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость.
23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
24 Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
26 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он - печь злобы].
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа.
01 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
02 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
03 Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь.
04 Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
05 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
06 Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного - ни обола.]
07 Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному - уста лживые.
08 Подарок - драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
09 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
11 Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.
19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
22 Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость.
23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
24 Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
26 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он - печь злобы].
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа.
01 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
02 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
03 Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь.
04 Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
05 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
06 Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного - ни обола.]
07 Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному - уста лживые.
08 Подарок - драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
09 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
11 Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
17 Путь праведных - уклонение от зла: тот бережет душу свою, кто хранит путь свой.
18 Погибели предшествует гордость, и падению - надменность.
19 Лучше смиряться духом с кроткими, нежели разделять добычу с гордыми.
20 Кто ведет дело разумно, тот найдет благо, и кто надеется на Господа, тот блажен.
21 Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению.
22 Разум для имеющих его - источник жизни, а ученость глупых - глупость.
23 Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знание в устах его.
24 Приятная речь - сотовый мед, сладка для души и целебна для костей.
25 Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти.
26 Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому рот его.
27 Человек лукавый замышляет зло, и на устах его как бы огонь палящий.
28 Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
29 Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый;
30 прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство; закусывая себе губы, совершает злодейство; [он - печь злобы].
31 Венец славы - седина, которая находится на пути правды.
32 Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.
33 В полу бросается жребий, но все решение его - от Господа.
01 Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором.
02 Разумный раб господствует над беспутным сыном и между братьями разделит наследство.
03 Плавильня - для серебра, и горнило - для золота, а сердца испытывает Господь.
04 Злодей внимает устам беззаконным, лжец слушается языка пагубного.
05 Кто ругается над нищим, тот хулит Творца его; кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным [а милосердый помилован будет].
06 Венец стариков - сыновья сыновей, и слава детей - родители их. [У верного целый мир богатства, а у неверного - ни обола.]
07 Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному - уста лживые.
08 Подарок - драгоценный камень в глазах владеющего им: куда ни обратится он, успеет.
09 Прикрывающий проступок ищет любви; а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга.
10 На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого сто ударов.
11 Возмутитель ищет только зла; поэтому жестокий ангел будет послан против него.
12 Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью.
13 Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло.
14 Начало ссоры - как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она.
15 Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного - оба мерзость пред Господом.
16 К чему сокровище в руках глупца? Для приобретения мудрости у него нет разума. [Кто высоким делает свой дом, тот ищет разбиться; а уклоняющийся от учения впадет в беды.]
17 Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчастья.
 Поделиться
Поделиться

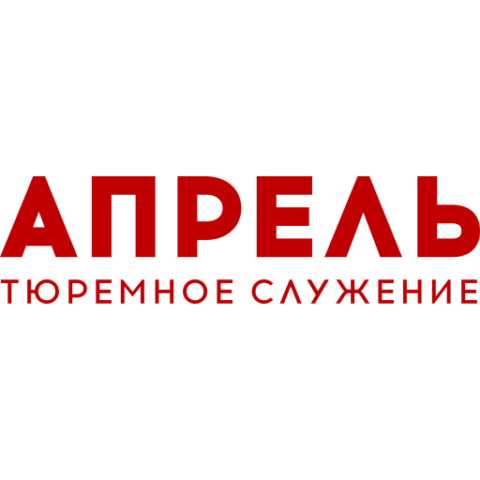



05 Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней.
06 Я, Господь, призвал Тебя в правду, и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников,
07 чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме - из темницы.
08 Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей истуканам.
09 Вот, предсказанное прежде сбылось, и новое Я возвещу; прежде нежели оно произойдет, Я возвещу вам.
10 Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы, плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на них.
11 Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар; да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор.
12 Да воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
13 Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность; воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против врагов Своих.
14 Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё;
15 опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу; и реки сделаю островами, и осушу озера;
16 и поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути - прямыми: вот что Я сделаю для них и не оставлю их.